ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ (учебное пособие 2011)
Главные вкладки

ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ
Москва
Фонд «Мир»
2011
А.Г. Дугин
Москва
Академический Проект
2011
УДК 316;39
ББК 60.5;63.5
Д80
Печатается по решению кафедры Социологии
международных отношений социологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
РЕЦЕНЗЕНТЫ:
С.И. Григорьев, доктор социол. наук;
И.Ю. Киселев, доктор социол. наук
НАУЧНАЯ РЕДАКЦИЯ:
Н.В. Мелентьева, канд. филос. наук
Дугин А.Г.
Этносоциология. — М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2011. — 639 с. — (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-1319-3 (Академический Проект)
ISBN 978-5-919840-03-9 (Фонд «Мир»)
Книга представляет собой систематическое изложение основных принципов и аналитических стратегий дисциплины «Этносоциология», которая рассматривается как самостоятельный раздел социологии, базирующийся на исследовании трансформаций общества от простейших этнических групп до комплексных современных социальных систем (включая «гражданское общество», «общество постмодерна» и т. п.). В монографии анализируются основные зарубежные и отечественные источники и школы, оказавшие влияние на становление этносоциологии как самостоятельной и оригинальной научной дисциплины. Автор предлагает углубленный философский подход к категориям «этнос», «народ», «нация», «общество», дает четкие определения этих понятий и выстраивает обобщающую этносоциологическую таксономию. Книга отличается строгой последовательностью, широким спектром привлекаемых знаний, использованием разнообразных методологий этносоциологического анализа, сведенных в единую легко воспринимающуюся систему. Значительное внимание уделяется применению этносоциологического инструментария к анализу российского общества.
Книга может быть рекомендована для специалистов в области социологии, философии, политологии, культурологии, этнологии, международных отношений, государства и права, а также всем тем, кто следит за новейшими тенденциями в гуманитарной науке.
ISBN 978582911319-3
ISBN 9785919840-03-9
Д80
© Дугин А.Г., 2011
© Оригиналмакет, оформление. Академический Проект, 2011
© Фонд «Мир», 2011
УДК 316;39
ББК 60.5;63.5
РАЗДЕЛ 1
ВВЕДЕНИЕ В ЭТНОСОЦИОЛОГИЮ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ
Глава 1
ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ
§ 1. Краткий экскурс в классическую социологию
Основные понятия социологии. Общее и частное
Этносоциология изучает этнос с помощью социологического аппарата, и поэтому нам понадобятся элементарные знания социологической дисциплины. Сделаем краткий экскурс в основы социологии.
Социология — дисциплина, которая рассматривает общество как целое, предшествующее его частям, как органическое, а не механическое явление; это дисциплина, которая делает акцент на общем, т. е. на социуме, а не на частном, т. е. индивидууме, отдельной личности. Личностью занимается психология. Социология же занимается обществом в целом. Именно в этом и заключается главный нерв социологии: из общего выводится частное.
Социальные страты и группы
Основная конструкция социологического знания — это две оси X и Y, на которых размещаются социальные страты (ось Y) и социальные группы (X).

Схема 1. Базовая модель социологии
Конечно, социология — устоявшаяся научная дисциплина; в ней есть множество теорий, концепций, методов изучения общества, но основной смысл, научная парадигма, эпистема социологии сводится к данной простейшей схеме1.
Положение человека относительно этих двух осей определяет его статус. Статус состоит из набора ролей.
Ось Y, на которой размещаются страты или классы (понятые в социологическом ключе), называется осью социальной стратификации. Страты с точки зрения социологии первичны по отношению к другим формам.
На оси Х располагаются социальные группы. Социальные группы — это объединения людей по признакам профессиональной, гендерной, возрастной, географической, этнической, административной принадлежности, выстроенные не по иерархическому принципу. Страты, в свою очередь, предполагают иерархию.
Наложение двух осей дает базовое представление о структуре общества и места в нем любой взятой для рассмотрения единицы — коллективной или индивидуальной. Каждое социальное явление, каждый институт и каждую личность можно разложить на составляющие по этим осям. Такое разложение и есть социологический анализ, главное профессиональное занятие социолога.
Социология оперирует с понятием неравенства, количественный показатель которого откладывается по оси Y. На оси Х отмечается качественный показатель — принадлежность к той или иной социальной группе или сразу к нескольким группам.
Cтраты описывают социальную иерархию, поэтому ось Y — вертикальная. Группы сами по себе еще ничего не говорят о высшем или низшем положении, поэтому ось, на которой они располагаются (ось Х — горизонтальная). То, что человек принадлежит к группе пенсионеров, православных христиан или мусульман, никак не делает пенсионера или христианина выше или ниже друг друга. Поэтому группы располагаются горизонтально или накладываются подчас друг на друга. Человек может быть пенсионером или христианином, или и тем и другим вместе.
С точки зрения страты человек может быть либо начальником, богатым, образованным, известным, либо подчиненным, бедным, недоученным и никому не известным обывателем. При некоторой относительности подхода общество в целом можно выстроить по шкале стратификации. Обычно социологи выделяют три основных класса — высший, средний и низший. Принадлежность к каждому из них оценивается по вполне четким критериям — доходы, количество подчиненных, годы образования и ученая степень, индекс цитирования. Человеку, у которого в кармане есть сто рублей и который смотрит на побирающегося нищего, может казаться, что он «богат», но социолог его вернет к реальности, спросив о ежемесячном доходе. Так же обстоит дело и с известностью: кому-то может показаться, что он «знаменит», если его знает пара-тройка компаний сверстников и он пользуется в них успехом. Замер индекса цитирования все расставит по местам, если упоминаний об этом человеке в релевантных источниках не окажется.
Метафора театра
С точки зрения социологии человек есть не что иное, как статус или совокупность статусов, статуарный набор. Внутри статуса содержится набор ролей. Совокупность статусов, носителем которых является один и тот же индивидуум, представляет собой совокупность ролевых наборов. Поэтому в основе социологического метода лежит метафора театра. По словамШекспира: «Весь мир театр, и люди в нем актеры». Личной жизни актера не существует. Актер живет в своей роли. Эти роли бывают разными. Один и тот же актер может играть злодея или героя, влюбленного юношу или жадного ростовщика. То, что находится под маской за пределами сцены, в нормальном случае не представляет интереса ни для театра, ни для зрителей, ни для антрепренеров.
Точно так же обстоит дело и в социологии. В ней изучаются роли и хорошо ли или плохо они играются. Вопрос «кем играются» социологу безразличен. В любой девушке, например, социолог видит актрису и ее способность справляться с ролями возлюбленной, жены, невесты, матери, дочери, секретаря, будущего ученого, гимнастки, пловчихи, поварихи и т. д. Иными словами, в человеке социолог видит набор социальных статусов.

Схема 2. Статус в социологических осях координат
Человек как производная от общества
С социологической точки зрения человек есть производная от двух осей. В зависимости от того, где мы ставим точку на схеме, определяется суть социологического человека. Статус в социологии превалирует над личными качествами.
Человек является производной величиной, потому что, будучи статуарным набором, он не создает его сам. Он принимает его, он в него вписывается. Создает его всегда что-то другое.
Человек в социологии есть продукт, результат, деталь в огромной конструкции. Не он пишет драмы, не он является режиссером. Он просто играет роли, которые пишет всегда кто-то еще. Человек не строит театр. Театр заведомо построен: он называется «обществом». Социологи не ставят перед собой задачи выяснить, кто является создателем общества. Это слишком абстрактный и философский вопрос. Есть очевидный факт: когда мы смотрим на историю, когда мы имеем дело с людьми, мы всегда видим общество. Мы встречаем его везде — у архаических, примитивных и высокоразвитых народов. И общество всегда выстроено на коллективных, сверхиндивидуальных началах. Везде — и в сверхсложных, и в примитивных обществах — есть страты и есть группы.
Кто придумал общество? Социологи этого не знают и этим вопросом не задаются. Общество абсолютно, общество было всегда, и оно всегда было первично по отношению к человеку. Человек есть продукт общества, социологическая конвенция. Человека вне общества не существует как явления. Мы знаем человека только как социального человека, т. е. носителя социальных статусов.
Учитывая этот принципиальный подход, мы и приступаем к изучению этноса.
§ 2. Введение понятия «этнос». Дефиниция
Этимология слова «этнос» и его синонимы
«Этнос» — греческое слово, ἔθνος. Оно означает «народ» наряду с другими греческими синонимами, такими как γένος (генос), φυλή («фюлэ»), «δήμος (демос) и λαός (лаос). Все эти слова — «этнос», «генос», «фюлэ», «демос» и «лаос» — имеют смысловые нюансы.
«Этнос» — это одно из названий народа, постепенно ставшее научным термином. Греческое «ἔθνος» близко к слову «ἔθος» («этос»), от которого образовано понятие «этика». «Этос» означает «нрав», «поведение», «мораль». Этика — смысловой синоним морали. Архаический древнегреческий корень «ἔθ», от которого образованы оба слова «этнос» и «этос», означал «населенную местность», «местность, в которой находится деревня или поселение», или «поселение сельского толка», но не город, т. к. город — это πόλις, полис, производное от которого — «политика».
Таким образом, в понятии «этнос» объединяются пространственное представление о населенной (сельской) местности (ἔθ), понятия «нрава», «морали» и «обычая» (ἔθος) и значение «народа» (ἐθνος). Этнос — это органическое общество, находящееся на определенной территории и отличающееся общей моралью.
Общество бывает разным: сложным (комплексным) или простым (примитивным). Этнос — это простое общество, органически (естественно) связанное с территорией и скрепленное общей нравственностью, обычаями, знаковой системой.
Определение этноса (С.М. Широкогоров)
На русском языке в научный оборот термин «этнос» ввел Сергей Михайлович Широкогоров (1887–1939) — великий русский этнолог, основатель русской этнологии, повлиявший на русского историка, этнолога и евразийца Льва Николаевича Гумилева (1912–1992).
Вот как С.М. Широкогоров определяет этнос:
«Этнос есть группа людей:
• говорящих на одном языке;
• признающих свое единое происхождение;
• обладающих комплексом обычаев, укладов жизни, хранимых и освященных традицией, отличаемых от обычаев других групп»2.
Обычаи, освященные традицией и отличаемые от других групп, совершенно ясно указывают на «этос». То есть наличие специфических традиций, обычаев и нравов составляет одно из главных определений этноса. Таким образом, нравственное начало, мораль, является одной из существенных сторон этноса. Этнос основан на единстве нравов, синхронизме моральных оценок.
Вспомним замечательное наблюдение Ф. Ницше (1844–1900) из книги «Генеалогия морали»3, где он предлагает обратить внимание на то, насколько отличаются нравы разных народов. Для христианских этносов есть истины вроде «возлюби ближнего своего», «не убий». А для иранцев, например, этика (этос) выражается иначе — «хорошо стрелять из лука и говорить правду». Разные этносы имеют разные этосы.
Обратим внимание, что в определении Широкогорова комплекс обычаев, уклад жизни и традиции, характеризующие данный этнос, обязательно отличаются от обычаев, укладов и традиций других этносов. В самом определении этноса и этоса заложена идея множественности этносов и множества этосов, нравов, моралей. Поэтому выражение «общечеловеческий этнос» лишено смысла, т. к. ему нечему противопоставить себя. Общечеловеческого этноса нет. Этнос всегда конкретен.
Можно говорить о глобальном социуме в качестве искусственной социологической и политической конструкции, но о глобальном этносе говорить нельзя. Социум можно теоретически представить себе как нечто глобальное и универсальное, а этнос всегда конкретен и партикулярен. В центре этноса, как и в центре нравственности, всегда лежит утверждение особой системы ценностей.
Единство языка также является качественной особенностью этноса. Люди, говорящие на одном языке, живущие в одной и той же системе знаков, смыслов и значений, очерчивают особую местность в сфере идей, нравов, психологии, социальных отношений, которые их объединяют, интегрируют по культурному признаку. Этнос создает тем самым духовный мир, все участники которого пребывают в общем пространстве смысла.
Есть такое выражение — «русский мир». Оно описывает границы, в которых распространено общение на русском языке. Язык, как сказал Мартин Хайдеггер (1889–1976), есть «дом бытия»4. И этот дом всегда этничен. Язык, общность языка составляют единство общей местности в сфере духа. Не важно, принадлежит ли эта местность к одному или двум государствам, лежат ли между этносами политические или религиозные границы. Если люди говорят и думают на одном языке, то они находятся в пространстве того этноса, к которому принадлежит язык.
С.М. Широкогоров говорит о признании этносом своего единого происхождения. Существует ли единое происхождение какой-то общности людей или нет? С точки зрения социологии и истории это трудноразрешимый вопрос, потому что сплошь и рядом народы, этнические культуры, традиции обращаются к теме своего мифического происхождения. Платон, например, считал себя потомком бога Посейдона.
В истоке этноса всегда лежит миф. Например, тибетцы считают, что их предками были красные обезьяны и поэтому тибетцами являются те, кто считает себя потомками красных обезьян5. У каждого народа — свои первопредки в культуре, и важно не то, был ли этот первопредок в действительности или нет: этого никто не знает. Важно иное: как, с какой степенью интенсивности этнос осознает и переживает свое общее происхождение (пусть чисто мифологическое). Многие, кто записываются этнически «русскими», являются представителями других (чаще всего коренных) народов Российской империи, и такая «русскость» наряду с русскоязычием и причастностью к русской культуре формирует этнос.
Этнос как открытая общность
Реальность генетической общности корней происхождения не имеет
большого влияния на этническое самосознание. Поэтому Широкогоров говорит не об «имеющих единое происхождение», а именно о «признающих» его общностях людей. Другими словами, этнос, как явствует из определений Широкогорова, является в значительной степени вопросом выбора. Этнос можно поменять, потому что, признав иное происхождение, выразив верность иным первопредкам, заговорив на ином языке и приняв участие в иных ритуалах и обрядах, человек осуществляет акт этнической трансгрессии, переходит из одного этноса в другой.
Если человек признает происхождение от первопредка — красной обезьяны, исповедует буддийскую традицию, выучил тибетский, поселился на Тибете и крутит буддистскую мельницу, то с точки зрения этноса он и есть тибетец, даже если он после окончания социологического факультета МГУ отправился в этнологическую или религиоведческую экспедицию и решил из нее обратно не возвращаться.
Человек способен интегрироваться в этнос. Этнос — сфера открытая. Даже самый закрытый и самый иерархичный этнос имеет пути, обряды и нормативные сценарии для интеграции в него. В этнос можно войти.
Представим ситуацию, что представители одного этноса потеряли маленького ребенка в лесу, а представители другого его нашли, пожалели, взяли к себе, и он стал представителем этого этноса. Этническая идентичность его будет формироваться в новом этносе, частью которого он и будет являться.
Определение этничности (М. Вебер)
Второе определение этноса, или этничности, дал Макс Вебер (1864–1920), классик социологии. Он утверждал, что этничность есть принадлежность к этнической группе, объединенной культурной однородностью и верой в общее происхождение6. Мы видим здесь определение, аналогичное дефиниции Широкогорова, за исключением тематики языка. Характерно, что у Вебера, как и у Широкогорова, этнос определяется не просто общим происхождением, но верой в общее происхождение. Этнос есть концепт и волевое решение человеческого духа, а не биологическая предопределенность (впрочем, само понятие «биологии» требует тщательного социологического анализа: так ли уж достоверны объяснения общественных закономерностей через обращения к телесным, зоологическим или физиологическим особенностям организмов?).
Теории этноса в российской науке. Теория этногенеза
Льва Гумилева
Крупнейший исследователь этноса и классик этносоциологии Лев Николаевич Гумилев был, с одной стороны, последователем С.М. Широкогорова, и адептом евразийской философской и культурологической школы — с другой. Лев Николаевич называл себя «последним евразийцем»7. Мало кто внес столь значительный вклад в изучение этноса и популяризацию концептов «этноса» и «этничности», как Л.Н. Гумилев.
Подходы к этносу Гумилева и Широкогорова можно рассматривать как тенденции в рамках одного направления, которое (в отличие от марксистского классового подхода) рассматривает этнос как органическое жизненное единство. Этнос воспринимается в нем как живое существо, в отличие от отдельного человека коллективное, огромное и живущее в течение длительного времени. Человек ограничен своим телом. Возможности этноса намного шире: он может производить много различных тел. Но так же, как и у живого человека, согласно Гумилеву, у этноса есть начало, рождение, подъем, зрелость, угасание и старость. Из таких циклов состоят жизни и судьбы этноса.
Главным произведением Гумилева, посвященным этносу, является книга «Этногенез и биосфера Земли»8. С точки зрения подхода к этносоциологии это самое серьезное, глубокое и последовательное сочинение. Гумилев касался темы этносов практически во всех своих исторических произведениях, поэтому все они представляют для этносоциологии громадный интерес и являются основополагающими.
Теория этноса Ю.В. Бромлея
Еще одно направление российской этносоциологии связано с трудами советского академика Ю.В. Бромлея (1921–1990)9, который занимался проблемами этноса в контексте официальной советской науки, основывавшейся на догмате о классовой и экономической природе обществ (в том числе архаических). Чтобы остаться в рамках приемлемого, ему приходилось подстраивать исследования этнических явлений под клише советского марксизма, конкретику политического момента, интернационалистскую риторику и идею прогресса, из которых следовало, что такого явления, как «этнос», в СССР нет вообще и, возможно, его нет в принципе на современной стадии развития общественных отношений в капиталистических и тем более социалистических странах. Работы Бромлея сегодня практически невозможно читать, т. к. через сложнейшие марксистские догматические референции (смысл которых почти утрачен) прорваться к тому, что он, собственно, хотел сказать, невероятно трудно. К сожалению, эта «невнятность» присуща и последующим поколениям «этнологов» школы Бромлея, отличающихся усложненной и необоснованной схоластичностью терминологии и повышенной зависимостью от политической конъюнктуры (т. к. этническая проблема и в современной России представляет довольно болезненную для правительства и общества тему), что чрезвычайно вредит научной содержательности.
Подробнее отечественные источники этносоциологических знаний и их структуру мы рассмотрим в отдельной главе10.
Зарубежная этносоциология
Зарубежная этносоциология восходит к М. Веберу, который ввел в научный оборот понятие «этницитет» (Ethnizität), что по-немецки означает «этничность».
В Германии была также создана первая собственно этносоциологическая школа, которая стала использовать термин «этносоциология». Ее основателями были Рихард Турнвальд (1869–1954) и Вильгельм Мюльман (1904–1988), заложившие концептуальную основу этой дисциплины.
Прямым аналогом германской этносоциологии была американская школа культурной антропологии, основанная в США эмигрантом из Германии Францем Боасом (1858–1942) и давшая целую плеяду крупнейших этнологов, социологов и антропологов с мировыми именами.
В Англии этнология и антропология были также неразрывно переплетены с социологическим подходом. Эта традиция связана с Брониславом Малиновским (1884–1942) и Альфредом Рэдклиффом-Брауном (1881–1955).
Во Франции ближе всего к этносоциологии стоит крупнейший этнолог и философ, основатель «структурной антропологии» Клод Леви-Стросс (1908–2009).
Более подробный анализ их идей будет осуществлен в отдельной главе11.
Этнос и раса
Этнос в некоторых языках рассматривается как синоним «расы», а этническая принадлежность — как синоним расовой принадлежности. Например, в немецком языке слова «раса» (Rasse) и «этнос» (Ethnos) имеют приблизительно одно и то же значение. Но в строгом смысле и общепринятом научном употреблении «раса» обязательно предполагает биологическое единство, удостоверенный факт принадлежности к прародителю. Поэтому строгое определение «расы» не предполагает «веру в общее происхождение».
Например, если речь идет о представителях «желтой расы», то у рассматриваемых персонажей должен быть желтый цвет кожи, узкий разрез глаз, широкие скулы, круглое лицо, специфические пятна на крестце, заметные сразу после рождения ребенка (т. н. «монгольские пятна»), черные жесткие волосы и т. д. А считает ли себя рассматриваемый индивидуум представителем «желтой расы» или нет, не имеет значения. В понятии «расы» ставится акцент на совокупности физиологических, фенотипических и генетических характеристик. Принадлежность к расе подразумевает физиологическую идентификацию телесного организма, доказанную тем или иным научным способом.
Существует множество разных методик определения расовой принадлежности. В XIX в. эти теории основывались на визуальных наблюдениях (цвет кожи, рост, пропорции членов тела, особенность роста волос и их структура) и замерах телесных пропорций12. В рамках такого подхода, называемого «антропометрией», замеряется череп, описывается строение ушей, мышц, лица. Антропометрия включает в себя кефалометрию (измерение черепа), остеоскопию (изучение длины или ширины кости) и т. п. В ХХ в. стали применять серологический метод, основанный на изучении структуры сыворотки крови13.
В настоящее время наиболее распространена генная теория, которая прослеживает расовые истоки разных людей к общим предкам (Проект «Человеческий Ген» — Human Genome Project14).
Но как бы мы ни относились к этим методам с научной точки зрения (а многие ученые оспаривают их достоверность), они совершенно точно не имеют отношения к тому, как понимается этнос в этнологии, этнографии и этносоциологии. Этнос в этносоциологии не имеет отношения к научно (с помощью тех или иных методов) верифицированному биологическому и физиологическому качеству человека. В научном контексте термин «этнос» используется без отсылки к расе. Неслучайно и у С.М. Широкогорова, и у М. Вебера речь идет именно о «признании» человеческим коллективом общего происхождения.
Например, человек считает себя русским. Вполне вероятно, что с расовой точки зрения он может принадлежать к совершенно нехарактерному для основной популяции восточных славян-великороссов антропологическому типу. Но с этнической точки зрения нет никаких сомнений в том, что он будет русским, если считает себя русским, говорит по-русски, думает по-русски, сопричастен русской культуре. Его биологическая или расовая принадлежность может быть крайне неопределенной. Но с точки зрения этносоциологии мы несомненно имеем дело с представителем русского этноса.
Поставим теперь вопрос по-другому: исключает ли этнос биологическое единство? Конечно, нет. Более того, когда люди живут рядом, говорят на одном языке, тесно и постоянно, в течение многих поколений, между собой общаются, заводят семьи и производят потомство, в их чертах появляется бросающееся в глаза сходство. В этнических средах, в этнических обществах, где этничность (в социологическом смысле — как единство языка, вера в общее происхождение, общие традиции и общий уклад жизни) сильна, входящие в этот этнос люди, как правило, воспроизводят похожих на себя людей. Но этносоциология не приписывает никакого содержательного или смыслового признака физическому сходству. Она изучает структуру общества и только общества. И общество, которое она изучает, есть общество этническое, особая разновидность общества как этноса. При этом физиологическая, биологическая, зоологическая и антропометрическая составляющие этого общества не только не ставятся во главу угла, но вообще не рассматриваются, т. к. никаких достоверных исследований (кроме расистского бреда) об их надежной связи с социальными особенностями не существует.
Этнос и нация
Не являясь расовой категорией, этнос не является и политической или юридической, правовой категорией. Отделить этнос от нации не менее важно, чем отделить его от расы.
В определениях этноса у Широкогорова и у Вебера нет никаких указаний на его политическую принадлежность, на отношение к тому или иному государству или какой-либо иной административной единице. «Нация» в классическом понимании этого термина означает граждан, объединенных политически в единое государство. Поэтому во французском языке есть устойчивый политологический термин «Etat-Nation», «государство-нация», показывающий, что нация неразрывно связана с политической системой государства, объединяет в особое образование граждан этого государства.
Не всякое государство есть «государство-нация». Государствами-нациями (или национальными государствами) являются современные государства европейского типа, чаще всего светские и основанные на политической доминации буржуазии. Только к гражданам такого современного светского (секулярного, не религиозного) буржуазного государства мы можем с полным основанием применить определение «нация». В других случаях это будет неправомочным перенесением одного смыслового комплекса на совершенно другой.
Признаки этноса мы встречаем во всех обществах — архаичных и современных, западных и восточных, организованных политически и живущих общинами. А признаки нации — только в современных, западных (по типу организации) и политизированных обществах.
Более подробно о феномене нации и его отношении к этносу мы будем говорить в отдельной главе15.
Этнос и общество
Теперь рассмотрим соотношение этноса и общества, что приведет нас напрямую к той основной реальности, которую изучает этносоциология.
Широкогоров называет этнос «группой людей», а группа людей — это форма организации общества. Таким образом, можно считать этнос особой формой общества. Но стоит обратить внимание на следующее обстоятельство. Макс Вебер, который ввел в социологический оборот понятие «этничности», не придал ему особого значения и даже указал на то, что категория «этноса» является в чем-то излишней, т. к. ничего не добавляет к классическим методам социологии. Социология изучает любые общества, в том числе и этнические, с использованием одинаковых научных инструментов, и поэтому этнос, как и любая другая форма общества, рассматривается ею на общих основаниях.
Вместе с тем, если применить к этносу систему координат классической социологии (схема 1), можно заметить весьма интересную закономерность. Этническое общество, взятое в чистом виде, как правило, обладает минимальной дифференциацией (степенью различия) по обеим осям (X и Y). Это значит, что в этническом сообществе и иерархическая стратификация (т. е. дифференциация по стратам/классам), и дифференциация по группам минимальны. Этническая группа уравнивает и объединяет всех ее членов в нечто целое, единое и нераздельное. В такой группе сведены к минимуму и различия, и иерархии, а если они и присутствуют, то не они определяют этничность и ее структуру, а то, что объединяет ее членов в единое и неделимое целое. Отсюда в структуре этноса равенство и единство всех со всеми.
Этнос — это общество, в котором коллективная идентичность максимальна, тотальна и всеобъемлюща. Эта коллективная идентичность полностью подчиняет себе все остальные формы дифференциации.
Именно по этой причине Вебер не придал «этничности» большого значения. Его социология («понимающая социология) основана на изучении индивидуального поведения и в основном сосредоточена на высокодифференцированных типах обществ (древних и современных). Этнос же не индивидуален и не дифференцирован. Если мы поместим этнос в социологическую систему координат (схема 1), то получим интересную картину: и по оси Y, и по оси X все значения будут стремиться к нулю — в этносе минимальны стратификация и деление на группы.
Из этого можно сделать два вывода.
Первый вывод (в духе Вебера или марксистской социологии, сосредоточивающей основное внимание на классовой и экономической дифференциации) сводится к тому, что этнос не заслуживает особого интереса социолога, т. к. основные характеристики общества как такового у него минимальны или стремятся к нулю.
Второй вывод, напротив, исходящий из этноса как главной и первичной матрицы, на которой строятся и из которой проистекают все более сложные и дифференцированные типы общества, утверждает именно этническое общество как базовое и основное, заслуживающее по этой причине приоритетного изучения. Такой позиции придерживаются этносоциологи и культурные антропологи. Именно эта позиция лежит в основе этносоциологической дисциплины, которая, будучи осознанной таким образом, становится не побочным и инструментальным ответвлением общей социологии, но открывается как важнейшая, принципиальная часть социологического знания.
Этнос — это изначальное общество, которое лежит в основании всех обществ. Чтобы подчеркнуть фундаментальный для человечества характер этноса, основатель этносоциологии Рихард Турнвальд назвал свой главный научный труд «Человеческое общество в его этносоциологических основаниях»16.
Этнос как койнема
Этнос как базовую форму общества можно уподобить геометрической точке, которая, с одной стороны, создает плоскость (пространство состоит из бесконечного числа точек), а с другой — сама не имеет площади (отсюда ее определение как не имеющей площади). Функция геометрической точки в образовании пространства парадоксальна: она создает пространство, но сама пространством не является, т. к. не имеет площади (или объема).
Приблизительно таким же является отношение этноса к обществу в целом. Этнос создает общество и его структуры (основанные на вертикальной и горизонтальной дифференциации), которые обладают, соответственно, ненулевыми показателями, лежит в основе общества и его структур. Но сам этнос не имеет привычных социальных структур, т. е. представляет собой общество с нулевой дифференциацией подобно математической точке с нулевой площадью.
Конечно, любая изображенная или взятая за образец физическая точка будет иметь и площадь, и объем. Но они будут настолько малыми, что при измерениях ими можно пренебречь. Точно так же и в случае этноса. Любой конкретный этнос будет иметь минимальные стратификацию и разделение на социальные группы, но по сравнению с другими типами общества ими можно пренебречь и теоретически мыслить их как отсутствующие. Смысл общества в том, чтобы подчеркивать и утверждать коллективную идентичность не только как цель, проект или собирание воедино разрозненных частей, но как данность, органический факт и единственно возможную форму самоидентификации. Из этого следует еще одно определение.
Этнос есть общество, дифференциация в котором минимальна, стремится к нулю или (теоретически) вообще отсутствует.
В различных дисциплинах есть специальные термины, которые описывают основные элементы, неразложимые на части, из которых создаются более сложные структуры. В физике они называются «атомами» (дословно, «неделимыми»); в лингвистике — «семами» (от того же греческого корня, от которого образовано слово «семантика», «наука о смыслах» знака: σῆµα — по-гречески знак). В фонетике — «фонема», мельчайший атом звукового выражения речи. Леви-Стросс, исследовавший структуры мифов, предложил сходный термин «мифема», т. е. минимальное и неделимое ядро мифологического повествования. Из комбинации мифем складывается миф. Продолжая эту линию, можно ввести неологизм — «койнема». Он образован от греческого слова κοινόν, что означает «общее», «всеобщее», а также κοινωνία — «общество», «община». Койнема в таком случае будет означать то неделимое начало, которое лежит в основе общества так же, как мифема — в основе мифа, а сема — в основе семантики.
В таком понимании этнос есть койнема. Общество в широком смысле создано на этнической основе и произрастает из этнического ядра (чаще всего из нескольких ядер) как своего зерна.
Голоморфизм этноса
Любое общество устроено по принципу функциональности, иначе называемому «голоморфизмом» (от греческих корней ὅλος — «целый» и µορφή — «форма»). Это означает, что общество содержит в самом себе парадигму своей структуры в ее цельном виде, и если у общества изъять какую-то часть (в виде его членов), оно через некоторое время восстановит недостающие элементы, как ящерица восстанавливает свой хвост. В отличие от механизмов, голоморфизм присущ именно организмам, которые составляют совокупность функций, а не деталей, и нехватка конкретного элемента восстанавливается за счет того, что сохраняется его функциональное значение. Общество способно само восстанавливать собственную целостность с опорой на само себя и на основании своих внутренних ресурсов. Так растет хвост у ящерицы, нога у тритона или волосы и ногти у людей.
В разных типах общества голоморфизм наличествует в разной степени. Но в одних обществах процессы функционального замещения элементов проходят быстро и легко, а в других — медленно и проблематично. Чем сложнее структура общества, чем больше в нем уровень дифференциации по стратам и группам, тем сложнее становится вопрос функционального замещения и более механическим его процедура. Простые общества восстанавливают голоморфизм автоматически. Сложным обществам для этого требуется управляющий аппарат.
Этнос является таким типом общества, в котором голоморфизм тотален и абсолютен. Этнос настолько внеиндивидуален, что вообще может не заметить потери индивидуума или группы индивидуумов, а также не отличить одного индивидуума от другого. Бытие этноса чисто функционально, любой знак, предмет, явление или событие интегрируются в общую голоморфную структуру, где преобладает целое. Это свойство поражало европейцев у архаических племен, способных отдать сокровища за безделушки или плодородные земли за дешевые украшения. «Безделушки « и «украшения» интерпретировались в голоморфной структуре общества как нечто важное и значимое, и их функциональное значение могло быть огромным, что упускали из виду европейцы, подходящие к вопросу со своей — более дифференцированной и механической — точки зрения.
Этот функционализм архаических обществ подробно изучали Малиновский и Рэдклифф-Браун. По сути, их реконструкции описывают предельные формы голоморфизма.
Функциональность и голоморфизм в их предельных выражениях есть отличительная черта именно этнических обществ. В них целое (ολος) абсолютным образом преобладает над частным, а частное существует только в качестве функции целого; другого смысла — вне целого — у частного нет, а значит, нет и бытия.
§ 3. Этнос как концепт и этнос как феномен
Предмет и объект этносоциологии
В отечественной научной традиции есть правило разделять предмет и объект любой научной дисциплины. По мере сближения научных подходов с западными это правило постепенно начинает ставиться под вопрос в силу того, что в большинстве европейских языков слово «предмет» по смыслу и значению полностью тождественно слову «объект» и чаще всего обозначается одним и тем же выражением, производным от латинского «objectum» (дословно «то, что брошено перед (нами)»). В немецком языке есть особое слово «Gegenstand» (буквально «то, что находится перед (нами)»), но это чистая калька с латинского языка. Такой же калькой является и русский (довольно поздний) научный неологизм «пред-мет» (дословно, «то, что метнули перед (нами)». Это надо учитывать, если строго подходить к определениям этносоциологии в международном научном контексте — на международных конференциях, симпозиумах, конгрессах и т. д.
В рамках европейской научной традиции объектом (или предметом) этносоциологии является этнос, изучаемый социологическими методами.
В рамках отечественной научной методологии можно сказать, что объектом этносоциологии является общество, а предметом — такая форма общества, как этнос.
Однако структура этносоциологии не исчерпывается простым применением социологического метода к этническим обществам. Этнос не просто одна из форм общества; эта такая форма, которая лежит в его основании, т. е. койнема. Этот тезис в этносоциологии является главным и, следовательно, этносоциология есть изучение обществом своих самых глубинных и базовых оснований, той точки, из которой создано пространство, или той семы, на которой покоится грандиозное здание культурных и языковых смыслов (семантика). Поэтому мы можем дать еще одно определение объекта и предмета этносоциологии. Объектом социологии являются глубинные основы общества, идентифицированные как этнические основы, койнемы, а ее предметом — структура и устройство этих основ. В европейском контексте объект и предмет можно слить воедино, и мы получим такое определение: объектом (objectum) этносоциологии является простая корневая структура общества или базовое общество с нулевой размерностью, на основании которого исторически развертываются другие, более сложные типы обществ.
Этносоциология, таким образом, изучает не этнос отдельно, а этнос как основу общества, прослеживая трансформации этноса на разных исторических стадиях, включая его разнообразные диалектические производные, которые подчас уже собственно этносом не являются, но так или иначе (часто в форме прямого антагонизма) остаются с ним связанными.
Определения этносоциологии, которые следует отбросить
Современный английский социолог Энтони Гидденс дает определение этносоциологии как «формы двойной герменевтики — социологической и этнометодологической одновременно»17. «Этнометодология» — это социологическое направление, разработанное современным американским социологом Гарольдом Гарфинкелем18, которое прямого отношения к этносу не имеет и предполагает лишь, что в основе поведения членов общества (в этносе как в «народе», в «массе») лежит не хаос случайных обстоятельств, переживаний, эмоций, а своеобразная социологическая модель, которую можно исследовать научными методами. Г. Гарфинкель в юности столкнулся с социологической задачей системного объяснения поведения присяжных в суде, их мотивации, логики и т. д. При видимой спонтанности, случайности и необоснованности решений Гарфинкель увидел в действиях группы случайных простых людей, не профессионалов и не специалистов, особую логическую структуру, вполне поддающуюся исследованию. «Этнос» в таком случае есть не более чем расширенная метафора группы случайных обывателей, не связанных друг с другом практически ничем.
Объединение классического социологического метода и этнометодологии Гарфинкеля (как трактует этносоциологию Гидденс) — весьма продуктивное и перспективное направление в социологии, наравне с феноменологическим подходом, разработанным социологом Альфредом Шюцем19. Но к этносоциологии в ее классическом понимании это не имеет никакого отношения. Этнос — это нечто совершенно иное, нежели случайно набранная группа обывателей для решения какой-то искусственной (для них) проблемы.
Другой известный социолог Пьер Бурдье (1930–2002) понимает под «этносоциологией» также нечто близкое к схеме Гарфинкеля, противопоставляя этносоциологию как дисциплину, обращенную к конкретным эмпирическим единицам общества, со всеми их аномальными, девиантными и не укладывающимися в общие правила формами поведения, формам социологии, оперирующим с высоко абстрактными теоретическими и нормативными конструкциями. Хотя Бурдье предлагает «стереть границы между социологией и этнологией», он не только не рассматривает этнос в качестве базовой инстанции общества (койнемы), но даже не делает этнос объектом социологического исследования.
Следует признать определения Гидденса, Бурдье и аналогичные им частными мнениями известных социологов, тем более что ни один из них не посвятил этносоциологии отдельной книги или хотя бы полноценной программной статьи.
Этнос как явление и феноменологический метод
Этносоциология в ее наиболее полном выражении оперирует с этносом как с базовым социальным феноменом. Этнос есть и теоретический концепт (объект этносоциологии), и феномен, который можно наблюдать в реальной жизни. Поэтому этносоциология основывает свои выводы на восприятии этноса как данности и выводит из изучения этой данности теоретические конструкции.
Если вернуться к определению, данному Широкогоровым, то в этносе выделяются: 1) язык, 2) вера в общее происхождение, 3) наличие общих обрядов и традиций, т. е. культуры. В любом обществе есть с необходимостью все три составляющие этноса. Мы не знаем ни на практике, ни в исторических хрониках обществ, у которых не было хотя бы одной из этих трех составляющих. Поэтому этнос является именно базовым феноменом. Все общества, которые явлены нам, в той или иной степени этничны.
Феноменологическая сущность этноса чрезвычайно важна для того метода, с помощью которого этносоциологи изучают этнос. Эти методы основаны на доверии к этносу и его структурам, на эмпатии (вживании, вчувствовании), необходимой для того, чтобы как можно более адекватно эти структуры описать, исследовать и понять.
Разные исторические школы по-разному рассматривают истоки происхождения общества. Аристотель считал, что общество строится на основании семьи. Эволюционисты видят в истоках общества форму развития звериных (животных) стай или стад. Марксисты считают, что общество создается как надстройка над экономическими отношениями, и в основе его лежит явление труда и орудий труда. Все эти теории предполагают, что человеческое общество, каким мы его знаем, есть продукт каких-то других факторов.
Этносоциология подходит к этой проблеме иначе, феноменологически. Общество есть феномен, и в своих корнях это феномен этнический. Все формы общества, которые нам известны сегодня и о которых сохранились достоверные сведения, имеют и имели всегда общие структурные корни. Эти корни представляют собой в конкретном жизненном опыте общество как этнос, т. е. группу людей, объединенных языком, верой в общее происхождение и общей традицией. Это подтверждается наблюдениями и всеми формами верификации.
Но мы не можем увидеть процесса расширения семьи до масштабов этноса (по Аристотелю), проследить превращение стада обезьян в человеческий коллектив или зафиксировать роль орудий труда в становлении общественных формаций. Этносы есть простые и сложные, архаические и развитые, но они всегда представляют собой нечто иное, нежели расширенные семьи, эволюционировавшие животные или автономные продукты экономической деятельности. Для существования даже самого маленького племени-этноса необходимо как минимум два рода (то есть две больших семьи), как показывает Леви-Стросс. А что касается эволюционистских гипотез или марксистских догм, то они представляют собой чисто теоретические конструкции. И напротив, этнос — легко верифицируемое явление. Мы встречаем повсеместно и всегда это явление. И именно этнос мы видим у истоков самых сложных и дифференцированных обществ. Он дает о себе знать и на самых комплексных стадиях развития.
Поэтому этносоциология, сосредотачивая внимание на этносе, имеет дело с чем-то безусловно существующим, т. е. с феноменом.
Феноменология, философская (Э. Гуссерль, Э. Финк) и социологическая (А. Шюц), является приоритетным методом этносоциологического исследования. Это особенно ярко проявляется в работах одного из основателей этносоциологии — Вильгельма Мюльмана20, считавшего своим учителем С.М. Широкогорова.
Примеры этноса. Современные чеченцы
Приведем примеры того, чем является этнос как явление в современном мире. Рассмотрим чеченский этнос в современной России.
Какими характеристиками должны обладать чеченцы, чтобы рассматриваться как этнос? Вновь обратимся к определению Широкогорова.
1) Язык. Существует чеченский язык, на котором говорят чеченцы. Он относится к вайнахской языковой группе и очень близок к ингушскому языку. Тем не менее сами чеченцы, равно как и ингуши, осознают свои этнические языки как разные (несмотря на их объективное сходство), и это является немаловажным фактором в их этническом самоопределении.
2) У чеченцев есть вера в единое происхождение, в то, что все они являются потомками одного и того же племени, разделившегося постепенно на несколько рукавов. Некоторые чеченцы считают, что они прямые потомки Ноя, толкуя самоназвание чеченцев «нох-чи» как «потомки Ноя» (на арабский манер «Ной» произносится как «Нух»)21.
3) Чеченцы обладают общим комплексом обычаев, которые представляют собой специфическую смесь собственно этнических обычаев и обычаев религиозных, исламских. К этому следует добавить мистическое направление в исламе — суфизм, которое имеет свои обычаи, ритуалы и доктрины. Сообщество суфиев в Чечне называется «вирд». Знаменитые хороводы, которые танцуют чеченцы — это зикр, форма коллективной суфийской молитвы, которая своя у каждого вирда. Обычаи, обряды и культура чеченцев представляют собой уникальную комбинацию чисто этнических элементов с исламскими и суфистскими. Этот культурный комплекс в самосознании самих чеченцев отличает их от всех остальных этносов и составляет их идентичность22.
Можно ли при этом обнаружить у чеченцев ярко выраженный общий расовый тип? Это невозможно. Чеченцы бывают низкие и высокие, темные и смуглые, голубоглазые и рыжие, напоминающие классических индоевропейцев, даже рыжебородые. Есть средиземноморский тип, распространенный на всем Кавказе. Есть брахикефалы, но есть и долихокефалы. Вероятно, с точки зрения расы в чеченцах, как и в подавляющем большинстве этносов, сошлись разные биологические линии, разные расовые группы, волнами находившие друг на друга и «оседавшие» в труднодоступных горах Северного Кавказа. Однако фенотипическое различие и разнообразие типов самими чеченцами практически не фиксируется как решающий или значимый фактор при осознании себя в качестве органического единства, т. е. как этнос.
С точки зрения этносоциологии именно это и является решающим. Чеченцы осознают себя этносом. Другие этносы, живущие рядом с ними, также считают их этносом. При этом налицо все признаки этноса, по Широкогорову. Значит, мы имеем дело с этническим феноменом и можем изучать его этносоциологическими средствами.
Другой вопрос: можно ли считать чеченцев только этносом? А вот это утверждение будет уже неточным, т. к. помимо этнической идентичности есть еще и гражданская, национальная (чеченцы в большинстве своем, кроме членов диаспоры, граждане Российской Федерации), территориально-административная (проживают в Чеченской Республике), религиозная (чеченцы преимущественно мусульмане). Но все остальные идентичности надстраиваются над идентичностью этнической. У разных людей эти надстройки имеют разное значение, но все, кто считает себя чеченцем и кого считают чеченцем другие, в первую очередь и на самом глубинном уровне объединены именно этнической общностью. Это эмпирический факт, через него мы сталкиваемся напрямую с феноменом этноса. В той степени, в какой они есть, чеченцы есть именно этнос.
То, что мы сказали относительно чеченцев, можно применить ко всем этносам, живущим как в России, так и за ее пределами. Они есть как феномены, и в таком качестве должны изучаться.
Главные правила этносоциологии: плюральность этносов и классификация этносов
При этносоциологическом исследовании мы должны следовать ряду правил, которые являются принципиальными.
С одной стороны, когда мы изучаем какой-то этнос именно как этнос, мы применяем к нему общие критерии. Любой этнос в чистом виде есть простое общество, с доминацией коллективной идентичности, синхронностью этических реакций, чрезвычайно слабой вертикальной и горизонтальной дифференциацией, отвечающее трем признакам Широкогорова. То есть мы имеем дело с койнемой.
Но это общее свойство всех этносов на практике выражается в самых разных и подчас неожиданных формах. Даже самые простейшие этносы имеют разную структуру своей простоты, точно так же, как языки, на которых говорит человечество, имеют нечто общее (ведь все они именно языки), но при этом содержат огромное число различий.
Следовательно, идентифицировав какой-то конкретный этнос как этнос, этносоциолог получает койнему. Но это еще не значит, что койнема в случае одного этноса будет такой же, как койнема в случае другого. Даже самые архаичные и простые племена существенно отличаются друг от друга.
Следовательно, этносоциология заведомо имеет дело не с этносом, а с этносами во множественном числе. Койнема отличается и от более сложных социальных систем, и одновременно от других простых койнем, с иной структурой этой простоты.
Помнить о плюральности этносов даже в их корневом и упрощенном основании — первое правило этносоциолога.
Второе правило касается классификации этносов. Говорить о большей или меньшей «развитости», «цивилизованности», «прогрессивности» этносов означает практиковать в их отношении расистский подход, делить их на «высшие» и «низшие». И даже если этот расизм не является догматическим или биологическим и основан на анализе технических, экономических или каких-то других критериев, он все равно остается расизмом (даже в завуалированной и культурной форме). Это абсолютно ненаучно, т. к. при этом мы подходим к изучению одного этноса с позиции другого, оценивая его состояние, ценности и социальные структуры отчужденным посторонним взглядом. Такой подход неприемлем, т. к. упускает из виду структуру этнического феномена.
Так, основатель американской культурной антропологии (аналога этносоциологии) Франц Боас в своих письмах из экспедиции к эскимосам-инуитам писал:
«Я часто спрашиваю себя, в чем же состоит то преимущество, которым обладает "развитое" общество над обществом "дикарей", и я нахожу, что чем больше я изучаю их привычки, тем больше понимаю, что мы просто не имеем никакого права смотреть на них сверху вниз. Мы не имеем права осуждать их за их формы и предрассудки, какими бы нелепыми они нам ни казались. Мы, "высокообразованные люди", намного хуже них…»23.
Единственная корректная форма классификации этносов — это их распределение по шкале: «простые — сложные». При этом понятия «простота» и «сложность» («комплексность») не должны нести в себе ничего заведомо положительного или отрицательного; это две нейтральные констатации, основанные на описании феномена. Есть «общества простые» и «общества сложные». Ни те, ни другие ничем не лучше и не хуже друг друга. Они просто разные. Это неиерархическая классификация, фиксирующая положение дел и никак его не оценивающая.
Здесь следует заметить, что чем проще общество, тем оно более этнично, а чем оно сложнее, тем менее этничность выступает сама по себе, на поверхности и наглядно. В простом обществе этничность очевидна, в сложном ее требуется отыскивать. Чем сложнее общество, тем глубже в нем запрятана этничность и тем менее она заметна при поверхностном с ним ознакомлении.
Самое простое общество — это чисто этническое общество, у которого нет иного содержания, кроме этнического. Используя нашу терминологию, можно сказать, что оно практически тождественно койнеме.
Самое сложное общество — это общество, где этнический фактор находится на уровне фундамента, над которым надстроено несколько внушительных и поражающих воображение этажей. Внимание наблюдателя привлекают эти этажи, и мало кто опускает взгляд к фундаменту или интересуется строением подвала.
Эти два правила — правило плюральности этносов и правило безоценочного критерия «простое/сложное» — являются базовыми принципами этносоциологии.
Этнос и «жизненный мир»
Этнос нельзя рассматривать в отрыве от окружающей среды. Этнос всегда живет в конкретном пространстве, и это пространство интегрировано в его собственную структуру, воспринято, преобразовано и прожито им24. Л. Гумилев называл это «вмещающим ландшафтом», подчеркивая, что этнос в своем существовании представляет собой единое целое с окружающей средой, и их взаимовлияние лежит в основе различных фаз трансформации этноса.
Философ и основатель феноменологии Эдмунд Гуссерль ввел важнейшее понятие «жизненный мир», Lebenswelt25, представляющее собой набор установок и актов сознания, которые не подвергаются логической проверке на соответствие предметам и явлениям, находящимся по ту сторону человека, т. е. объектам. «Жизненный мир» противопоставляется «научному миру» с его представлениями о том, что является «реальным», «объективным», а что «мнимым», «субъективным», где кончается сознание и начинается материя и т. д. «Жизненный мир» не знает подобной строгости и просто отождествляет мысли с реальностью, представления и образы с тем, что есть на самом деле. Поэтому «жизненный мир» не делает разницы между человеком и тем, в чем он живет, т. е. средой, понимая и то и другое как единое целое.
«Жизненный мир» — это единственный мир, в котором живет этнос. Простое общество (койнема) устроено именно таким образом. В нем нет границ между культурой и природой, внутренним и внешним. Человек и окружающая среда составляют нерасторжимое единство, общее «живое пространство». «Жизненный мир» и есть тот этаж, на котором пребывает этнос. В простых обществах этот этаж единственный, в сложных — над ним надстроены другие этажи.
С точки зрения этносоциологии принципиальным является отождествление «жизненного мира» с этническим пространством26.
У каждого этноса есть свой «вмещающий ландшафт», свой «жизненный мир».
Этнос и пространство
Этнос обязательно связан с пространством. Указание на это можно обнаружить в далекой этимологии слова «этнос» — в корне «ἔθ», «место», «местность».
Отношение этноса к пространству является простым, органичным и непрерывным (в нем нет границы между этносом и пространством в рамках единого «жизненного мира»). Это запечатлено во множестве легенд, преданий и мифов, в которых земля, реки, леса, поля, горы предстают в виде одушевленных существ (духов, богов), родственных людям, или их «предков». Отсюда представление о «родных местах». В рациональном ключе это толкуется как места, в которых кто-то родился, а на более глубоком уровне — как места, которые являются фигурами кровнородственной связи, как часть этноса или «духи места». Отсюда выражение «родные пенаты» («пенаты» на латыни означали именно «духи дома»).
Этнос относится к пространству не как к другому, но как к самому себе, как к своему продолжению. Поэтому пространство становится этническим, этничным, являясь внутренней частью жизни этноса. Этнос проживает пространство прямо и неопосредованно.
Этнос относится к пространству иначе, нежели нация или гражданин. Это не административное, не политическое, не коммерческое, не ресурсное и не рациональное отношение. Это отношение спонтанное и органическое, жизненное.
Пространство, в котором живет этнос, есть пространство, которым живет этнос.
Пример пространства этноса. Лезгины
Посмотрим, как это выражается на практике. Возьмем для примера современный кавказский этнос лезгин.
У лезгин свой язык, вера в общее происхождение и общие традиции, т. е. мы имеем дело с классическим этносом.
Пространство, на котором живут сегодняшние лезгины, с этнической точки зрения представляет собой нечто единое — это вмещающий ландшафт, «родные места» для лезгин, расположенные в горных районах Кавказа.
Но согласно территориально-политическому делению, лезгины сегодня частично проживают в Дагестане, а частично в Азербайджане. Дагестан — это субъект Российской Федерации. В Азербайджане лезгины являются гражданами Азербайджана, подчиняются его законам и считаются азербайджанцами с точки зрения нации. Лезгины, живущие в Дагестане, являются гражданами Дагестана и, соответственно, Российской Федерации. Одни лезгины — россияне, другие лезгины — азербайджанцы.
Юридически россияне (будь они лезгинами или великороссами) и азербайджанцы (будь они этническим большинством азербайджанцев или этническими меньшинствами) — совершенно разные категории, которые являются элементами двух разных социополитических систем — азербайджанской и российской. Законодательства Российской Федерации и Республики Азербайджан таковы, что ни в одной из этих стран у лезгина в паспорте не написано, что он лезгин. Получается, что лезгин, который живет с одной стороны границы, и его родной брат, живущий по другую сторону границы, юридически являются представителями двух разных обществ и двух разных политических, национальных и административных пространств, а их близость нигде и ни в чем не зафиксирована. Одни, чтобы быть нормальными гражданами, должны знать русский, другие — азербайджанский. Юридически дом и участок одного лезгина закреплен за одной территориально-административной единицей, дом и участок другого — за совершенно другой. И живут они по разным законам, в разных обществах и на разных пространствах. То, что они оба лезгины, ни в чем не выражается.
Тем не менее вне прямых юридических правил и законодательств сами лезгины ясно осознают свое этническое единство, свою цельность и неделимость. И земля, на которой они живут по обе стороны границы, мыслится ими как общая земля, как «родные места», как Родина. Окружающие этносы и с российской, и с азербайджанской стороны, и в Дагестане также по умолчанию признают лезгин этнической единицей и выстраивают с ними и с территориями, на которых они традиционно проживают, особые отношения.
Так структурировано этническое пространство независимо от юридических, национальных и административно-территориальных границ.
Возникает вопрос. Если мы захотим формализировать этнос лезгин, осмыслить и описать структуру лезгинских земель, к каким средствам мы должны прибегнуть? Статус этноса не прописан ни в одном из законодательств национальных государств и правовой категорией не является. А значит, и этническое пространство не имеет никакого правового смысла. Не является этнос (в нашем случае лезгины) и политической категорией. Единственным инструментом для описания, изучения и понимания этноса и этнических процессов является этносоциология. Больше ни одна дисциплина не способна корректно и с опорой на строго научный аппарат справиться с этой проблемой.
Глава 2
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ЭТНОСОЦИОЛОГИИ
§ 1. Базовые понятия этносоциологии (типы обществ)
Концепты и термины этносоциологии
Этносоциология оперирует рядом специальных концептов и терминов, которые в других контекстах, а тем более в широком словоупотреблении могут иметь совершенно иной смысл. Поэтому следует акцентировать эти терминологические особенности, описать семантическую структуру основных понятий. В этом случае соотнести термины и концепты этносоциологии с классической социологией и политологией будет лишь технической проблемой. В противном случае может возникнуть путаница понятий.
В этой главе мы опишем основные концепты и термины этносоциологии и дадим их определения.
Проблема синонимического ряда
Начнем с понятия этнос, определение которого мы дали в предыдущей главе. Определения Широкогорова и Вебера, а также ряд приведенных дополнительных определений выявляют этнос как явление, с которым оперирует этносоциология. Понятый таким образом этнос есть научный концепт. Вместе с тем этот концепт имеет в качестве своего референта в окружающем нас мире конкретный феномен. Иными словами, концепт этноса является феноменологическим и строится не как абстракция, а как продукт научного наблюдения, выводимый из самого явления. В определенном смысле этнос — концепт эмпирический. Мы живем в мире, где есть этносы, и мы берем их за основу нашего теоретизирования.
Вместе с тем в широком обиходе слово «этнос» используется сплошь и рядом не строго: как синоним народа, народности, нации, национальности, расы. Добавим к этому смысловые оттенки, которые этим слова приобретают при их переводе на европейские языки. Греческий ряд синонимов понятия «этнос» мы приводили в предыдущей главе — «генос», «фюле», «демос», «лаос» («γἔνος», «φυλή», «δήμος», «λαός»). Латинский язык дает два слова — «populus» и «natio», от которых образованы большинство соответствующих слов современных европейских языков (английские «people» и «nation», французские «le people» и «la nation», итальянские «il popolo» и «la natione», испанские «el pueblo» и «la nacion», немецкое «die Nation» и т. д.). Синонимичность этого ряда, к которому можно добавить различные производные, довольно коварна: все его члены указывают приблизительно на одно и то же явление, но в каждом случае и в каждом языковом контексте происходят семантические сдвиги, существенно меняющие смысл слова. Все это порождает не только множество проблем в публицистике, дебатах и дискуссиях, где терминология используется вольным образом, но затрагивает и научные среды, в частности, социологию, где также значение этих терминов существенно варьируется в зависимости от национального контекста, школы и даже отдельного автора. Подчас одним и тем же термином обозначаются разные явления или, напротив, одно и то же явление называется разными именами.
Структура основных этносоциологических терминов и концептов
Этносоциология устанавливает в своей сфере жесткую семантическую структуру и придает каждому термину только одно конкретное значение. Это позволяет систематизировать этносоциологические исследования в целом и придать им необходимую научную строгость.
В этносоциологии все перечисленные синонимические ряды вообще не являются синонимами. Каждое слово является термином и обозначает совершенное отдельное явление. Таким образом, мы получаем определенную этносоциологическую таксономию общественных явлений и структуру, которая лежит в основе всей дисциплины.
Базовыми понятиями этносоциологической таксономии является цепочка:
этнос — народ (греческое λαός, немецкое «das Volk») — нация (латинское «nation») — гражданское общество (английское «civil society») — глобальное общество (английское «global society») — постобщество (английское «post-society» или «postmodern society»)
Каждый из этих концептов имеет строго определенное значение и смысл, не совпадающий ни с одним другим из перечисленных. Эта цепочка может быть изображена в виде логической последовательности, которая в случае западного общества совпадает в целом с исторической последовательностью:
этнос народ
нация
гражданское общество
глобальное общество
постобщество
Чтобы пояснить структуру этносоциологического метода, следует также разместить эти концепты иерархически. Но т. к. эта иерархизация, как мы показали в предыдущей главе, описывает только степень сложности общества и ничто иное, то выстроена она по принципу «от простого к сложному», от менее дифференцированного к более дифференцированному. При этом можно описать эту иерархию как вектор направления от органичного и целостного к механическому, комбинированному и комплексному.
Идентичность и идентификация
Для введения в суть этносоциологической проблематики мы представим самое предварительное описание базовых этносоциологических концептов, которые будут подробно рассматриваться в соответствующих главах и разделах книги.
Это удобно сделать через рассмотрение того, как меняется идентичность в обществе при переходе от одной этносоциологической категории к другой.
Но прежде опишем, что такое идентичность и процесс идентификации.
Идентичность есть форма отождествления индивидуума, социальной группы или всего общества с определенной самостоятельной структурой — цельной, собирательной или индивидуальной. Термин «идентичность» образован от латинского местоимения «id», «то». Отсюда русская калька «тождество». «Идентичное» — «то же» (самое).
Структура идентичности основана на акте «идентификации», т. е. осознанного или бессознательного действия, в ходе которого некто (индивидуум, группа или общество) производит утверждение «я (мы) есть то». В процессе идентификации утверждается содержание, структура, смысл и значение «того», с чем себя отождествляют, и через данное действие то, что себя отождествляет с чем-то, описывает свое собственное содержание, структуру, смысл и значение. Идентичность — это свойство человеческого сознания, этой операции не знают животные и другие виды. Птица есть птица, но этот факт не является для нее фактом сознания; птица не утверждает волевым и сознательным образом свою принадлежность к виду птиц. Будучи птицей, она не имеет «птичьей идентичности». Только человек осуществляет акт идентификации — прежде всего идентификации самого себя. Он определяет себя, свое бытие и свой смысл через обращение к «тому» (id), вкладывает в «то» содержание, и обращает это содержание на самого себя. Он может рефлектировать этот процесс или совершать его бессознательно, но в любом случае в этом процессе задействовано именно сознание — либо активно (с включенностью рационального начала), либо пассивно (автоматически).
Этническая идентификация. До Камо
Базовой формой коллективной идентичности, свойственной всем типам обществ — от самых простых до самых сложных — является этническая идентичность. Это значит, что человек, отвечая на вопрос «кто я?», дает ответ: «я есть этнос». В данном случаем «то» (id) совпадает с концептом этноса.
Особенностью этнической идентичности является ее предельная безличность. В этносе между всеми членами существуют органические связи, все разделяют язык, веру в общее происхождение и общие обычаи. В этносе коллективная идентификация всех его членов друг с другом и с общим (часто мифологическим) предком (тотемом, духом, вождем, фетишем и т. д.) настолько велика, что индивидуального начала почти не существует вовсе. Сам этнос как «то» полностью преобладает над всеми другими возможностями ответа на вопрос «кто я?». Сам этот вопрос в структуре этноса формулируется заведомо «кто мы?», а содержанием ответа является указание на некое всеохватывающее, неразделимое и глобальное целое. Это целое и есть этнос.
Ярче всего такая этническая идентификация проявляется у некоторых архаических племен с очень специфической системой представления о личном начале. Эту тему подробно исследовал голландский этнолог и социолог Морис Леенгардт (1878–1954) в ставшей знаменитой книге, посвященной явлению «До Камо»27.
М. Леенгардт изучал меланезийский этнос канак в Новой Каледонии и обнаружил, что в среде канаков вообще отсутствовал термин для обозначения индивидуального «я». В разных случаях, когда большинство языков предполагает произнесение «я», «мне», «мое», меланезийцы произносят «Do Kamo», что означает «живое существо», «то, что живет»28 (2). «Do Kamo» — это и человек, и группа людей, и клан, и фетиш-змея на головном уборе вождя, к которому жена вождя обращается также «Do Kamo».
Далее Леенгардт подметил, что меланезийские юноши никогда не ходят по одиночке, но всегда группами. И говоря о себе, они всегда апеллируют к «Do Kamo», что подразумевает их группу как общее нерасчленимое существо. Даже на свидание с девушками меланезийские юноши ходили небольшими коллективами, равно как и девушки. У канаков нет представления об индивидуальном теле, тело для них — «одежда Do Kamo».
Если спросить меланезийца, что представляет из себя «Do Kamo» и каков он «сам по себе», в ответ он недоуменно пожмет плечами. «Do Kamo» — это тот, кто есть, он не объясняется ни через что другое. Но «Do Kamo» можно лишиться. Если человек совершает какой-то проступок или преступление, он выбрасывается из социальных структур, лишается статуса. После этого у него нет имени, нет бытия. Это самое страшное для меланезийца — стать социальным изгоем, потерять Do Kamo. Это намного хуже смерти, т. к. в социальном контексте умерший член общества становится духом, продолжает жить в других частях клана, т. е. Do Kamo сохраняется. Потерять Do Kamo это значит бесследно исчезнуть, даже если биологическая индивидуальность еще сохранется29.
В данном случае фигурой Do Kamo племя канаков описывают феномен этноса, обобщающее «то», с чем идентифицирует себя канаки. Меланезийское племя имеет свое название для того, что этносоциология называет этносом и этнической идентификацией.
Внутренние структуры этноса: семья, род, клан
Прежде чем перейти к более сложным типам общества, нежели этническое общество, рассмотрим строение внутреннее ядро этноса.
Этносоциология выделяет как койнему именно этнос, т. к. не существует самостоятельных обществ, которые имели бы масштаб меньший, нежели этнос. Но это не значит, что этнос внутри себя самого не имеет делений. Он их имеет, но эти деления — причем разнообразные и часто накладывающиеся друг на друга — не образуют еще самостоятельной социальной структуры. Они всегда остаются частью чего-то другого, откуда черпают основные парадигмы и смыслы своего существования. Минимальным форматом общества является именно этнос, а те части, на которые он делится, не являются автономными и самодостаточными, т. е. не представляют собой общества, но лишь его части.
Койнема может иметь части и, более того, обязательно их имеет, но она не складывается из этих частей механически. Койнема голоморфна и целостна сама по себе, а ее внутренние членения являются свойствами ее организма.
Возьмем для примера биологическую структуру человеческого организма. Этот организм обязательно имеет органы, но эти органы имеют смысл только в целом организме. По одиночке органы организмами не являются. Части тела не растут одна из другой — например, голова из шеи, шея из плеч и т. д. Они существуют все вместе как структуры единого организма, который живет полноценно только тогда, когда у него наличествуют все органы.
Точно так же и этнос. Это первичная социальная единица. Она автономна и жизнеспособна, но внутри нее функционируют различные жизненно важные элементы.
В этносе в качестве функциональных инстанций можно выделить род, клан и семью.
Существуют различные таксономии внутреннего членения этноса. Так, Л.Н. Гумилев выделяет (по мере убывания масштаба) «субэтнос» — «консорцию» — «конвиксию»30. Определенные школы антропологов и социологов строят более детальные и нюансированные таксономии, но мы ограничимся самой общей.
Минимальная социальная ячейка этноса есть семья, состоящая из мужа и жены и их потомства (нуклеарная семья), а в некоторых случаях в нее входят родители и родственники (большая семья). Типы семей бывают самыми различными — моногамными (один муж — одна жена), полигамными (один муж — несколько жен), полиандрическими (одна жена — несколько мужей). Большие семьи также имеют множество разновидностей в зависимости от того, где по традиции живет новая супружеская пара (в доме/селении/части селения родителей мужа — патрилокальная модель или родителей жены — матрилокальная модель).
Структура семьи во всех обществах без исключения основывается на экзогамном принципе. Это зафиксировано в общем для всех типов обществ фундаментальном социообразующем запрете на инцест, т. е. на браки между членами одной семьи. Обществ, построенных по иному признаку, мы не знаем. А частичные отступления от этой нормы встречаются только как эпизоды социальной истории — чаще всего в случае особых каст (египетские фараоны) или особых религиозных культов (некоторые формы иранского зороастризма). Отдельно следует рассматривать левират и сорорат, особые брачные институты, закрепляющие права остальных братьев на жену одного из них и симметричное правило для мужа одной из сестер.
Экзогамный принцип семьи предполагает существование как минимум двух родов, без которых она невозможна. (Русское слово «род» терминологически точно соответствует греческом «γενος» и латинскому «genus»). Именно поэтому семья не является первичной ячейкой общества. Чтобы получить одну семью, необходимо иметь два рода и экзогамное правило брака. А два рода и экзогамное правило и есть минимальный формат этноса — как той инстанции, которая предшествует и роду и семье. Семья может быть создана только на основе двух неродственных родов. Это абсолютный закон общества как такового.
Семья и род связаны между собой фундаментальными закономерностями, которые, согласно К. Леви-Строссу31, и составляют уникальный образ каждого конкретного общества со всеми его оригинальными культурными чертами — мифами, обрядами, корневыми установками относительно окружающей среды, таксономией вещей, социальными институтами и т. д. Леви-Стросс утверждает, что в бесписьменных обществах институт брака составляет основу «текста» и парадигму культуры. То, как конкретно решается проблема соотношения семьи и рода, какие браки считаются допустимыми, а какие нет, как определяется принадлежность к роду потомства (матрилинейная модель — по роду матери или патрилинейная — по роду отца), где располагается молодая пара (в роде отца — патрилокальная модель или в роде матери — матрилокальная модель), какие нормативы существуют в отношениях между свояками и свояченицами и т. д. — все это служит ключом к мифам и обрядам, философии и культуре этноса.
Этнос как койнема в своей самой минимальной версии состоит из двух родов. Это двойственность родов составляет фундаментальную черту этноса. Поэтому большинство этносов сохраняет двойственность и в том случае, если масштабность этноса возрастает. Этнос делится на две половины для того, чтобы сохранить условия для экзогамии — одна половина должна быть чужой для другой половины, чтобы обеспечивать легитимный брак.
Объединение нескольких родов в этносоциологии и антропологии принято называть кланом. Слово «клан» образовано от кельтского «clann». Самым близким его аналогом является греческое «φυλή».
Кланы могут быть организованы различным образом: и как несколько родов, между которыми браки запрещены (тогда клан представляет собой расширенную модель рода), и как несколько родов, браки между которыми разрешены (тогда клан представляет собой этнос в миниатюре). Несмотря на то, что наличие кланов в этносе усложняет его структуру, оно не привносит в нее ничего существенного. Это усложнение не несет в себе решающей этносоциологической нагрузки и лишь масштабирует род или этнос. Наличие кланов и их структуры необходимо учитывать, но их значение не должно затмевать идентификацию самых главных элементов, к которым сводится этносоциологический анализ — выявления в этносе глубинной организации структуры родства.
Можно предложить такую структурную формулу:
Экзогамный клан = род (расширенный)
Эндогамный клан = этнос (минимальный)
Поэтому категория клана является полезной, но не принципиальной для структуры этносоциологического знания.
Внутреннюю структуру простейшего этноса можно представить на следующей схеме.

Схема 4. Структура родства в простейшем этносе
Этнос и родовая идентичность. Близнечные мифы
О различиях в определении этноса и расы мы говорили в первой главе. На основании анализа внутренней структуры этноса, всегда состоящего из двух половин, мы можем вывести еще одно дополнительное соображение о проблематичности самого понятия «общее происхождение».
Человек, рожденный в этносе и полностью отождествляющий себя с ним, вместе с тем с необходимостью отождествляет себя с каким-то одним родом, который является чужим в отношении другого рода. Следовательно, внутриэтническая идентичность, предполагающая веру в общего для всех предка, накладывается на родовую идентичность, предполагающую принадлежность к потомству основателя одного рода и непричастность к потомству основателя другого рода. Если этническая идентичность интегрирует всех членов этноса, то родовая идентичность их дифференцирует.
Это часто выражается в почитании фигуры близнецов или двойников, а также различных фигур и знаков, в которых прослеживается дуальная симметрия. Близнецы похожи друг на друга, и для архаического сознания это все равно, что тождественны. Но в то же время они различны как индивидуумы. В фигуре близнеца мы имеем дело с наиболее универсальным символом двойной идентичности. Половина племени — потомки одного близнеца, вторая половина — второго. Изначальные близнецы находятся друг с другом в сложных отношениях: они братья и поэтому едины по роду. Но чтобы дать основание двум чужим (неродным) родам, они должны быть антагонистами. Отсюда множество сюжетов о близнецах, один из которых был божеством, другой — человеком (например, Кастор и Поллукс в греческой мифологии). Многие мифы повествуют о смертельной борьбе близнецов между собой и об убийстве одним из них другого. Отсюда берет начало довольно часто встречающийся обряд убийства одного из близнецов сразу после рождения в архаических племенах и множество легенд, наделяющих близнецов сверхъестественной силой.
В тотемических моделях это проявляется в возведении двух экзогамных половин племени к разным мифическим предкам, между которыми чаще всего были отношения вражды, соперничества или, по меньшей мере, определенного неравновесия — например, иерархии.
Внутри одного и того же этноса уже заложена парадигма (как минимум) двойственного происхождения всех его членов. И забота о поддержании экзогамии как направляющая парадигма этноса в целом постоянно проявлялась в том, чтобы эта дистанция между родами сохранялась и не стиралась. Так миф об общем происхождении на уровне этноса дублировался мифом о различном происхождении на уровне рода.
Этнос интегрировал, род (генос) дифференцировал, создавая на уровне койнемы, т. е. простейшей социальной формы, диалектику идентичностей, где общность и различие сопрягались друг с другом.
Но точно так же, как трудно доказать строго научными средствами физиологическую близость членов этноса между собой, подчас трудно доказать и родовое различие. Дело в том, что принадлежность к роду — это социальная, а не биологическая категория. Ребенок рождается у пары, каждый член которой заведомо принадлежит к разным родам. Куда отнести ребенка, к какому из родов — это непростая проблема, составляющая основу культурной парадигмы этноса. Разные этносы имеют на этот счет разные мнения. Но будучи отнесенным к роду, например, отца, человек становится «чужим» по отношению к роду его матери. «Чужим» в социологическом смысле, тогда как биологически он в равной степени является родным и отцовскому, и материнскому роду. Поэтому для обоснования различия родов также прибегают к вере в разных предков, к мифу и обрядам, призванным это различие усугубить.
Все это находит богатое выражение в близнечных сюжетах и в еще более обширной области дуалистических мифов, которые чаще всего имеют социальные функции в организации экзогамной брачной структуры.
Общеэтнический миф о родстве (которого, скорее всего, не было) дублируется родовым мифам о чуждости (которая также сомнительна). И если и то и другое трудно доказать на уровне физическом и генетическом (т. е. расовом), то на уровне социального факта это остается неопровержимым и абсолютным. На диалектике двойной этно-родовой идентичности строится этнос как форма общества.
Народ как этносоциологическая категория
В этносоциологии концепт «народ» (λαός) существенно отличается от концепта «этнос». Народ представляет собой социальную организацию общества, качественно более сложную, чем этнос.
Мы используем греческое слово «лаос», «λαός», т. к. оно более всего подходит по смыслу для описания народа как этносоциологической категории. В понятии «λαός» греки закладывали представление о группе людей, объединенных либо общим участием в военном походе, либо просто организованных ради какой-то цели или движущихся куда-то.
Этнос статичен. Лаос подвижен. Лаос представляет собой более искусственную, целенаправленную и организованную общность, нежели этнос. Лаос может быть уподоблен ополчению, т. е. группе людей, мобилизованных для достижения какой-то исторической и чаще всего военной цели. Именно греческому слову «λαός» более всего соответствует немецкое слово «das Volk», «народ». Показательно, что русское слово «полк» является родственным немецкому по своему происхождению. Значение организованного коллектива, в первую очередь, военного (полк), точно соответствует понятию «народ».
Некоторые этносоциологи, например, Широкогоров, не пользуются этим термином, считая его излишним, но мы увидим в дальнейшем, что он настолько помогает упорядочить различные этносоциологические конструкции, что является незаменимым и ключевым. Более того, отсутствие этого концепта в этносоциологических теориях заведомо вводит множество терминологических и концептуальных недоразумений, противоречий и неоправданных семантических сдвигов. Введение понятия «народ» (λαός, populus, das Volk и т. д.) является необходимым для стройности всей этносоциологической теории. Без этого ключевого понятия неизбежно произойдет интерференция смыслов, которая создаст непреодолимые помехи на пути построения полноценной и качественной научной теории.
Наличие понятия «народ» принципиально для этносоциологии. Там, где этот термин вводится соответствующим образом и ему приписывается строго определенное значение, мы имеем дело с этносоциологией как полноценной научной дисциплиной и состоятельной теорией. Там, где его нет, в лучшем случае мы имеем дело с пролегоменами к настоящей этносоциологии, а в худшем — с рециклированием обрывочных, фрагментарных и неупорядоченных знаний и методов на стыке классической социологии, этнологии и этнографии. Но такой синкретизм еще не представляет собой научной дисциплины, отвечающей критериям научности. Именно с этим и связано замедленная институционализация этносоциологии как в России, так и на Западе. Упуская из виду категорию «народа», мы заведомо лишаем себя возможности построить полноценную теорию. Далее мы увидим, почему это так происходит.
В народе целостность этноса нарушается. Структура общества качественно, на порядок, усложняется. Возникают социальная стратификация и выделение четких социальных групп. В народе уже есть классы и дифференцированные профессиональные и иные социальные градации. Начинается процесс разделения труда.
Народ есть этнос, вступивший в историю. Вместо вечного возвращения, постоянного цикла, поддерживаемого мифом, возникают иные формы темпоральности. Самым ярким выражением этого является линейное время.
В народе начинается выделение различных социальных страт, которые обособляются друг от друга. У каждой страты формируются свои социологические особенности. Часто страты приобретают форму фиксированных каст. Перейти из одной касты в другую сложно или почти невозможно. Складывается институт рабства и практика наемного труда.
Качественно меняется система мифов и обрядов. Они также дифференцируются по кастовому принципу. Если для этноса характерны сказки и мифы, то для народа — эпос.
Ужесточается разделение между полами, чаще всего в форме патриархата, который становится нормативом.
В образовании народа всегда с необходимостью участвуют несколько этносов — два или более. Никогда народ не образуется путем количественного роста этноса. Специфика народа заключается в том, что в его основе лежит контакт как минимум двух этносов (как правило, намного большего их числа). Один из этносов или группа этносов образуют в ходе сложных социологических, политических и экономических процедур высшую страту; другой этнос (или группа этносов) — низшую. Так закладываются основы социологических категорий — элита и массы.
Народ, «лаос», есть первая производная этноса.
Не будучи этносом в чистом виде, народ сохраняет с ним органическую связь. В народе есть этнический срез, этническое измерение, но оно отныне не единственное. Народ как особая историческая форма общества содержит в себе этнос (как вневременную форму общества), но не исчерпывается ей. Можно представить себе народ (лаос) как двухэтажное здание. Первый этаж — этнос как концепт, и чаще всего этносы как феномены (во множественном числе). Второй этаж — собственно сам народ, т. е. то новое, что содержится только в нем и не содержится в этносе.
«Народ» есть этносоциологическая категория, описываемая набором параметров32.
В отличие от идентичности в этносе, идентичность в народе является более сложной. Если в этносе доминировала безличность и коллективная, все включающая в себя инстанция (например, Do Kamo у меланезийских канаков), то в народе есть и коллективная, и индивидуальная идентичность. Индивидуальная идентичность, однако, мыслится не как нечто всеобщее, а как нечто исключительное, как прерогатива героев, вождей, выдающихся личностей, обобщенно — элиты. В структуре народа коллективная идентичность является наиболее распространенной, массовой, а индивидуальная — редкой, элитарной.
Тем самым процесс самоидентификации для всего общества в целом качественно усложняется. Модель этноса как целого и рода как части дополняется стратификационной шкалой и делением на социальные группы, которые становятся дополнительными инстанциями идентичности.
Теперь, кроме идентичности этноса и рода, в ответе на вопрос «кто я?» или «кто мы?» (вопрос «кто я?» уже имеет силу), требуется дать ссылку на касту, профессию и местонахождение.
Из койнем складывается социум (το κοίνον), как из мифем создается миф. Мифем, койнем или слов в языке ограниченное количество, а число их комбинаций в мифы, общества или речи безгранично.
Три формы творения народа: государство, религия, цивилизация
Этносоциологическая категория «народ», появляясь как исторический феномен, обязательно производит следующие формы:
– государство;
– религию;
– цивилизацию.
Эти формы могут существовать последовательно (история дает примеры любых последовательностей), а могут все вместе или в каком угодно сочетании. Наличие общества как народа позволяет переходить от одной формы к другой. Именно народ обеспечивает этим формам преемственность, непрерывность и действительность.
Всякий раз, когда народ дает знать о своем существовании, он делает это посредством создания одной из этих форм или одновременно нескольких. Народ не проявляется себя самостоятельно, но лишь через эти формы. С этим связано и то обстоятельство, что многие исторические и социологические школы упускают из виду народ как этносоциологическое явление, т. к. его сущность и его структура скрываются за более наглядными и доступными для изучения явлениями — государствами, религиями или цивилизациями. Народ скрыт под этими формами, и чтобы его обнаружить, необходимо предпринять определенные усилия, которые подчас разбиваются о догматические установки тех или иных научных и идеологических школ. Марксисты тяготеют к экономическому толкованию природы государства. Либералы видят во всем индивидуумов, рыночные институты и системы межиндивидуальных контрактов. Политологи и историки бросаются исследовать политические режимы. Религиоведы сосредотачиваются на догматике и институтах. Культурологи погружаются в сопоставление между собой цивилизационных стилей. При всех этих подходах единство социальной системы (общества как народа), стоящей за всеми этими явлениями, испаряется. Если другие дисциплины и выстраивают непротиворечивые конструкции, игнорируя категорию «народа», то для этносоциологии это фатально и представляет собой missing link (пропавшее звено), из-за которого рушится вся этносоциология как дисциплина.
Обратимость соотношений этноса и народа
В истории мы видим, что отношения между двумя формами общества — этносом и народом — бывают взаимообратимыми. Возникновение народа из этноса (из нескольких этносов) — это одно направление этносоциологического процесса. Но народ также может распадаться на этносы — как правило, новые. Это обратное направление. Поэтому соотношение «этнос–народ» является реверсивным.
Процесс возникновения народов из этносов, распада народов на новые этносы и снова возникновение народов и т. д. представляет собой систему исторических циклов. Этнос является койнемой, т. е. минимальной структурой общества как такового. Народ же представляет собой более сложную структуру, состоящую из нескольких койнем, расположенных в иерархической последовательности. Распад народа (государства, цивилизации, единой религии) на составляющие приводит к жизни новые койнемы. При этом надо заметить, что в составе народа этносы часто меняются до такой степени, что после распада народа происходит не возврат к старым этносам, но появление новых этносов, хотя в некоторых случаях старые этносы сохраняются. При этом как минимум один этнос необратимо меняется — тот, который был ядром формирования народа. После существования в качестве ядра народа этнос не возвращается к прежней исторической форме, вместо него формируются новые этносы.
Можно проследить это на примере греческой цивилизации. Древние греки были народом, состоящим из множества этносов и создавшим особую средиземноморскую цивилизацию. Когда цивилизация распалась, на ее месте появились различные новые этносы, а ядро греческой цивилизации (население Пелопоннеса и Балкан) трансформировалось в совершенно новый этнос, которым являются современные греки.
Народ, создавший Римскую Империю, строился вокруг трех этнических групп (рамны, тиции и луцеры — «tribus», что позже стало термином для обозначения племени — англ. «tribe») и постепенно получил обобщенное название «римляне» или «латиняне», т. е. «жители Лации», «ядра» Римской Империи. История Рима знала множество сложнейших этнических трансформаций, но после ее распада в ее границах, включая саму Италию, появились совершенно новые этносы. Распад огромной структуры, созданной народом, породил целую серию новых койнем, хотя некоторые этносы (как правило, на периферии империи) сохранились с древнейших времен неизменными (например, баски).
Народность не является этносоциологической категорией
Если «народ» — ключевая этносоциологическая категория, то производное от этого слова понятие «народность» (в смысле «небольшого» или «малого народа») не имеет никакого специального значения. Для этносоциологии не принципиально, большим или маленьким количественно является народ: в любом случае он всегда больше и сложнее в качественном и количественном смыслах, чем этнос. Этнос — койнема, а народ (лаос) — производная от нее. И не важно, о каком именно — большом или маленьком народе — идет речь. Народ — этносоциологический статус. Народность же с точки зрения этносоциологии пустой термин. Он может иметь определенное контекстуальное значение. Строго одно из двух: либо под ним имеют в виду «этнос», либо, на самом деле, народ (в этносоциологическом смысле), но небольшой по количественному составу или утративший некоторые свои качественные характеристики (государственность, религиозность, цивилизационную идентичность). Но в случае утраты качественных характеристик «народ» или его фрагменты (части) могут трансформироваться снова в «этнос», т. к. процессы усложнения и упрощения социальной системы принципиально обратимы. Поэтому, строго говоря, в большинстве случае, когда употребляется слово «народность», следует его заменять более конкретным, содержательным и однозначным термином «этнос». Если же требуется в каких-то частных случаях указать на небольшие количественные параметры именно народа, то можно использовать социологическую формулу, предложенную Огюстеном Кошеном, — «малый народ»33.
Нация: вторая производная от этноса
Еще одно понятие, имеющее множество толкований и вызывающее яростные споры, — это «нация». Здесь разброс определений настолько велик, что требует отдельного разбора34. Пока же мы дадим схематическое описание содержания этого концепта.
Народ как первая производная этноса создает государство и / или религию и / или цивилизацию. В том случае, если народ создает государство, мы имеем дело с особым типом общества, в котором четко прослеживаются политические структуры, институты, формы и уложения. Это свойство всех государств.
Определенный тип государств, а именно, европейские государства Нового времени, создает исторически особую модель политического устройства, основанную на началах и принципах, качественно отличающихся от остальных государств. Этот радикально новый тип государств и обществ, им соответствующих, принято называть «национальными государствами» или «Государствами-Нациями» («Etat-Nation» по-французски). Общество, выступающее как содержание «национального государства», и есть нация.
Нация — понятие строго политическое, неразрывно связанное с государством, причем с конкретным государством — современным европейским буржуазным государством Нового времени.
В этносоциологии «нация» является одним из основополагающих концептов. Она трактуется как вторая производная от этноса. Нация есть общество качественно еще более сложное и дифференцированное, нежели народ.
Как этнос был матрицей для народа (лаоса), так народ является матрицей для нации. Но и здесь налицо диалектический момент. Народ, проявляя себя в истории, замещает собой этнос, вынося его в сферу подразумевания, на нижний этаж или в подвал, скрывая его за своим фасадом.
Точно такой диалектический момент есть и в нации. Нация, проявляя себя в политической истории Нового времени (а в другие эпохи мы следов наций в таком понимании не встречаем), замещает собой народ, вынося его в сферу подразумевания, смещая на нижний этаж (на сей раз на второй этаж, т. к. первый занят этносом) и закрывая его фасадом.
На поверхностном уровне, когда есть народ, то нет этноса; когда есть нация, то нет народа. Но если заглянуть глубже, то под народом мы обнаружим этнос (койнему), а под нацией — народ (как первую производную от этноса).
Если в народе существовали две модели идентичности — этническая (количественно преобладающая, массовая) и индивидуальная (минимальная, элитарная), то в нации нормативом становится только одна — индивидуальная идентичность, которая распространяется на всех членов нации. В народе индивидуумами были «герои», аристократия. В нации индивидуумами являются «торговцы»35, т. е. третье сословие, а нормативно вообще все.
Индивидуальная идентификация лежит в основе нации и выражается в конкретном правовом признаке — гражданстве. Элементом нации является гражданин данного государства. Эта форма идентичности является правовой, политической, строго фиксированной.
На первый взгляд, она вытесняет и отменяет другие формы идентичности — с этносом и с народом. С правовой точки зрения, так оно и есть: ни этнос, ни народ, ни сословность, ни профессия, ни местожительство в классических нациях не являются юридическими категориями и нигде в официальной документации или в правовых уложениях не фигурируют. Но на более глубоком уровне факторы этничности и принадлежности к народу как историческому целому, включая его стратификационную структуру, сохраняются и при определенных обстоятельствах дают о себе знать.
В нации доминирует городское (политизированное) население, которому точнее всего соответствует греческий термин «δήμος» («демос»). «Демос» в отличие от этноса и «лаоса» в греческой истории означал именно «население», жителей «городских концов» без ясной этнической или сословной идентичности. Поэтому Аристотель рассматривал «демократию» как отрицательную модель политического устройства, в отличие от «политии». И в «демократии», и в «политии», по Аристотелю, речь идет о правлении большинства (в отличие от аристократии, монархии, тирании и олигархии). Но «полития» представляет собой качественное, социально компетентное, органическое большинство (что можно соотнести с народом), а «демократия» — правление «городских концов», где живут все без разбора, т. е. некачественного большинства.
Нация состоит из граждан, совокупность которых является населением (демосом).
Таким образом, мы можем проиллюстрировать различие идентичностей разных типов обществ на схеме 5.

Схема 5. Идентичность в разных типах общества
Нация и реверсивность
В отношениях между этносом и народом мы видим реверсивность, т. е. обратимость: из этноса (точнее, из этносов) создается народ, который вновь распадается на этносы. Сохраняется ли принцип реверсивности применительно к нации?
Здесь все несколько сложнее. Нация, в отличие от этноса, не является органическим, а в отличие от народа — историческим сообществом, т. е. зависящим от реализации проекта, выдвигаемого «героической» (в социологическом смысле) элитой. Нация задумана как чисто рациональное и договорное явление, а в самой идее договора заложена возможность его расторжения и заключения нового. Поэтому, теоретически, нация, распадаясь, порождает новые нации, на основании новых договоров с другой группой участников. Но на практике дело обстоит не совсем так. Распад национальных государств, например, Чехословакии или Югославии в 90-е гг. XX в., которые около столетия тому назад образовались как нации на обломках Австро-Венгерской и Османской империй, формально будучи новым договором, создающим новые нации, на практике является возвратом либо к этнической койнеме, либо к народу, исторически создавшему государство, оформленное как нация.
Чехословакия разделилась мирно и по договору на два национальных государства — Чехию и Словакию, но в основе такого разделения лежал этнический и этноконфессиональный принцип. Чехи — преимущественно протестанты, словаки — католики. Религия является социологическим признаком народа, а разделение двух близких славянских культур, чешской и словацкой, с очень близким, если не тождественным языком, указывает на обнажение чисто этнического начала — койнемы.
В бывшей Югославии народ формировался вокруг сербского этноса, пытавшегося консолидировать иные этнические и культурные группы Югославии. Сербы были этносом с амбициями народа, но оформленного как нация. Когда в Югославии ослабла вертикаль федеральной власти, этносы (оформленные в республики — хорваты, словенцы, македонцы, босняки, албанцы и черногорцы) стали расшатывать национальное государство. Этому отчаянно противостояли сербы, мыслившие себя народом, а Югославию — своим государством. Это закончилось трагически: почти все этнические регионы отделились и создали новые национальные государства, а сербы были отброшены от идентичности народа к идентичности этноса. Большинство этих процессов сопровождалось резней, битвами и вмешательством внешних государств-наций — стран НАТО и России.
Здесь мы видим, что на поверхностном уровне югославская нация пересматривала свой договор для создания новых национальных комбинаций. И с правовой точки зрения так оно и было. На практике же в этом трагическом и кровавом процессе происходили сначала
– частичная реабилитация этносов (кроме сербского), т. е. реверсивный распад нации на этносы (возврат к койнемам);
– а затем ускоренная (искусственная) трансформация этносов в нации, минуя стадию народа (т. к. весь процесс был определен правовым европейском контекстом Нового времени, где нормативным признается устройство общества именно по национально-государственному принципу).
Таким образом, с этносоциологической позиции мы можем различить реверсивность и в случае распада наций.
Национальность не является этносоциологической категорией
Еще больше, нежели с «народностью», проблем возникает с понятием «национальности». Это осложнено тем, что термин «национальность» получил особую смысловую нагрузку только в русскоязычном контексте (научном и правовом), тогда как на европейских языках смысл этого термина однозначен и не вызывает никаких двусмысленностей: «национальность» (английское «nationality», французское «nationalite», немецкое «Nazionalität») означает принадлежность к какому-то национальному государству, т. е. «гражданство». Это категория правовая и фиксируемая в документах.
В советской истории в связи с рядом обстоятельств, которые мы рассмотрим подробнее в соответствующей главе, понятие «национальность» приобрело совершенно иное значение и стало означать «принадлежность к этносу». Таким образом, произошла существенная путаница между двумя социологическими концептами, отстоящими друг от друга на огромное расстояние — между этносом (койнемой) и нацией («второй производной» от этноса, политической и искусственной конструкцией).
В этносоциологии как строгой дисциплине такое применение термина «национальность» исключается в еще большей степени, нежели термина «народность». Единственным значением, которое следует приписывать слову «национальность», является общепринятое европейское его употребление, подразумевающее только и строго «гражданство» и ничего кроме «гражданства».
«Национальность» в нашем случае — это гражданство Российской Федерации, бытие в качестве россиянина. А «татарин», «великоросс», «чеченец» или «якут» — это этничность, этническая принадлежность. Точно так же любой гражданин Франции, как этнический француз, так и натурализованный африканец или араб, имеют одну и ту же «национальность»: все «они французы по национальности» («leur nationalite c’est la nationalite francaise»). Этнически, религиозно, фенотипически, визуально они различаются, но это различие не юридическое и не правовое, оно не связано с нацией. Его могут фиксировать и самые обыкновенные наблюдатели, но корректно интерпретировать, описать и классифицировать — только этносоциологи (как мы говорили в предыдущей главе).
В курсе этносоциологии во избежание путаницы термин «национальность» мы использовать не будем.
Гражданское общество как этносоциологический концепт
Переходим к гражданскому обществу. Это еще одна производная — на сей раз от нации. Оно основано с одной стороны на том же принципе, на котором строятся нации — на принципе индивидуального гражданства, но в отличие от нации, оно отрицает фиксированность структуры агломерации, т. е. историческую оправданность (на современном этапе) государства как политического (хотя и сконструированного, механического) целого.
Взятое само по себе, в отрыве от нации, гражданское общество — это социологическая абстракция, представляющая собой проект существования граждан без национального государства, т. е. содержание без формы. Это общество мыслится как основанное исключительно на индивидуальной идентичности, по ту сторону всех форм идентичности коллективной — этнической, народной, сословной, религиозной и даже национальной.
Теория гражданского общества была создана философом Иммануилом Кантом (1724–1804) в духе пацифизма36 и антропологического оптимизма: Кант считал, что люди однажды поймут, что воевать между собой, защищая государства-нации, неразумно, и что гораздо выгоднее и прибыльнее сотрудничать. Тогда-то и реализуется гражданское общество, основанное на разуме и морали. Идеи Канта легли в основу магистрального направления либеральной и буржуазно-демократической политико-социальной традиции.
Гражданское общество, таким образом, мыслится изначально выходящим за пределы национальных государств и противопоставляется им как формам организации, подлежащим постепенному упразднению. Форма агломеративной национальной идентичности должна уступить место идентичности исключительно индивидуальной. И только тогда мы получим общество индивидуумов, где никаких форм коллективной идентичности не останется.
В определенном смысле «гражданское общество» есть абстракция, т. к. эмпирически мы не знаем современного общества, которое существовало бы вне государственности и было бы постнациональным. Тем не менее за этим концептом стоит вполне понятная система мысли, которая продолжает основной вектор социологических трансформаций, произошедших с обществом в Новое время и рисует теоретический горизонт, к которому, следуя таким путем, мы рано или поздно должны прийти. Этот путь мыслится как уход от коллективной идентичности и индивидуальной героической идентичности (в сословном обществе) в сторону чисто индивидуальной идентичности и объявляется смыслом истории и направлением прогресса.
Для западной культуры и западного общества такой ход мысли вполне естественен и оправдан. Поэтому в этносоциологии вполне можно оперировать с категорией «гражданское общество».
Гражданское общество как концепт есть «третья производная» от этноса. В определенном смысле гражданское общество есть полная антитеза этноса, т. к. все соотношения, структурные симметрии, ценности и формы идентификации между ними перевернуты. Гражданское общество — это такая социологическая модель, которая предполагает отсутствие этноса даже в глубинном, бессознательном измерении.
Реверсивность гражданского общества
Можно задаться теоретическим вопросом, а реверсивно ли гражданское общество? На этот вопрос мы не можем ответить однозначно, т. к. процесс создания гражданского общества не завершен, и мы не имеем прецедентов, на которые можно было бы опираться. Единственно, что можно сделать по этому поводу, это проследить реверсивность предшествующих обществ, рассматриваемых с позиции этносоциологии. Этнос не исчезает до конца в народе и обнаруживается снова при распаде тех форм, которые исторически создает народ. Распад наций показывает, что и в национальных государствах этнический фактор и фактор народа до конца не упраздняются и снова могут стать важнейшей социальной формой идентификации. Таким образом, реверсивность наблюдается на практике во всех феноменологически наблюдаемых формах. «Первая» и «вторая производные» от этноса снова «возводимы к аргументу» — если использовать метафору дифференциальных исчислений. На этом основании можно предположить, что реверсивность является общим законом этносоциологии и распространяется на все типы обществ — как известных исторически (в этом можно наглядно убедиться), так и будущих, которым только предстоит реализоваться.
Поэтому можно осторожно сказать, что скорее всего гражданское общество, когда (и если) оно будет построено, также имеет перспективу перехода назад — к менее сложным этносоциологическим моделям — таким как нации, народы и этносы.
Глобальное общество как апофеоз гражданского общества
Если поместить концепт гражданского общества в конкретный исторический контекст, мы увидим, что это общество не может не быть глобальным, сверхнациональным, постгосударственным. То есть гражданское общество предполагает то, что в конце концов оно обязательно станет глобальным. Поэтому мы можем рассмотреть глобальное общество как высшую форму общества гражданского, как его оптимальное и конкретное воплощение.
Глобальное общество в своем становлении имеет следующие этапы.
1. Начинается оно с укрепления индивидуальной идентичности в рамках национальных государств. Это называется «демократизацией» и «социальной модернизацией». Коллективная идентификация с нацией и, соответственно, с государством постепенно уступает место строго индивидуальной идентификации. Гражданское общество набирает силы. Демократические национальные государства становятся все более демократическими и все менее национальными.
2. Далее достигшие высокого уровня демократизации и модернизации государства-нации сливаются в одно наднациональное образование, которое превращается в основу постнационального демократического сверх-государства. (Этот этап мы видим реализованным на практике в современном Евросоюзе.)
3. Второй этап длится до тех пор, пока, наконец, все общества и государства не достигнут высокого уровня демократизации и не объединятся в единое мировое государство (Global State) с единым мировым правительством (World Governement). Граждане этого планетарного государства — Космополиса — будут только гражданами мира, и сам статус гражданина будет полностью приравнен к статусу человека. Эта идеология получила название «права человека». Она подразумевает именно концепт глобального гражданства или глобального общества.
С социологической точки зрения следует обратить внимание на главный момент концепта глобального общества (как общества гражданского): это общество отрицает любую форму коллективной идентичности — этническую, историческую, цивилизационную, культурную, сословную, национальную и т. д.
Реальное гражданское общество может быть только глобальным.
С точки зрения таксономии этносоциологической дисциплины глобальное общество не представляет собой отдельной социологической парадигмы, его можно рассматривать, скорее, как совершенную форму гражданского общества. Можно посмотреть и иначе. Если мы возьмем глобальное общество как парадигму, то гражданское общество будет переходным состоянием от нации к глобальному обществу. В этом случае все качественные признаки гражданского общества (в первую очередь, чисто индивидуальна идентификация) автоматически переносятся на глобальное общество.
Постобщество и социология постмодернизма
Все модели рассмотренных обществ — от этноса (как койнемы) до глобального общества — представляют собой версии «человеческого общества»37 (Р. Турнвальд). Этносы, народы и нации, а также определенные формы «гражданского общества» мы встречаем эмпирически в окружающем нас мире. А глобальное общество можно себе представить, продлив в будущее определенные тенденции, которые несомненно существуют уже сегодня. Все эти типы обществ предполагают человека как их участника. Все представления о переходе от стада зверей к первобытным человеческим обществам остаются гипотезами. Однако эти гипотезы остаются достаточно популярными, в том числе и в социологии (например, социал-дарвинизм известного социолога Герберта Спенсера (1820–1903), повлиявший на одну из авторитетных школ социологии — Чикагскую).
В настоящее время популярны другие гипотезы, которые представляют собой не гипотетический взгляд в до-человеческое прошлое, но столь же гипотетический взгляд в постчеловеческое будущее. Это направление известно как постмодернизм.
Существуют постмодернистские реконструкции, которые пытаются реконструировать следующий, находящийся уже за пределом глобального общества, горизонт будущего общества. Смысл таких конструкций основан на желании продлить вектор существующих сегодня социологических тенденций не только в «завтрашний день» («глобальное общество»), но и в послезавтрашний. Эта гипотеза, еще более абстрактная, нежели гражданское и глобальное общество, симметрична относительно человеческого общества представлению о животном «предисловии» человеческой социальности, но может быть названа «машинным «послесловием». Это идея постчеловека, который должен прийти на смену человеку как индивидууму.
Постчеловек — это концепт, продлевающий вектор дробления идентичности (который мы можем увидеть на схеме, изображающей трансформации идентичности от коллективной к индивидуальной — от этноса к глобальному обществу), еще на один качественный уровень и предлагающий расчленить индивидуальность на составляющие. Человеческий индивидуум тоже может быть осмыслен как нечто целостное и органическое, подобно этносу. И как социальная история (по меньшей мере, западных обществ) есть стремление раздробить эту цельность до атомарного уровня, так постистория или концепция «постчеловечества» предполагает раздробить и самого человека, заменив его машиной, киборгом, клоном или мутантом. Сама идея расшифровки гена уже содержит в себе поиск машинного кода человека, который можно будет улучшать и которым можно будет управлять, манипулировать. Сам человек осмысливается как машина, механизм, в функционирование которого можно вмешаться и его совершенствовать.
На основании такой социологической гипотезы, многократно обыгрываемой в современной научной фантастике (фрагменты которой постепенно становятся явью по мере прогресса генной инженерии, клонирования, нанотехнологий и т. д.), можно построить последнюю чисто теоретическую модель, выходящую за рамки человеческого общества.
Последней производной этноса будет постчеловеческое общество, или постобщество. Если в рамках человеческого максимальной антитезой этноса является глобальное общество («третья производная» от этноса, равно как «третьей производной» является и гражданское общество), то за его пределами — в проекции постлюдей (уже дивидуумов, а не индивидуумов), можно пунктиром наметить условную «четвертую производную» от этноса, представляющую собой ассоциацию киборгов, мутантов, клонов и машин.
Это логический предел, в который этносоциология упирается при анализе гипотетического будущего человечества.
На этом таксономия главных концептов этносоциологии исчерпывается.
Сводную модель всех этих типов общества мы видим на схеме 6.
§ 2. Инструментальные концепты этносоциологии
Стереотип. Этнический стереотип
Теперь перейдем к обзору основных инструментальных концептов этносоциологии, с помощью которых мы будем в дальнейшем описывать и интерпретировать базовые этносоциологические явления — этнос, народ, нацию, гражданское общество, постобщество.
Понятие «стереотипа» (от др.-греч. «στερεός» — «твердый», «пространственный» и «τύπος» — «отпечаток») было введено в научный оборот социологом Уолтером Липманом38 (1889–1974). Сам Липман дает такое определение: «Стереотип — это принятый в исторической общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации информации при распознавании и узнавании окружающего мира, основанный на предшествующем социальном опыте»39. Смысл введения этого понятия чрезвычайно важен для понимания сущности общества и, в частности, общественного мнения, т. к. любое общество склонно объяснять новое через старое и незнакомое через знакомое. Поэтому стереотип показывает структуру социального сознания, которое относится к окружающему миру и его трансформациям всегда избирательно, принимая то, что соответствует устоявшимся представлениям, и с недоверием подходя к новому (что приводит часто к неверному толкованию этого «нового» или его игнорированию).
Общество мыслит стереотипами, т. е. представлениями, которые часто конфликтуют с развертывающимися внутри и вне общества процессами. Но сплошь и рядом стереотипы оказываются сильнее, чем данные прямого опыта, т. к., будучи помещенными в сознание, они обрабатываются снова в согласии с уже сложившимися стереотипами. Все, что противоречит этим стереотипам, отбрасывается или перетолковывается.
В этносоциологии понятие стереотипа находит самое широкое применение. Например, его можно применить к разным типам общества.
На уровне этноса стереотипы будут самыми устойчивыми и жесткими; все новое отбрасывается или игнорируется.
На уровне народа структура стереотипов усложняется и создается поле (собственно история), где новое допускается. Хотя снова это новое толкуется чаще всего с опорой на стереотипы.
Нация ставит своей целью вырабатывать стереотипы искусственно и рационально. Создание стереотипов и их внедрение в обществе составляет сферу идеологии, политики и пропаганды.
Гражданское общество стремится перевести стереотипы с коллективного уровня на индивидуальный. Глобальное общество предполагает полную ликвидацию коллективных стереотипов.
Постобщество (и это является важнейшей программой постмодернизма) мыслится как такая среда, в которой стереотипы будут подвергнуты декомпозиции даже на индивидуальном уровне.
В более узком смысле можно говорить об этнических стереотипах, т. е. об устоявшихся в том или ином обществе представлениях об этносе, народе или нации.
Стереотип можно разделить на две составляющие — автостереотип и гетеростереотип. Автостереотип — это система стереотипов группы относительно самой себя. Гетеростереотип — система представлений этой же группы о других группах. В этносоциологических исследованиях метод выявления авто- и гетеростереотипов широко применяется40.
Американский социолог Уильям Самнер (1840–1910), один из основателей американской социологии, сформулировал социологический концепт «мы-группа» и «они-группа» («we-group» и «they-group») как инструмент для изучения структуры идентичности41. Самнер также ввел термин «этноцентризм», чтобы подчеркнуть специфику структуры социального мышления, где «мы-группа» (в данном случае взятая как этнос) находится всегда в центре, а «они-группа» — всегда на периферии. Структура «мы-группы» определяется автостереотипами, а «они-группы» — гетеростереотипами.
Установка (attitude). Этнические установки
Другим важнейшим инструментом этносоциологического анализа является социологический концепт установки.
Установка — психологическое состояние предрасположенности субъекта к определенной активности в определенной ситуации. Явление открыто немецким психологом Л. Ланге (1863–1936). К сфере социологии его применили американские социологи У. Томас (1863–1947) и Ф. Знанецкий (1882–1958). Они определяли социальную установку как «психологический процесс, рассматриваемый в отношениях к социальному миру и взятый прежде всего в связи с социальными ценностями». «Ценность есть объективная сторона установки. Следовательно, установка есть индивидуальная (субъективная) сторона социальной ценности», — утверждали они42.
Установка предшествует социальному действию и находится на границе между внутренним и внешним как инстанция, где формируется стратегия социального поведения и даже социального восприятия еще прежде того, как наступит момент прямого контакта с социальной средой.
Американский социолог Милтон Рокич (1918–1988) 43 показал, что установка бывает двух видов: на объект и на ситуацию. Установка на объект представляет собой заведомое отношение (базовый стереотип) к какому-то явлению, социальной или этнической группе. В такой установке нет обратной связи — она проецируется на внешний мир без учета его особенностей. Установка на ситуацию включает в себя обратную связь, т. к. помещает субъекта в конкретный индивидуальный момент, с которым ему приходится считаться.
В социологии известен эксперимент Лапьера, имеющий этносоциологическое значение. Американский социолог Ричард Лапьер (1899–1986) в начале 1930-х годов предпринял путешествие по ряду американских городов с двумя ассистентами-китайцами44. К китайцам в США в то время было довольно настороженное отношение. Когда Лапьер рассылал письма владельцам гостиниц с просьбой забронировать номера для него и для пары китайцев, он в большинстве случаев либо не получал ответа, либо ему сообщалось, что мест нет. Но когда он приезжал в гостиницу вместе с китайцами-ассистентами, большинство владельцев гостиниц соглашалось их принять без особых проблем. «Установка на объект» (китайцы) была негативной (срабатывал этнический гетеростереотип), а «установка на ситуацию» зависела от многих факторов (личное обаяние профессора, опрятный внешний вид китайских студентов, возможность заработать деньги на клиенте и т. д.) и чаще всего подавляла «установку на объект».
Ассимиляция
При изучении контактов двух этносов друг с другом часто происходит процесс этнической ассимиляции. Это означает постепенное поглощение одного этноса другим вплоть до его исчезновения. Под влиянием одного этноса (более сильного, энергичного, активного, настойчивого) другой этнос (более слабый, пассивный, вялый) может утратить свои специфические черты и слиться с первым. При этом происходит потеря языка, веры в общее происхождение и особых традиций, отличавших данный этнос от того, с которым происходит ассимиляция.
Ассимиляция может носить плавный и резкий характер, может быть относительно добровольной и строго принудительной, спланированной или спонтанной, может происходить в военных условиях или в мирных. Часто возникают ситуации, когда завоеванный этнос ассимилирует завоевателя (например, современные болгары представляют собой славянский этнос, завоеванный в древности тюрками под предводительством хана Аспаруха, пришедшего из Булгарии, но постепенно ассимилировавший тюркскую знать, утратившую язык, память о своем происхождении и этнические традиции в славянских массах).
При ассимиляции, которая внешне рассматривается как однонаправленный процесс — исчезновение одного этноса и его растворение в другом — происходит более глубинное взаимовлияние этносов. Поглощаемый этнос часто привносит свои оригинальные черты, которые способны повлиять на структуры более активного поглощающего этноса. Так, покоренные индоевропейскими кочевниками автохтонные жители Индостана (в большинстве своем дравидские племена), приняв этническую культуру индусов, их традиции, язык и верования, фундаментально трансформировали изначальную ведическую культуру и придали ей совершенно уникальное направление.
Этническая консервация
Противоположностью ассимиляции является этническая консервация. Консервация означает сохранение этноса в ситуации массивного воздействия другого этноса, объективно ведущего к ассимиляции. Но при определенных обстоятельствах более слабому этносу удается уклониться от ассимиляции и сохранить свою идентичность.
Чаще всего консервация этноса происходит за счет отступления этноса на периферию зоны влияния более сильного этноса, в труднодоступные и слабо освоенные места — горы, леса, пустыни, тундры, льды и т. д. В этих сложных для обитания территориях часто можно встретить представителей древнейших этносов, которые пережили в условиях консервации не одну волну более сильных и агрессивных пришельцев. Примером таких архаических этносов являются эскимосы, чукчи, эвенки и другие малые этносы Севера. Много архаических черт у некоторых горских народов: у осетин, аварцев, даргинцев, сванов, чеченцев, ингушей, табасаранцев, лезгин и т. д.
Аккультурация
Другой формой межэтнических взаимодействий является аккультурация. Этот процесс затрагивает не все общество в целом, а только его определенный срез. Аккультурация есть передача культурного кода одного этноса другому, как правило, без учета специфической модели этнического устройства того общества, на которое направлена аккультурация.
В процессе аккультурации происходит культурная трансформация той социальной группы, на которую она направлена, но это не приводит (как в случае ассимиляции) к полному слиянию двух групп или поглощению одной из них другой.
Аккультурация в XIX в. мыслилась только в форме трансляции культурного кода от более сложного общества к более простому (например, от народа или нации к этносу). Так оно и происходит в большинстве случаев. Однако этнолог Ф. Боас подчеркивает, что нет такого общества (простого или сложного), которое не подверглось бы культурному влиянию других обществ. Так, он приводит в пример форму гарпуна норвежских рыбаков, которая в точности воспроизводит намного более древний рыболовецкий инструмент эскимосов Гренландии45.
Аккультурацию можно понимать расширенно — как культурное воздействие одного общества на другое без их смешения в ходе культурного обмена (формула этносоциологов Р. Рэдфилда, Р. Линтона, М. Херсковица46, развивающих подход Ф. Боаса), а можно более узко — как однонаправленное воздействие более сложной (комплексной) культуры на менее сложную.
Интеграция
Еще одной формой межэтнических взаимодействий является интеграция. Она представляет собой разновидности включения одной этнической группы в другую, чаще всего добровольного. Процесс интеграции отличается от ассимиляции своим осознанным характером и обрядовой формализацией, а также тем, что он затрагивает индивидуальных членов инаковой этнической группы. Существует ряд обрядов, служащих для этой цели.
Основными формами интеграции являются:
– адопция;
– кровное братство;
– модель патронат/клиентела.
Адопция представляет собой обряд принятия в этническую общину представителя другой этнической общины (как правило, на индивидуальной основе и по просьбе принимаемого). В ходе обрядов адопции (которые имеют множество вариантов) посвящаемый имитирует «рождение» в этносе, удостоверяет веру в общего с племенем предка (т. е. предок племени становится его собственным предком), проходит ознакомление с традициями и обычаями. Предполагается, что адоптированный член будет жить в составе данной этнической общины и говорить на ее языке.
Кровное братство тоже сопряжено с ритуалом, смысл которого в смешении крови двух индивидуумов, что символизирует интеграцию в одно и то же племя (какое именно, обязательно уточняется). Став «кровным братом» с представителем другого племени, человек подчиняется отныне всем социальным формам — табу, брачным правилам, поощрениям и наказаниям, т. е. принимается всеми как полноценный член именно этой общины. Он принадлежит к тому же роду, что и его «кровный брат» точно так же, как если бы он и был его кровным братом. С социологической точки зрения обрядовые формы «кровного родства» полностью тождественны по результатам реальным родственным отношениям.
В некоторых случаях между двумя этническими обществами выстраиваются отношения по формуле патронат/клиентела. Это предполагает, что один этнос (патрон) берет под защиту другой этнос, обязуется его охранять от возможного нападения противника, а взамен другой этнос (клиент) берется снабжать этнос-патрона различными материальными объектами — чаще всего продуктами питания или иными формами ценностей. Подчас интеграция этносов по модели патронат/клиентела становится весьма устойчивой и длится веками, запечатляясь в мифах, социальных установлениях и обрядах. Этносы влияют друг на друга, пребывая с неразрывном симбиозе, но не утрачивая при этом своих особых черт.
В более сложных обществах отличие интеграции от ассимиляции заключается в том, что интегарция позволяет сохранить ряд особых этнических признаков, а ассимиляция предполагает полное их вытеснение свойствами того общества, которое ассимиляцию осуществляет.
Применимость этносоциологических методов к сложным обществам
Этносоциология рассматривает этнос как койнему, простейшую форму общества. Более сложные типы общества — народ, государство, религия, цивилизация, нация, гражданское общество и т. д. — представляют собой производные от этноса. Более подробное изучение качества этих производных и их социологического смысла будет дано в следующих главах. Но уже сейчас можно наметить важный вектор этносоциологического подхода: те социологические инструментальные концепты, которые встречаются на уровне этноса, мы легко сможем обнаружить и в более сложных системах общества и применить к их изучению. Структура этих концептов будет несколько меняться параллельно трансформациям идентичности (от коллективной до индивидуальной — и даже «дивидуальной»), поэтому можно назвать их инструментальными производными.
Например, процесс ассимиляции можно увидеть как в случае двух обществ этнического порядка (два этноса), так и при образовании народа (где ассимиляция играет ключевую роль), но и также и при формировании нации (натурализация). Существует форма ассимиляции, свойственная гражданскому обществу, выражающаяся в пропаганде идеологии либерализма, принципов толерантности и политкорректности и в осуждении национального и государственного устройства, что является способом включения человека в структуру «гражданского общества». Во всех случаях мы имеем дело с ассимиляцией, но качество и структура ее всякий раз различны. Поэтому мы и говорим об инструментальных производных.
То, что прозрачно и наглядно на уровне койнемы, становится более завуалированным на уровне сложных моделей общества. Этносоциология призвана не сводить сложное к простому, но прослеживать:
– как происходит структурирование сложных обществ на основании простых;
– что при этом происходит с простыми обществами и каково их место в общем контексте сложных;
– что общего между простыми и сложными обществами и
– что в них принципиально различно.
Глава 3
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
§ 1. Примордиализм
Основные методы интерпретации этнических явлений
В этносоциологической дисциплине принято выделять три подхода к пониманию сущности этноса47. Эти подходы таковы: примордиализм, конструктивизм и инструментализм.
Примордиализм — от латинского слова «primordialis», «изначальный», «первичный».
Конструктивизм — от слова «constructio», т. е. «нечто искусственно созданное».
Инструментализм — от слова «instrumentum», использование чего-то в инструментальных целях.
Примордиализм сближается с «эссенциализмом» (от латинского «essential», «сущность»), а «конструктивизм» с «модернизмом». Иногда к трем основным методикам добавляют еще направление «этносимволистов» (Э. Смит).
Некоторые авторы по этносоциологии48 представляют дело так, будто речь идет о различных взглядах на сущность этноса. Мы покажем, что при правильном различении этноса и его производных эта проблема исчезает сама собой, поскольку к разным типам общества необходимо подходить с разными критериями, что автоматически снимает противоречия.
Для удобства изложения возьмем за основу три направления — примордиализм (эссенциализм), конструктивизм (модернизм) и инструментализм, — и на их основании покажем методологические особенности толкования этнических феноменов и этнических процессов. Отдельно рассмотрим также направление «этносимволизма».
Сущность примордиалистского подхода
Примордиалистский подход в самом широком толковании состоит в том, что этнос признается изначальным (примордиальным) свойством человеческого общества и человеческой культуры. Этнос лежит в основе общественных структур, которые представляют собой его вариации, диалектические моменты.
Этот термин ввел в 1957 г. американский социолог Эдвард Шилз49 (1910— 1995). Он заметил, что в архаических обществах этническое родство осознается как особая близость и тяга к родственнику не как к личности, но как к носителю особого «значимого отношения», которое может быть описано как «примордиальное» отношение или Примордиал»50. Шилз строго противопоставляет структуру «Примордиала» тем социальным структурам, которые вырабатываются на основе межличностного взаимодействия. Ранее мы приводили в пример фигуру Do Kamo, исследовавшуюся Морисом Леенгардтом.
Этнос есть нечто изначальное, примордиальное, развернутое вокруг фигуры Примордиала.
В этом главном пункте сходятся между собой все типы примордиализма. И это утверждение настолько самоочевидно и подтверждается историческими наблюдениями, что его довольно трудно оспаривать — по крайней мере, в такой формулировке. Если понимать под этносом то, что понимает большинство этносоциологов и что формулирует в своем определении Широкогоров, то, действительно, язык, вера в общее происхождение и обряды (а это и есть этнос) характеризуют человеческое общество, начиная с самых древних (изначальных, примордиальных) эпох вплоть до нашего времени. И даже в обществах, которые мы определи как производные от этноса и в которых этноса, казалось бы, уже давно не должно было быть, всегда можно обнаружить этнический компонент, проявляющийся наглядно при определенном стечении обстоятельств.
У такого отношения к этносу едва ли нашлись теоретические противники, если бы примордиализм формулировался именно таким образом. Но кроме признания изначальности (примордиальности) этноса разные авторы добавляли к этому различные дополнительные характеристики, что давало повод для критики.
Разновидности примордиализма
Различные направления примордиализма суммировал в своей работе «Мифы и воспоминании о нации»51 современный английский этносоциолог Энтони Смит (создатель направления «этносимволизма», о котором речь пойдет ниже).
Примордиализм, по Смиту, бывает трех видов:
– эссенциалистский, полагающий, что этнос является неизменной формой существования общества от древности до современных наций и что между современными нациями и древними этносами существует непрерывная связь (это крайняя форма примордиализма);
– родовой, настаивающий на том, что все этнические символы направлены на то, чтобы продемонстрировать непрерывную линию родства у поколений;
– т. н. «примордиализм Гиртца», названный по имени антрополога Клиффорда Гиртца52 (1926–2006), автора теории «символической антропологии», который утверждал, что, несмотря на то, что прямой связи между историческими формами этносов доказать невозможно, вера в такую связь является настолько устойчивым социологическим фактом, что при анализе общества ее следует учитывать, как если бы это было реальностью.
Все определения требуют немедленных комментариев. В категорию «эссенциалистского примордиализма» Э. Смит включает теории, которые вообще не делают различия между этносом и нацией и не выделяют народ в отдельную категорию, рассматривая этносы как органический феномен, неизменный в течение всей истории. Это очевидно неверно, т. к. при переходе от простого общества, которым является общество этническое, к сложному обществу происходят фундаментальные изменения, затрагивающие все социальные структуры. Поэтому этнос в этническом обществе и этнос в формализованном государстве, в религиозном контексте или в цивилизации будет представлять собой различные реальности. В еще большей степени это касается нации, которая строится на совершенно ином принципе, нежели этнос. Поэтому «эссенциалистский примордиализм» следует признать чрезмерно наивным и имеющим весьма ограниченную научную ценность.
Еще менее адекватен «родовой примордиализм», настаивающий на непрерывности родовой истории, вокруг которой, якобы, происходит развитие культуры. Мы видели уже, что этнос обязательно состоит из нескольких экзогамных частей (родов), отношения между которыми выстроены по довольно сложным социологическим сценариям даже у самых простых этносов. Род и родовые связи — лишь одна из составляющих этноса, и этническая культура состоит из признания родовой множественности (как минимум дуальности) и правил брачного обращения с ней. Таким образом, базовый культурный паттерн намного сложнее родового в самых простых обществах, а в более дифференцированных эта сложная структура становится и того сложнее. Поэтому «родовой примордиализм» также следует отложить.
Адекватнее всего выглядит «примордиализм Гиртца», который рассматривает этнос именно как общество и как социологическое явление и считает его важнейшим в общем комплексе факторов, формирующих социальную идентичность.
В эту же категорию подходов можно отнести направление, которое Э. Смит называет «перенниализмом» (от латинского «perennis» — «долгий», «постоянный», «длительный»), а точнее, одной из его разновидностей — «перпетуальным перенниализмом». Смысл перенниалистского подхода к этносу в том, что он считает этнос не органической, но исторической категорией, постоянно меняющейся и связанной с посторонними мотивами — властью, господством, экономическими интересами, борьбой за ресурсы и т. д. Перенниалисты в целом считают, что этнос — величина переменная. Но «перпетуальные перрениалисты», наиболее близкие к «примордиализму Гиртца», полагают, что этнос существует всегда, но находится в постоянном изменении. Этот «перпетуальный перенниализм» вполне может быть принят в той части, в которой он подчеркивает изменение социологической структуры этноса в истории. Это действительно происходит, но только в том случае, если этнос вступает в историю, а это мы называем переходом к стадии народа. С такой поправкой этот подход можно признать полезным, особенно в том, что он предлагает рассматривать различные формы трансформации этноса в истории.
Теперь мы подходим к другому важному делению в рамках примордиализма. Можно выделить обобщенно два направления примордиализма: одно рассматривает этнос только как общество, как социальный и культурный феномен (немецкая этносоциология Р. Турнвальда и В. Мюльмана, американская культурная антропология Ф. Боаса и его последователей, английский функционализм Б. Малиновского и А. Рэдклифф-Брауна, французская структурная антропология К. Леви-Стросса, «примордиализм Гиртца», «перпетуальный перенниализм» и т. д.), а другое добавляет в этнос биологические, родовые и расовые факторы.
В полной мере адекватным следует признать только первый подход, но для полноты картины следует сделать обзор и второго.
Биосоциальный подход
Сторонники биосоциального подхода к этносу руководствуются особой антропологической установкой, согласно которой человек есть явление двойственное: с одной стороны, это биологический организм, относящийся к разновидности животных (млекопитающие), а с другой — носитель рационального разумного начала, на основании которого он выстраивает общественные структуры, социум. Истоки понимания человека как своеобразного животного, наделенного разумом, уходят в греческую античность. Еще Аристотель определял человека как «ζωον λογον εχον», «животное, наделенное логосом, разумом», что на латыни звучит как «animalis rationalis».
Это позволяет понимать все действия, творения, реакции и поступки человека двояко — выявляя в них животную (биологическую, зоологическую) составляющую и собственно разумную, рациональную природу. С таким подходом сторонники биосоциальной теории и рассматривают этнос, выявляя в нем биологическую (животную) и рациональную компоненту. Этнос в целом видится в таком случае как расширение рода с добавлением животной составляющей — члены роды ощущают себя стаей наподобие животных видов, держатся друг друга, помогают друг другу и вступают в битвы с чужими родами за добычу, пищу, территорию, другие материальные ресурсы. Разумная природа сдерживает эти животные импульсы и мотивации, пытается их ограничить и упорядочить, цензурирует, подавляет и вытесняет их.
В этой теории этнос есть общество, основанное на компромиссе между животным и разумным, причем животное начало проявлено здесь в большей степени, чем в других формах общества.
Общая логика социальной истории видится как процесс усиления рационального начала по отношению к началу биологическому, животному. Каждая следующая форма общества укрепляет рациональную компоненту, возводит ее в общественный закон. Но биологическое начало сохраняет свои позиции и продолжает выступать движущей силой человеческой активности — от самых простых сфер (борьба за выживание) до самых сложных (воля к власти). Поэтому человек даже в самых сложных и высоко дифференцированных социальных системах продолжает сохранять свою биосоциальную природу, а значит, и некоторые этнические черты, как рудимент животного переживания родства и стаи.
Таковы теоретические предпосылки биосоциального подхода. К примордиализму его можно отнести за счет утверждения изначальности и постоянства этнического фактора.
Если внимательно проанализировать этот подход, мы увидим, что собственное этническое толкуется здесь как проявление именно биологической составляющей, откуда повышенное внимание к роду. Этническое (простое) общество видится здесь как общество, где животное начало проявляется максимально, а социальное, разумное — минимально. Этнос тем самым признается биологической стороной человека. И то, что он сохраняется в сложных обществах, истолковывается как дань животной стороне человека как такового.
Мы уже неоднократно говорили о несостоятельности такого подхода и еще раз вернемся к этому после рассмотрению некоторых более конкретных форм его проявления.
Эволюционизм: Г. Спенсер
Классическим выражением биосоциального подхода является теория эволюции видов (Ч. Дарвин), примененная к обществу и его истории. В законченной форме эту теорию сформулировал английский социолог, крупнейший теоретик либерализма Герберт Спенсер (1820–1903), изложивший ее в десятитомном труде «Система синтетической философии»53.
Идея Спенсера состоит в следующем: мир представляет собой процесс постоянного и необратимого развития от простого к сложному. Это общее свойство материи, живых организмов и обществ. Усложнение системы — всегда позитивно и созидательно, поэтому переход от простого к сложному считается «прогрессом», «благом», «ценностью» и т. д. «Сложность», «усложнение», «дифференциация» мыслятся как этические категории, а не просто нейтральные констатации.
Движение к усложнению системы происходит в форме конфликтов. При рассмотрении биологических видов Спенсер опирается на теории Ч. Дарвина (1809–1882), видя в них подтверждение собственных идей о всеобщей эволюции (сформулированной под влиянием романтиков — философа Ф. Шеллинга (1775–1854) и поэта С. Кольриджа (1772–1834) — еще за несколько лет54 до его знакомства с основным трудом Ч. Дарвина «Происхождение видов»55). Как в животных видах «борьба за выживание» составляет главный закон эволюции, так этот же закон является основным вектором человеческой истории. В этой борьбе всегда побеждает «наиболее подходящий» (английское «the fittest»), способный к усложнению поведенческих стратегий. Поэтому между зверем и человеком существует непрерывность, обеспеченная единством универсального закона эволюции.
Спенсер и его социал-дарвинизм не столько объясняют человеческое поведение наличием в человеке звериного начала, сколько рассматривают алгоритм поведения и зверя и человека как частные случаи общего закона усложнения систем, который действует и для неживой материи. Человеческое общество становится полем борьбы, как и все другие уровни реальности. В животном мире мы лишь видим грандиозные и наглядные горизонты эволюции, которые служат примером для объяснения человеческой истории. Человеческое общество, само по себе более сложное, чем животное стадо, двигается в сторону усложнения по той же траектории, что и эволюция видов — битва за ресурсы заставляет общества вырабатывать все более эффективные стратегии и применяться к обстоятельствам. На этом пути выигрывают только самые «подходящие» («the fittest») общества.
Спенсер выделяет два основных типа обществ — силовое (военное) и промышленное. В силовом обществе борьба за выживание идет с помощью подавления, насилия, принуждения. Оно выстроено иерархически: наиболее «подходящие» нещадно эксплуатируют наименее «подходящих» и живут за их счет. Силовое общество — относительно простое.
В промышленном обществе социальные стратегии борьбы усложняются и переносятся в экономическую и договорную сферу. Сущность борьбы за выживание остается той же, только усложняются правила ее ведения. Вводятся особые законы, жестко определяющие формы борьбы и зоны ее легитимного ведения, которые являются допустимыми. Война за выживание в промышленном обществе превращается в экономическую конкуренцию, которая движет общество в сторону все большего усложнения. По Спенсеру, у этого движения есть цель, состоящая во всеобщем равновесии, когда усложнение социальной системы достигнет своей кульминации. Тогда государство отомрет, и каждый индивидуум будет представлять собой максимально сложную автономную систему. Такое общество постепенно оставит только одних «подходящих», остальные же исчезнут как не соответствующие законам эволюции.
Спенсер специально не говорит об этносе и начинает строить свою социальную типологию с силового общества, которое в этносоциологии соответствует стадии народа.
С этносоциологической точки зрения социал-дарвинизм Спенсера может быть принят в его описании процесса усложнения обществ, что соответствует эмпирическим данным — по крайней мере, в рамках западноевропейской цивилизации. Но что следует отбросить, так это его биологическую и дарвинистскую интерпретацию основного мотива человеческой деятельности (чисто биосоциологический подход, рассматривающий главным движущим импульсом человека стремление к физическому наслаждению, отождествляемому в духе англосаксонского прагматизма со «счастьем») и уверенность в необратимости и однонаправленности эволюции и прогресса. Мы знаем, что большинство обществ могут двигаться с точки зрения простоты или сложности своих систем в обоих направлениях.
Идеи Спенсера, придающего «борьбе за выживание» в обществе легитимный статус, были подхвачены двумя политическими идеологиями ХХ в. — неолиберализмом, считающим нормой экономической жизни неравенство и господство богатых и успешных над бедными и неудачливыми, и расизмом, обосновывающим неравенство рас между собой и доминацию белой расы в мировом масштабе результатами этой борьбы, в которой победили наиболее «подходящие» (т. е. белые).
Эволюционистские идеи затронули целый ряд антропологов, которые аккумулировали значительный материал, касающийся простых обществ, т. е. этносов. Их подход основывался на убежденности, что они изучают низшие типы и формы социальной жизни с позиции высших. Поэтому их выводы и методики представляются весьма сомнительными: в архаических племенах они стараются найти нечто похожее на современные или исторически зафиксированные сложные общества и истолковать архаику как грубую и примитивную форму того, что им известно о сложных обществах. Все то, что не вписывалось в эту концепцию, они игнорировали. Несмотря на «эволюционистский расизм», существенно снижающий ценность таких работ, они могут рассматриваться как рабочий материал для этносоциологии, разумеется, после внесения соответствующих поправок.
Классическими представителями этой линии являются американский этнолог Льюис Морган (1818–1881), английские антропологи Эдвард Тайлор (1832–1917) и Джеймс Джордж Фрезер (1854–1941), французский антрополог Люсьен Леви-Брюль (1857–1939).
Расовые теории
Расовые теории в широком понимании представляют собой антропологические, социологические или культурологические системы, в основе которых лежит допущение о том, что фенотипические (внешний вид), психологические, физиологические и иные биологические особенности людей, указывающие на их общее происхождение (расу), напрямую и ощутимо влияют на структуру обществ, которые создаются этими людьми. Расовые теории, таким образом, основаны на утверждении прямой связи между биологическим и социологическим факторами в понимании общества и этноса. Эту связь и пытаются описать и обосновать расовые теории.
С.М. Широкогоров так характеризует разновидности расовых теорий:
«В Новое время натуралист Карл Линней (1707–1778) разделил всех людей на три типа:
1) „дикий человек“ — «homo ferus», к которому были отнесены преимущественно случаи одичания и превращения в животное состояние оставленных без человеческого воспитания детей;
2) „уродливый человек“ — «homo monstruosus», к которому были отнесены микроцефалы и другие патологические случаи и
3) „прямоходящий человек“ — «homo diurnus», в который входят четыре расы, а именно: американская, европейская, азиатская и африканская, различаемых рядом физических особенностей. Линней указывает также и на признаки этнографические. По его мнению, американцы управляются обычаями, европейцы — законами, азиаты — мнениями, а африканцы — произволом. (…)
В конце XVIII столетия Иоганн Фридрих Блюменбах (1752–1840) построил совершенно самостоятельную классификацию, основывая ее на цвете волос, кожи и форме черепа. Блюменбах насчитывает пять рас, а именно:
1) Кавказская раса — белая, с круглой головой, живет в Северной Америке, Европе и в Азии до пустыни Гоби;
2) Монгольская раса — имеет квадратной формы головы, черные волосы, желтый цвет лица, косые глаза и живет в Азии, кроме Малайского архипелага;
3) Эфиопская раса — черная, со сплющенной головой, населяет Африку;
4) Американская раса — с кожей медного цвета и деформированной головой, и, наконец,
5) Малайская раса — имеет каштановые волосы и умеренно круглую голову. Эту классификацию следует рассматривать как чисто антропологическую, соматическую.
Фр. Миллер ввел в свою классификацию в качестве признака и язык. Он полагает, что цвет волос и язык являются самыми устойчивыми признаками, которые могут послужить основой для подразделения людей на расы, и устанавливает, что существуют:
1) Пучковолосые — готтентоты, бушмены, папуасы;
2) Руноволосые — африканцы, негры, кафры;
3) Прямоволосые — австралийцы, американцы, монголы и
4) Кудреволосые — средиземцы.
Эти расы в общей сложности дают еще 12 групп.
Опуская другие классификации, как например, Шиллера, Вайтиа, Геккеля, признававшего 4 рода и 34 расы, Кольмана, признававшего 6 рас и 18 разновидностей, и других, я укажу еще, как наиболее оригинальную попытку, классификацию Деникера, который установил 13 рас и 29 групп, основываясь, подобно ботанику, как он сам говорит о своем методе, на всех антропологических признаках. Наконец, профессор Ивановский установил уже 41 группу»56.
Расизм
Расовые теории не всегда, но довольно часто выливаются в расизм, который является их крайним выражением.
Расизм — теория утверждающая, что индивидуальные свойства человека и специфика социального устройства в значительной (подчас, решающий) мере определяются фактом их расовой принадлежности. Выстраивающаяся на этом основании иерархия рас подразделяет их на высшие и низшие. Тезис о неравенстве рас является основным признаком расизма.
Впервые теоретически оформить расовую теорию попытался французский социолог Жозеф Артур де Гобино (1816–1882) в книге «Эссе о неравенстве человеческих рас»57. В четырех томах этого объемного труда Гобино обобщает огромный массив данных, куда включает и собственные наблюдения и исследования. На основании этого выдвигает гипотеза, что три расы — белая, черная и желтая — обнаруживают ярко выраженные (врожденные, по Гобино) склонности, навыки, приоритеты и социальные установки, структурированные различным образом. Белые отличаются рациональностью, склонностью к упорядочиванию систем, интересом к технике. Желтые созерцательны и неторопливы. Черные — хаотичны и анархичны, но талантливы в музыке, танцах, пластике.
Вопреки общепринятому мнению, Гобино не иерархизирует расы, а неравенство понимает как различие преобладающих у каждой из них социологических паттернов. Клод Леви-Стросс, один из самых авторитетных и основательных противников расизма, в книге «Раса и история»58 уточняет, что не следует путать идеи самого Гобино с теми выводами, которые сделали из него расисты.
Неравенство в психологии различных народов замечает социолог и основатель социальной психологии Густав Ле Бон (1841–1931). В своей книге «Психологические законы эволюции народов»59 он, в духе Гобино, отмечает, что различные этносы, народы и расы тяготеют преимущественно к различным сферам деятельности и несут в своей психологии одни установки и наклонности в ущерб другим. Ле Бон замечает, что, будучи предоставленными самим себе, англосаксы, например, быстро выстроят политическую организацию самоуправления, а представители романских народов (испанцы, португальцы или итальянцы) скорее устроят анархию и хаос.
Смысловой переход от констатации «неравенства», понятого как различие, к иерархизации рас происходит у английского социолога Хьюстона Стюарта Чемберлена (1855–1927), который является ключевой фигурой в становлении расизма. В своем главном труде «Основы XIX столетия»60 Чемберлен описывает свою версию мировой истории, где позитивной силой выступают представители «белой расы» (арийцы»), а им противодействуют «низшие» («цветные») расы. Наибольший вред, по мысли Чемберлена, приносят «арийцам» семитские народы, и в первую очередь, «евреи». Борьба «высших» рас (арийцев) с «низшими» составляет суть истории — как древней, так и современной. Теория Чемберлена является не только расовой, но и расистской, т. к. она основана на признании «низших» и «высших» рас. Эта теория была положена в основу германского национал-социализма и практически стала официальной версией изложения мировой истории в Третьем Рейхе.
Французский социолог Жорж Воше де Ляпуж (1854–1936) свои расовые теории строит на противопоставлении «долихокефалов» (людей с вытянутым, продолговатым черепом) и брахикефалов (людей с круглым строением черепа): первых он считает «высшими» людьми («арийцами»), а вторых — «низшими»61. В Европе Воше де Ляпуж выделяет три расы:
• «Homo Europeus» (этот тип характерен для североевропейских стран, в первую очередь, германского происхождения);
• «Homo Alpinus» (обитали Центральной Европы);
• «Homo Mideteraneus» (тип, наиболее распространенный в Средиземноморье).
В. де Ляпуж выстраивают между ними иерархию, считаю, что Homo Europeus является «чистым» расовым типом, а Homo Mideteraneus — смешанным с другими неевропейскими расами и, следовательно, низшим. Homo Alpinus представляет собой «промежуточную инстанцию».
В США придать расизму «научный» характер попытался антрополог Мэдисон Грант (1865–1937), близкий друг двух американских президентов Теодора Рузвельта и Герберта Гувера. В 1920-е гг. Гранту удалось провести несколько законодательных инициатив, ограничивающих иммиграцию в США, и даже способствовать принятию в штате Вирджиния в 1924 г. «Акта о Расовой Чистоте», формально запрещающего межрасовые браки.
В своей книге «Исчезновение великой расы»62 Грант воспевает «нордическую расу» (под которой он понимает население Северной Европы), которой, по его мнению, США обязаны своим мировым могуществом, и требует введения «евгеники» — специальных правил брачного законодательства, направленных на очищение расы и ее улучшение. Он проповедует принцип «расовой чистоты» и предлагает насильно помещать представителей «низших рас» в гетто, за пределы которых им будет запрещено выходить.
Одним из видных теоретиков расизма наряду с Воше де Ляпужем и Мэдисоном Грантом в ХХ в. был немец Х.Ф. Гюнтер (1891–1968), который выделял следующую таксономию рас в Европе63:
1) нордическая раса;
2) динарская раса;
3) альпинская раса;
4) средиземноморская раса;
5) западная раса;
6) восточно-балтийская раса (иногда он добавлял к ним фалийскую расу).
Творцами цивилизации Гюнтер считал представителей нордической расы — высоких, голубоглазых долихоцефалов. Африканцев и азиатов он считал неполноценными. Больше всех выпало на долю евреев, которых Гюнтер относил к «представителям Азии в Европе» и, соответственно, считал главным «расовым противником».
Политико-догматическую версию этих идей, направленную на их практическое применение, изложил в своих работах (в частности, «Миф ХХ столетия»64) один из идеологов Третьего Рейха Альфред Розенберг (1893–1946), казненный по решению Нюрнбергского трибунала.
Расизм стал составной частью национал-социалистической идеологии, и реализация расовых принципов повлекла за собой гибель миллионов невинных людей.
Расистский аспект изучения человеческого гена
В наше время обвинениям в расизме часто подвергаются ученые, работающие над вычислением структуры человеческого гена. Особые опасения вызывают попытки создать централизованный генетический банк, где копились бы данные о генах различных этнических и расовых групп.
В авангарде такой исследовательской деятельности выступает Институт Популяционных и Ресурсных Исследователей (Институт Моррисона), действующий в рамках Стэндфордского Университета (США), работающий над «Проектом Различий Человеческого Гена» (Human Genom Diversiry Project — HGDP65).
Проект ставит своей целью собрать данные о составе крови большого числа жителей Земли, классифицированных по этническим и расовым признакам, с тем, чтобы проследить генеалогию их дальних предков. Для того чтобы узнать свое происхождение вплоть до первых людей, всем желающим предлагается послать в этот Институт несколько капель своей крови, собранной и упакованной должным образом. За отдельную плату сотрудники института берутся реконструировать полную этническую генеалогию предков и прислать свидетельство о ее подлинности.
Кроме того, что модели генетической реконструкции прошлого основаны на довольно спорных парадигмах и не могут считаться научно достоверными, большие опасения вызывает использование генетической информации в дальнейшем. Многие опасаются, что это будет использовано для разработок генетического оружия, способного поразить представителей какого-то конкретного этноса или конкретной расы. Ряд стран — в частности, Китай — законодательным образом запрещает сбор подобной информации на своей территории в целях обеспечения государственной безопасности.
Критика расового и биосоциального подходов
Расовый и расистский подходы неприемлемы в этносоциологии по нескольким причинам. Если моральная сторона вопроса и память о криминальной практике введения «расовых законов» в Третьем Рейхе и миллионах людей, которые стали их жертвами, не требует особенных комментариев, то гораздо важнее пояснить научную непригодность этих теорий.
Во-первых, само представление о человеческих расах, как показал Широкогоров, чрезвычайно неточно, и разные системы классификации предлагают взаимоисключающие формы их определения. Рас выделяется либо слишком мало (три или четыре), либо слишком много. При такой не устоявшейся и не точной таксономии каких-то основательных социологических выводов делать просто нельзя.
Во-вторых, не существует никаких внятных и обоснованных исследований, научным образом доказывающих прямую связь между устройством общества и расовыми особенностями людей, его создавших. Если определенные наблюдения и свидетельствуют о различных склонностях тех или иных расовых групп, то совершенно не очевидно, что за них ответственны именно генетические и расовые, а не социологические, культурные и исторические факторы.
В-третьих, когда речь заходит о различии рас и тем более об их иерархии, то критериями выступают те свойства, ценности и установки, которые доминируют в обществе, к которому принадлежит сам исследователь. Он по умолчанию свои ценности воспринимает как нормативные, а ценности других групп, отличающиеся от его собственных, как низшие. Не существует расовых теоретиков, которые самих себя причисляли бы к «низшей расе». Следовательно, в данном случае мы имеем дело не с наукой, а с идеологией.
В-четвертых, нет никаких оснований придавать качеству большей сложности и дифференцированности общества признака превосходства. Более сложное общество является более сложным и все, но из этого никак не следует, что оно лучше простого. Мы живем в сложном обществе, но это никак не значит, что простые общества хуже нашего.
В-пятых, ничто не подтверждает, что технические и материальные успехи общества являются последним критерием его превосходства, а во-вторых — связаны с расовой подоплекой.
В-шестых, все существующие сегодня и существовавшие ранее этносы представляют собой продукт многократного и многостороннего смешения, в том числе и расового. Выделить из него «чистую» составляющую невозможно ни теоретически, ни практически. Любопытно, что в наше время максимальное количество белокурых и голубоглазых людей встречается среди финно-угорского населения, которого ни одна из расовых теорий не относит к «арийцам».
В-седьмых, нет ни одного критерия (фенотип, кренеометрия, остеометрия, структура волосяного покрова и т. д.), который мог бы служить надежным маркером при исследовании генетической преемственности расы.
В-восьмых, биологическая составляющая и гипотеза о «животном» начале в человеке, которые лежат в основе биосоциального и расового подхода, не могут служить объяснением социальных феноменов, т. к. собственно человеческим в человеке является как раз не животное, а иное начало, отличающее человека от зверей и иных существ и вещей внешнего мира. Это фундаментальный факт, что человек не существует без общества.
Все это распространяется не только на собственно расовые и расистские теории, но и на социал-дарвинизм и теорию эволюции, которые также несут в себе завуалированный расистский заряд. Более развитое и сложное общество считается лучшим по сравнению с менее развитым и простым, более технически оснащенное и материально благополучное — высшим по сравнению с менее оснащенным и благополучным. Такая модель рассуждений и система привлекаемых аргументов полностью воспроизводит логику расизма: белая раса сильнее и оснащеннее (благополучнее), следовательно, она выше «цветных» рас. У эволюционистов и сторонников теории прогресса нет апелляции к белым и небелым расам, но иерархизации подвергаются общества: развитые общества сильнее и оснащеннее (благополучнее), следовательно, они выше неразвитых. В обоих случаях высшей является та позиции, которую занимает сам исследователь. А это и есть расизм.
Этносоциология как дисциплина не принимает ни биосоциальный, ни тем более расовый подход. Она основана на изучении общества, этноса и его производных как человеческого феномена, «человеческого общества» (Р. Турнвальд), в котором ни животный, ни материальный компоненты не являются доминирующими и определяющими.
Этносоциология отвергает социальный анализ, в котором присутствуют такие термины, как «низшие» и «высшие общества», «более развитые» и «менее развитые», «более совершенные» и «менее совершенные». Мы знаем разные типы обществ и разные формы общественных процессов. Мы можем сравнивать между собой первые и выяснять направления других, но все это без вынесения моральной оценки или без заведомой уверенности, что нам известна цель, к которой направлена социальная история. Социальная история реверсивна.
Тот примордиализм, который может быть принят в качестве базовой парадигмы этносоциологического анализа, является исключительно культурным.
Культурный примордиализм
Культурный примордиализм является базовым для этносоциологии. Культурный примордиализм означает, что мы рассматриваем этнос как базовую фундаментальную категорию и изначальную (примордиальную) основу общества. Но культурный примордиализм не включает в понятие этноса биологического компонента, а вопрос рода и родовой принадлежности рассматривает в общем контексте этнической структуры.
Культурный примордиализм рассматривает этнос как минимальную форму эндогамной социальной группы, и соответственно, как койнему.
Много споров при определении термина «этнос» ведется вокруг того, является ли этнос постоянной или переменной величиной, имеет ли он историческое измерение и сохраняется ли этничность в более сложных обществах. Мы рассмотрим эти вопросы подробно в соответствующих разделах книги; здесь же выскажем несколько основных тезисов.
Культурный примордиализм считает, что этнос принципиально статичен, хотя внутри этой статики постоянно протекают динамические и подчас весьма интенсивные процессы, направленные на то, чтобы эту статику сохранить. Можно определить это как «активный консерватизм»: чтобы оставаться неизменным, этнос вынужден постоянно предпринимать множество усилий, которые складываются в широкое поле внутриэтнической динамики.
Там, где структура этноса начинает по-настоящему меняться и появляется исторический фактор, там мы имеем дело уже не с этносом, а с его производными. Этнос как таковой неизменен, а изменение в структуре этноса, если они приобретают необратимый (т. е. исторический) характер, переводят чисто этническое общество в иное, более сложное и дифференцированное. Этнос как таковой не историчен, но когда он оказывается включенным в историю, он трансформируется в более сложную социальную структуру.
И наконец, вопрос о сохранении этнического фактора в более дифференцированных обществах. На это культурный примордиализм дает ответ в духе «перпетуального перенниализма» (по классификации Э. Смита). Этническое измерение, по факту, присутствует во всех типах обществ, которые доступны наблюдению. Это измерение есть даже там, где его номинально и нормативно нет, т. е. не должно быть. Однако это не значит, что этнос в сложных обществах полностью тождественен этносу в простых обществах, т. е. там, где есть только он сам. Он выступает в иной роли и в ином качестве, представляя собой своего рода «подвал» или «социальное бессознательное»66.
Понимание культурного примордиализма как базового этносоциологического метода снимает критику примордиализма в целом, которая совершенно справедливо указывает на то, что древние этносы, исторические народы и современные нации, а также этнические феномены современного мира представляют собой совершенно различные явления, отождествлять которые между собой (как это делают представители наивного примордиализма, социобиологического подхода, эволюционисты и сторонники расовых теорий) категорически нельзя. С этим культурный примордиализм согласен полностью. С этносом в чистом виде мы имеем дело только в «примордиальных» обществах. Когда мы фиксируем их усложнение, мы говорим о производных этноса. И соответственно, критерии, принципы, структуры, закономерности, функциональные наборы и т. д. этих производных обществ также должны рассматриваться как производные. Между ними можно и полезно прослеживать аналогии, подчеркивая при этом качественное различие рассматриваемых процессов.
Можно проиллюстрировать это следующим образом. В определении этноса Широкогоровым мы видим три основных критерия: 1) язык, 2) вера в происхождение и 3) общие обряды. Это свойства только этноса.
В случае «первой производной» от этноса — народа-лаоса — мы будем иметь производную от языка (общее койне67 и полиглоссы68), «производную» от веры в общее происхождение (к которой добавится вера в общую цель, что создаст историческую стрелу времени) и «производную» от общих обрядов (которые будут дифференцированы по кастово-сословному принципу).
В нации те же три критерия будут представлять собой три других «производных» свойства: 1) вместо языка, койне и полиглоссы появляется идиома (Э. Геллнер), 2) вместо веры в общее происхождение — рациональное обоснование административно-территориального устройства, 3) вместо общих обрядов — секулярный календарь и организация труда и досуга (например, пятидневная рабочая неделя).
Еще более сложными будут эти критерии на уровне «четвертой производной» в контексте гражданского и глобального общества: 1) искусственный мировой язык, 2) концепт аутогенеза индивидуума, 3) персональная сакральность.
Если заглянуть в футурологию, то постобщество принесет с собой: 1) машинный (компьютерный) язык, 2) системно-сетевую креативность, 3) культ эффективности и оптимизации.
§ 2. Конструктивизм
Классический конструктивизм: Э. Геллнер, Б. Андерсон, Э. Хобсбаум
Сплошь и рядом в научной литературе примордиалистскому подходу противопоставляют конструктивистский. В самых общих чертах конструктивизм настаивает на том, что этнос не является органической общностью, а представляет собой искусственную социальную конструкцию, создаваемую наряду с другими для решения определенных проблем при организации властных отношений и отношений собственности.
Конструктивисты утверждают: этнос есть абстракция и продукт специфической осознанной деятельности политических элит.
Иногда конструктивистский подход в этносоциологии отождествляется с «модернизмом», что указывает на общую для большинства конструктивистов идею сугубо современного происхождения «наций» как политических стратегий Нового времени.
Наиболее выразительными представителями конструктивистского подхода считаются философ и социолог Эрнест Геллнер (1925–1995), социолог Бенедикт Андерсон и историк-марксист Эрик Хобсбаум.
Эрнест Геллнер является одним из самых авторитетных исследователей вопроса о происхождении современных наций. Он полагает, что нации возникли практически на «пустом месте» как следствие рациональной потребности современных государств организовать, упорядочить, мобилизовать и объединить свое население с целью эффективного управления им в процессе достижения конкретных материальных целей69. Геллнер показывает, что нации возникают одновременно с буржуазным государством, где доминирует «третье сословие», которое оказывается перед исторической проблемой новой политической организации капиталистического общества. Концепт «нации» решает эту проблему оптимальным образом и становится приоритетной формой политической организации общества в Новое время.
Геллнер показывает, что в основе феномена нации лежит не миф, но сознательная мистификация. В социологических терминах Фердинанда Тенниса (1855–1936), различавшего искусственно создаваемое «общество» (Gesellschaft) и естественно возникающую «общину» (Gemeinschaft), Геллнер интерпретирует концепт «нации» как заведомо ложное наделение «общества» (Gesellschaft) свойствами «общины» (Gemeinschaft) для реализации конкретных управленческих задач. Все «рассказы» (нарративы), встречающиеся на первом этапе формирования наций в Европе, есть грубые идеологические подделки — и, в первую очередь, идея непрерывности этнической и расовой принадлежности современных людей и этносов и народов древности.
Другой известный социолог Бенедикт Андерсон, развивая такой подход, называет «нацию» «воображаемой общиной» («imagined community»)70, под «воображением» имея в виду «иллюзию», «обман» и грубый и сознательный подлог.
Эрик Хобсбаум (марксист по убеждениям) идет еще дальше и утверждает, что «древность» и «традиция» были придуманы буржуазией для обоснования своего господства и поэтому этносы, нации и религии представляют собой реконструкции Нового времени71, необходимые для решения конкретных задач капиталистическим классом.
Границы релевантности конструктивизма
Среди различных конструктивистских и близких к ним подходов следует различать две разновидности. Обе разновидности опровергают примордиалистский подход, но и в нем самом мы видели значительные различия и даже противоречия (например, между культурным и социобиологическим примордиализмом). Очень приблизительно различия между примордиализмом и конструктивизмом можно сформулировать так: если примордиализм утверждает, что этносы — органические и естественные явления, существовали всегда и остаются по сей день, то конструктивизм возражает: этносы и все, на них похожее (народы, нации и т. д.), являются продуктами политической манипуляции со стороны властных элит, существуют только в определенных исторических обстоятельствах и представляют собой идеологическую фикцию. При таких определениях, действительно, мы имеем дело с двумя взаимоисключающими подходами, между которыми надо выбирать по принципу или/или.
Но все изменится, как только мы поместим оба этих общих подхода в построенную нами этносоциологическую модель «этнос — народ (лаос) — нация» и отбросим биологические формы примордиализма как научно иррелевантные. Тогда мы получаем следующую картину.
Этнос в чистом виде, т. е. самая простая форма общества, койнема, архаическая община, представляет собой органическое и изначальное явление, в котором отсутствует социальная стратификация, политические и экономические элиты и разделение труда. Поэтому заведомо нет той инстанции, которая могла бы конструировать этнос для реализации своих целей. Для изучения этноса подходит только и исключительно примордиалистский подход.
Но если мы возьмем нацию, как «вторую производную» от этноса, то к ней, напротив, примордиализм в чистом виде неприменим, и наиболее эффективным средством ее изучения будет конструктивизм или модернизм. То, что имеют в виду конструктивисты под «воображаемым», «придуманным» и «манипуляционным» качеством нации, в этносоциологии называется производной. Нация есть искусственный конструкт, возникший в Новое время в буржуазных государствах Европы. Нация никак не может быть отождествлена с этносом напрямую, т. к. это две совершенно разные социальные формы: этнос есть «община» (Gemeinschaft), а нация — «общество» в смысле Gesellschaft. В отношении нации конструктивисты совершенно правы. А те примордиалисты, которые не делают различия между этносом и нацией, напротив, глубоко заблуждаются. Но в том случае, когда конструктивисты переносят свое отношение к нации как «воображаемой общине» на органическую общность этноса и утверждают, что эта общность является искусственной, они оказываются также неправыми, осуществляя неправомочный перенос современной парадигмы на архаическое общество.
Народ (лаос) находится между двумя полюсами — этносом и нацией, и поэтому в нем можно найти как органические (этнические), так и искусственные (конструктивистские) элементы. В народе уже есть социальная стратификация, политические и экономические элиты и проблемы проективной организации общества. Но конструкция народа качественно отличается от конструкции нации, что тоже следует учитывать. Поэтому для этносоциологического анализа народа необходимо использовать сочетание примордиалистского и конструктивистского подходов.
При таком уточнении видимые противоречия между (культурным) примордиализмом и корректным конструктивизмом (Э. Геллнер) снимаются, и вместо строгой альтернативности этих подходов мы можем использовать их одновременно или поочередно — в зависимости от точно определенной стадии рассматриваемого общества.
Этносимволизм Э. Смита
Сходной позиции придерживается современный английский социолог Энтони Смит, который для преодоления методологических противоречий предложил ввести еще один подход, который он назвал «этносимволизмом»72.
Э. Смит полемизирует с крайними конструктивистами, которые утверждают, что между нацией и этносом нет никаких общих черт, и что они представляют собой радикально различные реальности. В целом, соглашаясь, что нация есть искусственная конструкция, Э. Смит тем не менее утверждает, что она не полностью оторвана от этноса и что этнос присутствует в нации в символической форме. В этом Э. Смит следует в русле символической антропологии Гиртца. В нации мы имеем дело с символическим присутствием этноса, с «рассказом» об этносе, и, значит, этнический фактор и этническая идентичность определенным образом соучаствуют в феномене нации, который, таким образом, не может быть полностью сведен к манипуляциям правящего класса.
Этносимволизм Э. Смита важен и оперативно полезен для этносоциологической дисциплины с двух точек зрения.
Во-первых, он устанавливает связь между этносом и нацией (как второй производной этноса), которая полностью отрицается в конструктивистском подходе. Понятие «символический» у Э. Смита в этом случае будет совпадать по смыслу с понятием «производная», которым пользуемся мы. Идея «символического присутствия этноса в нации» тождественно нашему тезису о «нации как второй производной этноса».
Во-вторых, этнос присутствует внутри национального общества еще и нелегально, ненормативно, на уровне социального бессознательного, и в этом случае «символизм» может быть понят психоаналитически — как напоминание о вытесненном и цензурированном элементе коллективного подсознания. Этнос в национальном государстве Нового времени номинально упразднен, но он остается в форме «коллективного бессознательного» и проявляет себя в «символической» форме — например, в национализме, ксенофобии и шовинизме (имеющих в себе ряд иррациональных черт).
Этносимволизм Э. Смита удачно дополняет собой культурный примордиализм и уместно применяемый конструктивизм, поэтому должен быть взят на вооружение этносоциологами.
§ 3. Инструментализм
Возникновение инструментализма
Нам осталось рассмотреть инструменталистский подход. Он довольно близок к конструктивизму и отличается лишь тем, что не привязан к Новому времени (как конструктивисты-модернисты типа Геллнера и Андерсона) и не рассматривают приоритетно феномен нации и национализма.
Инструментализм в исследовании этнических процессов сложился в 1960–70-е гг. в США в ходе социологического анализа интеграции цветного населения этой страны, межрасовых браков и позиции белого населения73. Исследования выявили решающую роль политических элит в этом процессе. Ранее эти элиты были заинтересованы в подержании сегрегационной модели управления обществом, но постепенно в силу необходимости расширения среднего класса и потребительного потенциала населения перешли к технике расовой интеграции.
К этому добавились исследования поведения этнических меньшинств в полиэтнических обществах (США, современная Европа и т. д.), которые использовали свою этническую принадлежность исключительно в целях получения с ее помощью дополнительных материальных и социальных благ74. Складывалась картина, что этнос является не более чем инструментом для достижения социальных целей75. Определяя инструменталистский подход, социологи Стивен Корнел и Дуглас Хартман пишут: «Этничность и раса здесь понимаются как инструментальные сущности, организованные как средства для достижения конкретной цели»76.
Эти ситуативно корректные выводы инструменталисты распространили на все этнические процессы в принципе, без учета исторического контекста и социальной специфики общества.
Инструменталисты сосредоточены на изучении именно этнических процессов, но организованных искусственно и имеющих своей целью укрепление или реорганизацию социальной стратификации в интересах конкретной политической группы.
Этничность как стратегия
Подробное описание инструменталистской школы в США дает социолог Филипп Янг в своей работе «Этнические исследования: результаты и подходы»77, сам склоняющийся к умеренной форме инструментализма.
Первыми социологами, выдвинувшими концепцию инструменталистского подхода, были американцы Натан Глейзер и Даниэл Монихэн. В своей книге «Этничность: теория и опыт»78 они сформулировали основы этого подхода. Согласно Глейзеру и Монихану, этничность является не просто набором сентиментов и аффективных чувств, но формой реализации социальных стратегий — наряду с нациями и классами. С их точки зрения этнос есть группа общих интересов, т. е. искусственная организация. Глейзер позднее развил эту тему в книге «Этническая дилемма»79, где еще более радикализировал свой подход.
Другой социолог уроженец Ямайки Орландо Пэттерсон, разбирая структуру империалистического господства «белых» наций над «цветными», утверждает, что «сила, структура, эффективность и основания этнического фактора целиком зависят от индивидуальных и групповых интересов, которые его используют и которым он служит». 80
К исследованию этнической идентичности инструменталисты применяют «теорию рационального выбора»81 (например, американский социолог Майкл Хетчер82), согласно которой, поведение индивидуума диктуется стремлением достичь поставленных целей максимально кратким и простым путем, что предопределяет и структуру его идентификаций: он отождествляется с теми коллективными формами, с которыми это делать выгодно. Этничность, таким образом, становится не более чем средством для достижения конкретной цели: если этничность помогает ее достичь, она акцентируется, если мешает — игнорируется.
Инструментальный перенниализм
Э. Смит выделяет в отдельную категорию «инструментальных перенниалистов», чтобы подчеркнуть их убежденность в перманентности этнических феноменов.
Представитель инструменталистского подхода социолог Дональд Ноэл сводит фактор этнической идентичности к тем случаям, когда одна группа людей стремится навязать другой группе людей свою власть и для этого прибегает к инструментальному конституированию особой общности (этнической или религиозной)83. Этнос и этническая идентичность изобретается элитой для закрепления социальной стратификации. Ноэл называет такую стратификацию «этнической» и считает ее частным случаем социальной стратификации. Этническая стратификация чаще всего используется тогда, когда сталкиваются и перемешиваются друг с другом два этноса с довольно выраженной этнической идентичностью.
Английский социолог, сторонник инструментализма Дэвид Мэйсон утверждает, что «этничность является ситуационной. Разные люди в разных ситуациях декларируют разную этническую принадлежность»84.
Ситуационный перенниализм
Еще одной версией инструментализма является «ситуационный перенниализм», который утверждает, что этносы и этнические общества как нечто целое возникают в определенных исторических ситуациях и служат реализации конкретных политических или групповых интересов. При этом сторонники такого подхода не делают различия между этносом, народом и нацией.
К ситуационным перенниалистам Смит причисляет известных этносоциологов Ф. Барта и С. Сейднера85.
Основная идея норвежского этносоциолога Фредерика Барта состоит в отказе рассматривать этносы и нации как фиксированные общества и предложении понимать этническую идентичность как постоянно меняющуюся «границу» между разными социальными сегментами86. В разных контекстах, по Ф. Барту, один и тот же индивидуум вполне может выступать как носитель разной этнической идентичности, что определяется не раз и навсегда заданной структурой, но гибко меняющимися ситуациями.
Отличие конструктивистов от «ситуационных перенниалистов» состоит лишь в том, что конструктивисты считают, что стратегия политических и экономических элит по «искусственному созданию этносов» характерна для определенных стадий развития общества, а на других этапах потребность в ней отпадает, тогда как «ситуационные перенниалисты» убеждены, что этнос как «постоянная («перенниальная») форма перегруппировки властных и экономических сил в обществе будет существовать всегда.
Исторический контекст появления инструменталистского подхода
Инструментализм в понимании этноса, на первый взгляд, настолько противоречит примордиалистскому подходу, что представляется совершенно нерелевантным для постижения сути этнических феноменов. Очевидно, что этносы как простые общества находятся вне таких категорий, как «рационный выбор», «использование идентичности для реализации индивидуальных интересов или повышения социального статуса», т. к. в койнеме просто нет для этого ни предпосылок, ни пространства. Социальная стратификация, а тем более индивидуальное начало впервые возникают на иных стадиях и в иных типах общества. Складывается впечатление, что инструменталисты говорят о каком-то совершенно другом явлении, нежели этнос. А когда они не делают различия (как подчас и конструктивисты) между этносом и нацией (не говоря уже о редкой, но столь важной для этносоциологии категории народа), то их концепции становятся совершенно запутанными и неадекватными.
Однако стоит внимательнее присмотреться к этому подходу и постараться понять, что инструменталисты имеют в виду.
Многое станет понятным, если мы обратим внимание на время и место появление этого направления — США, 1860–70-е гг. В этот период в американском обществе проходили бурные процессы по ликвидации последних остатков расовой и этнической сегрегации, которая была привычной чертой американской политики вплоть до ХХ в. Если вспомнить инициативы Мэдисона Гранта по законодательному запрету на межрасовые браки в 20-е гг. ХХ в., становится понятным, насколько свежи и актуальны были вопросы этноса в тот период. Тогда же закладывались основы «политкорректности», нормативов официальных публичных высказываний, которые должны были обязательно учитывать некоторые этические нормы — равенство, толерантность, уважение к правам человека, отсутствие дискриминации по расовому, гендерному или социальному признакам.
Инструменталисты полемизировали с теми кругами в США, которые по инерции придерживались расистских воззрений и которых надо было убедить, что этническая идентичность есть не что иное, как социальная конвенция. Отсюда полемический запал инструменталистов и явные признаки их идеологизированности. Эту позицию вполне можно понять и поддержать, однако в общем массиве инструменталистских исследований стоит выделить то, что представляет действительную научную ценность для этносоциологии, а что следует отбросить как эксцессы идеологической полемики.
Релевантность инструментализма и ее границы
Определим место американского общества от 50–70-х гг. ХХ в. вплоть до настоящего времени на этносоциологической шкале обществ. Мы получаем США как современное национальное государство с высоким уровнем развития институтов гражданского общества, которые находятся в активной стадии и атакуют сложившееся национальное самосознание в сторону большей открытости, толерантности, глобальности и внимательности к правам человека. Инструментализм является таким теоретическим концептуальным оружием наступления гражданского общества на все предшествующие ему формы коллективной идентичности (отсюда смешение между этносом, расой и нацией). Для гражданского общества все формы коллективной идентичности представляются «враждебными» и требуют демонтажа. Эта установка лежит в основе инструменталистского подхода, задача которого — свести анализ общества к индивидууму и объяснить социальные структуры на основании взаимодействия индивидуумов. Это многое объясняет в инструментализме и позволяет найти ему соответствующее место.
В то же время инструменталисты, несмотря на постоянную и сбивающую с толку путаницу в понятиях (этноса, нации, расы), подчас в своих исследованиях наталкиваются на этнос и этничность в их собственном смысле. И эти моменты могут быть ценны для этносоциологии в целом.
С точки зрения социального фасада этнос уходит на задний план при переходе к народу, а при построении нации вообще скрывается из виду (нация — это симулякр этноса). При переходе к гражданскому обществу, казалось, этноса просто не должно было бы быть. Но он феноменологически есть, и разрешить это несоответствие призваны социологические методики типа инструментализма. Инструменталисты «натыкаются» на этнос в процессе перехода к гражданском обществу и пытаются осмыслить его с позиции новых критериев. Многие выводы, которые инструменталисты делают в ходе своих работ, имеют ценность как описание и анализ статуса этноса в обществе, переходном от национального государства к гражданскому обществу. И здесь инструментализм вполне уместен и адекватен.
Если отбросить несостоятельные претензии инструменталистов на то, что они описывают этнос как таковой и феномен этничности как нечто, что универсально приложимо ко всем типам обществ во все эпохи, то у нас останется вполне здравый набор социологического анализа этноса и этничности в высоко дифференцированном западном капиталистическом обществе. И в этом случае инструментализм будет вполне адекватным подходом для того, чтобы применять его в аналогичных ситуациях. Например, в случае Западной Европы, где мы также имеем дело с обществом в переходном состоянии от нации к гражданскому обществу и где также этнический фактор становится все более и более актуальным.
Итак, инструментализм эффективен и адекватен для изучения этнических явлений в высокодифференцированных обществах, где он действительно сплошь и рядом служит реализации конкретных социальных задач вполне рационального свойства. Этнос в таких сложных обществах существует в особых условиях — он оторван от своей естественной среды, помещен в окружение более сложной социальной структуры, и в этих условиях начинает проявлять себя по совершенно новому сценарию. В таком новом этническом сценарии вполне допустима инструментальная эксплуатация этнического фактора как политическими и экономическими элитами, так и представителями средних и нижних социальных страт.
Этнос в сложном обществе может проявлять себя в форме этнического лоббизма, этнической преступности, создания этнических сетей, помогающих своим членам продвинуться по социальной лестнице преимущественно на основании их этнической принадлежности и даже использования этнических мотивов в политических кампаниях. В сложном обществе этнос становится объектом разносторонних манипуляций. Этот момент фиксируют инструменталисты и вполне корректно его описывают.
Инструментализм есть способ исследования этнических феноменов в сложных обществах, переходящих от «государства-нации» к модели «гражданского общества».
С таким уточнением теряется сама причина спора между примордиалистами и инструменталистами, а также между конструктивистами и инструменталистами: каждый подход имеет свои границы, за пределами которых он утрачивает значение и применимость.
Инструментализм и социология народа
Инструменталистский метод может быть применен и в еще одной ситуации — при изучении народа. Народ представляет собой общество, которое в отличие от этноса социально дифференцировано, включает в себя элиты и массы и состоит из нескольких этнических групп. Здесь нет еще четко выделенных индивидуумов как социальных акторов и строго рациональных сценариев поведения. Но определенная дистанция по отношению к этносу и его Примордиалу (Э. Шилз) позволяет отнестись к этническому фактору прагматически, на чем и настаивают инструменталисты.
Одной из форм такого инструментального использования является приписывание элитам особого этнического происхождения, что закрепило бы их отличие от масс и легитимизировало их власть. Другое дело, какова в таком приписывании мера сознательной манипуляции, этнической истины (часто, если не всегда, в древних государствах элиты действительно имели иное этническое происхождение, нежели массы) и символически-религиозного, магического фактора. В определенных народах и в определенных ситуациях вполне можно столкнуться с инструментализацией этноса и его «политизацией», несмотря на то, что сам этнос не имеет в себе ни политического, ни прагматического измерений.
Резюме
Завершая обзор основных методов этносоциологии, можно выделить следующие моменты.
1. Наиболее продуктивным является метод «культурного примордиализма», утверждающий, что этнос есть органическое, изначальное, фундаментальное понятие (Примордиал, койнема). Но при этом следует обязательно учитывать два момента:
– биологическая, зоологическая и расовая составляющие, а также фактор рода не входят в базовое определение этноса, т. к. этнос есть прежде всего социальное и культурное явление;
– этнос является самим собой только в простых обществах, а начиная с «народа» и вплоть до «нации» и «гражданского общества», мы встречаемся с его производными — т. е. не с этносом как таковым, но с его трансформациями, хотя и в этих более сложных обществах этнос можно при определенных усилиях отыскать в сфере «социального бессознательного».
2. Метод конструктивизма полностью адекватен при рассмотрении феномена «нации» (как «второй производной» этноса), т. к. в «нации» мы имеем дело с искусственным и сконструированным для прагматических целей явлением. При этом следует учитывать поправки «этносимволистов» (Э. Смит, Брейи87) и обратить внимание на то, что этнос присутствует в национальных обществах «символически». Применять конструктивистскую парадигму собственно к этносу как таковому и утверждать, что и он был создан некогда в политических целях группой элит, — абсурдно.
3. Инструментализм применим для исследования этнического фактора и этнических процессов в сложных обществах, особенно в переходный период от национального государства к гражданскому обществу. Кроме того, его можно применять в определенных случаях для анализа социальной стратификации в традиционных обществах с преобладанием «народа», когда речь идет о сопряжении этнических индексов с социальными статусами (чаще всего в политических властных и религиозных элитах). Но подход с инструменталистскими установками к анализу этноса как такового совершенно бесплоден и ведет к неразрешимым противоречиям.
Глава 4
ЗАРУБЕЖНАЯ ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ
§ 1. Германская школа этносоциологии. Культурные круги. Этнопсихология
Термин «этносоциология»
Термин «этносоциология» был введен на самом раннем этапе становления социологии как науки одним из социологов первого поколения Людвигом Гумпловичем (1838–1909)88.
Гумплович, родившийся в Польше, позже эмигрировал в Австро-Венгрию, и большинство его текстов вышло на немецком языке. Он является также автором термина «этноцентризм», который позже сделал популярным американский антрополог Уильям Самнер.
Термин «этносоциология» наиболее устоялся именно в германоязычной среде, поэтому мы начнем рассмотрение этносоциологических школ с Германии, включая сюда германоязычных авторов из Австрии и Швейцарии, а затем перейдем к тем странам, где эта дисциплина известна под другими названиями: «культурная антропология» в США, «социальная антропология» в Англии, «структурная антропология» и этнология во Франции.
Иоганн Готтфрид Гердер: народы как мысли Бога
Немецкий философ, предшественник романтизма, видный деятель немецкого Просвещения Иохан Готтфрид Гердер (1744–1803) одним из первых мыслителей Нового времени попытался описать историю человечества как осмысленный и целенаправленный процесс, основными движущими силами которого являются народы. Понятие «народа» («das Volk») является центральным в философии Гердера. По Гердеру, различие народов происходит из различия природных, исторических, социальных и психологических условий. Все народы различны, что выражается в различии их языков. А в языках проявляет себя изначальное сознание и свобода. Высшим же проявлением человечества является религия.
Гердер утверждал, что структура языка предопределяет структуру мышления89 (за двести лет предвосхитив знаменитую гипотезу Сэйпира-Уорфа90).
Гердер считал, что каждый народ совершенно уникален и что различие является не ограничением, но богатством:
«Провидение чудесным образом разделило народы не только лесами и горами, морями и пустынями, реками и климатическими условиями, но и языками, наклонностями и характерами»91.
Различие между обществами показывает, насколько каждое из них уникально и самобытно, а не насколько оно «отстало» или, напротив, «соответствует времени». В этом отношении Гердер выражался вполне определенно: «Дикарь, который любит себя, свою жену и ребенка с тихой радостью и предан жизни своего племени как своей собственной, в моих глазах более реальное существо, чем образованная тень, вовлеченная в старания таких же теней всего человеческого вида»92.
Нельзя мерить один народ по меркам другого, настаивает Гердер, поскольку каждый народ несет в самом себе стандарт своего совершенства, полностью независимый от стандарта другого народа. Гердер утверждает, что «каждый народ несет в самом себе центр своего счастья, как пуля свой центр тяжести»93. Для него народы — это «мысли Бога», его проявления. Немецкий поэт Гейне говорил о Гердере: «По его мысли, народы — это струны арфы, на которой играет Бог»94. В таком понимании концепт «народа» может быть уподоблен монаде Лейбница, которая синтетически вбирает в себя все противоположности.
Хотя Гердер не придерживается строго какой-то одной терминологии, из содержательного анализа его работ явствует, что он понимал под концептом «das Volk» одновременно «этнос» и «народ» (как их понимает этносоциология), но не «нацию». «Нация» как явление эпохи Модерна и конструкт третьего сословия является классовым образованием и неразрывно связана с государством. Гердер, особенно в ранних работах, резко критикует инструментальное использование понятия «народа» в политических целях, любые формы национализма (наступление одного народа на другой есть, согласно Гердеру, покушение на «мысль Бога» и «замысел Провидения») и попытки иерархизировать «народы» по любой шкале — расовой или эволюционной. Идея иерархизации этносов представляется ему абсурдной как попытка выяснить, что лучше: нота «до» или нота «ре». Более того, Гердер жестко выступает против классовой стратификации народа. «В государстве должен быть только один класс, — пишет он, — это народ («dasVolk»), но не толпа, и к этому классу должен принадлежать как король, так и простой крестьянин»95. Гердер признает иерархизацию внутри народа (наличие стратификации есть признак народа как «лаоса»), но отрицает «классовое расслоение», отбрасывая тем самым нацию как искусственный конструкт. Его понимание «народа» является холистским, целостным и тяготеет к «этническому». Симпатии к этничности (хотя и без использования самого этого термина) проявляется у Гердера еще и в том, что он подчеркивает достаточность самых простых обществ («дикарей») и призывает «вживаться» («einfuhlen» по-немецки) в них, чтобы их понять и восстановить себе картину того, как они понимают мир со своей позиции. Это предвосхищает методы «психологической эмпатии» и «социологии участия», вплоть до «социометрии» (Дж. Морено), а также техник современных этносоциологов и антропологов.
Гердер утверждает, что в основе народа лежит его дух, который он называет «народный дух» («Volksgeist») и отождествляет с «культурой». Гердер одним из первых в Европе использует термин «культура» в его современном понимании — как совокупность обычаев, обрядов, верований, установок и ценностных систем, определяющих образ и идентичность общества.
Гердер известен своей полемикой с Эммануилом Кантом, который в те же годы выдвигал концепцию «гражданского общества», основанного на универсальных ценностях и доминации рассудка, что полностью противоречило плюральному представлению Гердера о множественности культур и их самоценности.
Иоганн Готтлиб Фихте
Крупнейший немецкий философ Иоганн Готтлиб Фихте (1762–1814) наряду с Гердером считается провозвестником теории этноса. Представления Фихте о «народе» (он, как и Гердер, не делал различий между народом и этносом) были выстроены в духе его философской теории об «абсолютном субъекте». Он считал «народ» выражением такого субъекта и историко-культурным единством, предшествующим разделению на «индивидуумы».
В своих политических текстах96 Фихте формулирует принцип главенства народа над государством и призывает немцев к народному возрождению на основе культурного и этнического единства.
Фихте полагал, что между современными ему немцами и древними германцами существует прямая и непосредственная этническая связь, выражающаяся в непрерывности языка. На этом основании он анализировал немецкий характер как прямую кальку с поведения древних германцев, описанных Тацитом.
В отличие от Гердера, Фихте был последователем Канта и основное внимание уделял рациональной стороне культуры.
Можно определить взгляды Фихте в сфере этносоциологии как «наивный примордиализм», а его функцию в самоосмыслении немецким обществом своего исторического положения соотнести с переходом от состояния народа (лаос) к состоянию нации.
Иоганн Якоб Бахофен: материнское право
Чрезвычайно важные антропологические теории относительно структуры простых обществ и этапов их развития сформулировал швейцарский (германоговорящий) автор, историк и юрист Иоганн Якоб Бахофен (1815–1877). Согласно Бахофену, простые (этнические) общества были организованы по принципу «материнского права» и представляли собой эгалитарные общины, где доминировал матриархат. Эти идеи он обобщил в своем главном труде «Материнское право. Исследования гинекократии в древнем мире в ее религиозной и правовой природе»97.
С точки зрения Бахофена, историческая стратификация обществ напрямую связана с установлением патриархального порядка. Но этот порядок устанавливался не на пустом месте, а на основании более архаических институтов, которые были организованы по принципу доминации матери. Бахофен исследует широкие пласты археологических, исторических и лингвистических данных, касающихся Средиземноморского ареала, и повсюду находит следы древней «гинекократической» (от греческого «γυνή» — «женщина» и «κράτος» — «власть») культуры, сохранившейся в обрядах, мифах, преданиях и серии правовых установок.
Несмотря на разностороннюю критику теории Бахофена, она дала важный импульс антропологическим исследованиям и привлекала внимание к социальной роли гендера, которая стала впоследствии одной из важнейших тем социологии в целом и этносоциологии в частности.
Адольф Бастиан: элементарное мышление и народное мышление
Крупнейшей фигурой в немецкой этнологии и антропологии был Адольф Бастиан (1826–1905), основатель Берлинского этнографического музея (Berliner Museum für Völkerkunde). Бастиан придерживался теории эволюции и единого происхождения человечества (он называл это «психическим единством человечества»). Но в отличие от многих других сторонников эволюции, он рассматривал ее не как линейный, а как спиралевидный процесс, развертывающийся в истории восходящими циклами. Бастиан разделял позитивистский подход французского философа Огюста Конта (1798–1857) и стремился выстроить непротиворечивое учение об обществе (являясь, таким образом, провозвестником социологии). При этом Бастиан делал акцент на психологической стороне культуры и изучал различные социальные явления — мифы, танцы, мистические состояния и другие формы — с точки зрения их психического содержания.
Основные теоретические выводы Бастиан изложил в книге «Человек в истории. К обоснованию психологического мировоззрения»98.
Согласно Бастиану, на территории Земли можно выделить несколько «географических провинций», где происходило параллельное развитие различных типов человеческих обществ. Все эти общества следовали по одной и той же траектории и одной и той же логике, не пересекаясь и не взаимодействуя друг с другом. Единство основывалось на том, что сознание всех людей представляет собой качественно однородное явление, которое он называл «элементарным мышлением» (Elementärgedanken — на немецком). Различия же в культурах обязаны своим существованием влиянию географической среды, которая аффектировала процесс эволюции обществ, задерживала или, наоборот, подталкивала его или приоритетно развивала те или иные психологические качества и социальные практики. Так, согласно Бастиану, из общего для всего человечества «элементарного мышления» у разных народов сложились различные социальные и культурные формы. Эти вторичные формы Бастиан называл «народным мышлением» («Völkergedanken» на немецком). Бастиан также использовал термин «социальное мышление» («Gesellschaftgedanken» на немецком), предвосхищая «коллективное сознание» Дюркгейма. «Социальное мышление» складывается не из математического сложения мыслей отдельных личностей, но чаще всего представляет собой уникальные интеллектуальные прорывы духовной и политической элиты, отпечатывающиеся в форме общей культуры и становящиеся постепенно социальным наследием в виде «народного мышления».
На этой теоретической основе Бастиан основал свой метод изучения этнических культур. В основе его лежит «кросс-культурный» компаративный анализ, т. е. сопоставление между собой отдельных культурных форм разных этносов и народов в целях выделения структур «элементарного мышления» (как всеобщего) и эмпирического описания «народного мышления» как специфического.
Фридрих Ратцель: антропогеография и народоучение
Фридрих Ратцель (1844–1904), немецкий географ, предпринял одну из первых попыток дать обобщенную картину этносов в их географическом измерении99. С точки зрения Ратцеля, человек, будучи одним из самых подвижных живых организмов, все же привязан к земле и зависит от той природной среды, в которой он пребывает и формируется. Так происходит дифференциация обществ и народов.
В духе эволюционизма Ратцель делит этносы на «дикие» и «культурные», считая главным критерием степень и качество зависимости тех и других от природы. Над «дикими» народами природа довлеет. Культурные же народы от нее освобождаются и вступают с ней в более равноправный и взаимообогащающий диалог. На основании такого подхода Ратцель выстраивает системы «антропогеографии», т. е. карты исторической динамики взаимодействия народов между собой в конкретных географических условиях.
Ратцель заложил основы сразу нескольким направлениям, получившим в ХХ в. дальнейшее развитие. Так, в частности, он:
– разработал предпосылки для геополитики100 (этот термин впервые ввел в научный оборот его ученик — швед Рудольф Челлен) и сформулировал ее главные постулаты («закон пространственного роста государств», идею «жизненного пространства» и т. д.101);
– привлек внимание социологов к значению фактора пространства102, с помощью которого он объяснял различия в культурах разных этносов;
– ввел важнейшее понятие «пространственного смысла» («Raumsinn»), послужившее прототипом концепции «месторазвития» у философов-евразийцев (П. Савицкий103);
– заложил предпосылки теории «культурных кругов», утверждая, что все материальные, технические и культурные открытия в истории делались только в одном месте и одним народом, а далее распространялись среди других народов методом их передачи104;
– предложил для археологии модель критерия формы предмета, а не его функции, для выяснения ареала его первичного изобретения;
– выдвинул базовую для этносоциологии гипотезу о происхождении государства из подчинения одного этноса другому, более агрессивному, этносу завоевателей.
Роберт Гребнер: методы этнологии
Параллельно Ратцелю теорию культурных кругов развивал и систематизировал немецкий антрополог и этнолог Роберт Гребнер (1877–1934), ставший ключевой фигурой в «диффузионистской школе». Его главным трудом считается обобщающая работа «Методы этнологии»105.
Сторонники диффузионизма сделали интуицию Ратцеля о единственности всех исторических изобретений и открытий главным принципом своих исследований и строили на этом реконструкцию фаз исторического становления этносов и культур.
Основная идея диффузионистов заключалась в критике, доминировавшей в тот период в германоязычной среде эволюционистской теории «элементарного мышления» Адольфа Бастиана. Бастиан утверждал, что все представители человеческого вида психически одинаковы. Гребнер и сторонники теории «культурных кругов» отрицали такой подход.
Согласно Гребнеру, при слабой заселенности территории у общества нет стимула к техническим и культурным инновациям, т. к. взаимоотношения с окружающим природным миром достаточны для поддержания статус-кво. Поэтому все открытия — обработка металлов, приручение различных животных, изготовление орудий труда, средств передвижения, а также культурных обрядов и обычаев — делались либо случайно, либо в строго определенных географических точках, где были совершенно особые природные или этнические условия. Гребнер уподоблял открытие камню, брошенному в воду — точка падения камня строго одна, а круги расходятся во все стороны. Роберт Гребнер и ввел понятие «культурного круга» («Kulturkreis»).
Вслед за Гребнером это направление получило название «Венской историко-культурной школы».
Вильгельм Шмидт: примитивный монотеизм
Идеи Гребнера подхватил католический священник и этнолог Вильгельм Шмидт (1868–1954), который использовал метод «культурных кругов» для обоснования собственной гипотезы происхождения религии. Шмидт выдвинул идею «примитивного монотеизма», согласно которой наиболее древними верованиями в этнических обществах был не «анимизм», «тотемизм», «магия» и «политеизм», как считали классические эволюционисты, но изначальная форма «единобожия».
Вильгельм Шмидт обобщил свои этнологические и этносоциологические теории в монографии, написанной им совместно с другим католическим священником и миссионером Вильгельмом Копперсом (1886–1961), «Пособие по методам культурно-исторической этнологии»106.
Одна из задач Вильгельма Шмидта при использовании культурно-исторического метода состояла в критике теорий эволюции и марксизма как противостоящих христианскому взгляду на историю. Шмидт делит все общества на «примитивные», «первичные», «вторичные» и «третичные», полагая, что «примитивные» общества стоят ближе всего к моменту творения мира и несут на себе отпечаток древнейших форм «монотеизма».
В данном случае этнологи и социология пересекаются с религиоведческим подходом с ярко выраженной конфессиональной окраской.
Лео Фробениус: теллуризм, хтонизм и пайдеума
Одним из самых ярких и известных этнологов и представителей теории «культурных кругов» был немецкий этнолог Лео Фробениус (1873–1938). Он выдвинул целый ряд концепций, использующихся в современной этнологии и этносоциологии.
Так, ему принадлежит идея деления всех типов культур (прежде всего архаических) на два главных и основополагающих — теллурический и хтонический. Фробениус в своих работах тщательно прослеживает, как эти типы распространяются по различным географическим регионам (в первую очередь, по территории Африки, по которой Фробениус был специалистом мирового масштаба107), пересекаются, смешиваются и снова расходятся.
Теллурический тип (от латинского «tellus» — «земля», часто в значении «земляной холм», «насыпь») отличается устойчивым созданием выступающих выпуклых строений, столбов, обрядовых холмов, курганов, менгиров, камней для захоронения, жилья и проведения обрядов. Этот тип активен, наступателен, склонен к усложнению обществ и патриархальным установкам.
Хтонический (от греческого «χθονός» — «земля» в значении плоскости или углубления в ней) тип культуры, напротив, характеризуется конструкциями в форме ям, землянок, нор, пещер, углублений, что влияет на жилище, формы погребения и обрядовые комплексы.
Фробениус также вводит концепцию «пайдеумы»108 (от греческого «παίδευμα» — дословно «воспитание» или «самовоспитание»), которую он определяет как образ (немецкое «Gestalt»), манеру создания смыслов («Sinnstiftung»). «Пайдеума» есть то корневое начало культуры, которое остается неизменным в процессе социальных этнических трансформаций. Она обеспечивает связность и саму возможность общения для тех, кто принадлежит к одной и той же культуре, являясь своего рода этническим и культурным кодом общества. Именно «пайдеума» — как неразрывная целостность духовного и материального начал — составляет основу того содержания, которое передается в «культурных кругах». Развертывание пайдеумы дает смысл социальным явлениям. Различные этнические сообщества обладают своими пайдеумами, что обеспечивает из связность.
Лео Фробениус применял свои этносоциологические методы к современности и на основании защищаемого им плюрализма этносоциальных форм резко выступал против всех форм колониализма.
Людвиг Гумплович: борьба этносов
Польско-австрийский социолог Людвиг Гумплович (1838–1909) является ключевой фигурой для этносоциологии по целому ряду причин.
1. Во-первых, именно он ввел термин «этносоциология» и положил начало развитию этой дисциплины.
2. Во-вторых, он предложил рассматривать этносы в качестве главной движущей силы исторического процесса и основы социальности как таковой, совместив, таким образом, этнологический подход с социологическим. Гумплович предложил этническое толкование человеческой истории.
3. В-третьих, он развил и обосновал идею происхождения государства из факта завоевания одним этносом (преимущественно кочевым) другого (преимущественно оседлого или охотничьего), создав «теорию наложения» «Überlagerung» (по-немецки «суперпозиция», «наложение»). Гумплович исходит при этом из принципа изначальной множественности архаических этносов (примитивных орд), которые располагаются на определенном расстоянии друг от друга, и когда это расстояние сокращается, приходят в соприкосновение и кладут тем самым начало социальной дифференциации. Чаще всего это выражается в создании государства и иерархизированного общества, в котором выделяются элиты и массы.
Государство, согласно Гумпловичу, есть продукт этнических процессов и представляет собой изначально форму организации господства этнического меньшинства над этническим большинством. Здесь он видит истоки семьи, права, собственности и т. д.
Гумплович показывает, что частное право и государственное право имеют разную природу: частное право ограничивает массы, а государственное право представляет собой факт силового присутствия государства109. И даже в этих чисто политических и правовых моделях можно обнаружить корни их этнического происхождения.
5. В-пятых, Гумплович предвосхитил Э. Геллнера в том, что он рассматривает нацию (в политическом понимании) как искусственную конструкцию государства, не связанную ни с этническим происхождением, ни с языком.
Эти и иные аспекты теории Гумпловича делают его ключевой фигурой в этносоциологии.
Следует сделать одну важную поправку в отношении терминологии Гумпловича. В своих работах он устойчиво употребляет термин «раса» («die Rasse»), но имеет под ней не биологическое, а культурное и социальное понятие, т. е. собственно «этнос». «Расу» (в смысле этноса) он противопоставляет государству как форме политической организации, где борьба этносов переходит в противостояние элит и масс, т. е. становится внутренним противоречием, и нации как одному из искусственных созданий государства. Поэтому основной тезис Гумпловича о «расовой борьбе» («Rassenkampf»), как называется его наиболее известное произведение110, следует переводить и понимать как «борьба этносов». Он не имеет в виду «расу» ни в одном из значений, которые являются устойчивыми в «расовой теории». Под столкновениями «рас» Гумплович понимает не борьбу «белой расы» с «черной», «нордической» со «средиземноморской» и т. п., но столкновение различных этносов и ничего больше. С этой терминологической поправкой все становится на свои места.
Карл Маркс видел главную движущую силу общества в «классовой борьбе», и она служила ему ключом к объяснению всех социальных процессов. Людвиг Гумплович видит движущую силу общества в «борьбе этносов», которая на определенном этапе переходит из области внешней (столкновение двух племен как двух обществ) в область внутреннюю (противоречия между господствующим классом и основным населением).
Взгляды Гумпловича на происхождение государства и «теория наложения» (Überlagerung) близки к теориям «политической географии» и «народоведения» Ратцеля.
Идеи Гумпловича в отношении происхождения государства стала классической для немецкой этносоциологии (в частности, для Р. Турнвальда, хотя ученик Турнвальда В. Мюльман критиковал некоторые ее аспекты).
Франц Оппенгеймер: государство как результат этнического завоевания
Теорию «наложения» (Überlagerung) двух этнических групп друг на друга при образовании государства окончательно оформил социолог Франц Оппенгеймер (1864–1943) в своем классическом труде «Государство. Его история и развитие с социологической точки зрения»111. Оппенгеймер опирается в своих взглядах на Ф. Ратцеля112 и В. Шмидта113 и предлагает искать в истоках любых типов государственности — как архаических и эфемерных, так и высокоразвитых и устойчивых — первоначальный факт «этнического завоевания» (Eroberung). Оппенгеймер показывает, что «этническое завоевание» чаще всего (практически всегда) осуществляется через нашествие кочевых пастушеских этносов на этносы оседлые и аграрные. Он ссылается на широко документированное замечание Ф. Ратцеля: «Кочевники-пастухи не только прирожденные странники, но и прирожденные завоеватели. Так далеко, как в Старом Свете простираются степи, таково же расположение созданных пастухами государств114».
В тех исторических областях, где разведение крупного скота было неизвестно, функцию этноса-завоевателя, согласно Оппенгеймеру, могли выполнять некоторые типы воинственных охотничьих племен (Северная Америка). Викингов Оппенгеймер классифицирует как «кочевников моря», которые «оставили свои стада на берегу», но сохранили кочевую и воинственную структуру «завоевательного этноса».
Оппенгеймер приводит множество исторических примеров, подтверждающих «завоевательную» теорию государства — вавилоняне, аморийцы, ассирийцы, мидийцы, персы, македонцы, парфяне, монголы, турки-сельджуки, татары, тюрки, гиксы, греки, римляне, арабы и иные народы демонстрируют в своей истории многократные завоевательные сценарии, создающие прочную и развитую государственность115.
Оппенгеймер прослеживает эту линию вплоть до Нового времени, рассматривая капитализм как продолжение этносоциологического дуализма, когда агрессивные, активные и динамичные торговцы-горожане (буржуа), подвижные и склонные к перемещению, навязывают свое господство преимущественно сельским массам (миролюбивым и консервативным), приводя все общество в движение и создавая национальные государства.
Александр Рюстов: кочевники и крестьяне как фундаментальные типы
Развивает эти этносоциологические идеи Ф. Ратцеля, Л. Гумпловича, В. Шмидта, В. Копперса и Ф. Оппенгеймера известный теоретик неолиберализма Александр Рюстов (1885–1963)116.
Рюстов прослеживает историю завоевательных нашествий в Евразии и выделяет в ней несколько волн:
– в четвертом тысячелетии до нашей эры это были потоки племен, занимавшихся разведением крупного рогатого скота;
– начиная со второго тысячелетия до нашей эры социологический тип сменился на племена, разводящие лошадей и передвигающиеся на колесницах;
– около 1200 лет до нашей эры из Азии поднимается волна этносов-всадников, непрерывно атакующих Европу и переднюю Азию, последним отголоском которой является гуннское нашествие 375 г. н. э.
Все эти перемещения народов вели к «наложению» этнических культур и возникновению государств и сложных высокодифференцированных обществ.
Рюстов возводит две фигуры — пастуха-кочевника и оседлого земледельца — в корневые социологические и психологические типы, объясняя с их помощью структуру социальной стратификации. Воля к власти, доминации, подавлению других, и, в частности, к материальному накоплению, а также техническое развитие, направленное на увеличение скоростей передвижения (в том числе информации), психологический садизм и, в патологической стадии, формы параноидальных расстройств — признаки «пастуха-кочевника» (в том числе и в сознании современных людей). Созерцательность, консервативность, неспешность, адаптивность, миролюбие, сбалансированность, удовлетворенность существующим положением вещей, стремление к гармонии со средой, готовность подчиняться, вплоть до мазохизма и шизофрении в патологических случаях — это признаки «оседлого крестьянина» (в том числе и в структуре человеческой психики).
Концепция А. Рюстова показывает, как этносоциологическое наблюдение может быть развернуто до масштаба универсальной социологической теории, применимой даже там, где как такового этнического измерения уже не остается — в сложных политических системах и в человеческой психике.
Макс Вебер: определение этничности
Значительное влияние на этносоциологию оказали теории трех самых ярких немецких социологов, стоявших у истоков социологии как таковой — Макс Вебер, Фердинанд Теннис, Вернер Зомбарт.
Макс Вебер (1864–1920) считается отцом европейской социологии, наряду с Эмилем Дюркгеймом, т. к. эти два ученых сделали больше других для институционализации социологии как авторитетной академической науки. Наследие Вебера огромно и изучено в деталях. Выделим лишь те аспекты его теории, которые имеют отношение к этносоциологии.
Вебер, как мы знаем, дал определение этничности (Ethnizität), которое считается классическим.
«[Этничность] есть те человеческие группы, которые поддерживают субъективную веру в общее происхождение в силу сходства физического типа или обычаев, а иногда и того и другого, в силу памяти об общей колонизации или миграции; эта вера может быть чрезвычайно важна для формирования группы; при этом не имеет значения, имеется ли объективное родство по крови или нет»117.
В своей работе «Хозяйство и общество» он пишет:
«От родовой общины следует отличать этническую общину; отличие заключается в том, что этническая общность есть в самой себе продукт веры в нее, тогда как родовая община существует фактически»118.
Это определение чрезвычайно важно, т. к. переводит этнос в социологическую категорию, основанную на «вере», т. е. на фундаментальном свойстве социальной системы, а не на прямом признаке родовой принадлежности, которую можно было бы толковать в биологическом, эволюционистском или расовом ключе.
Это определение следует принять безоговорочно, т. к. только такой подход создает возможность полноценного и адекватного исследования этноса как элементарной формы общества, как базовой инстанции социологии (койнемы, в нашей терминологии).
Сам Вебер, однако, большого внимания этничности в своей системе не придавал, считая, что этническая группа есть одна из разнообразных версий социальных групп, устроенных более или менее сходным образом, и следовательно, никакой особой ценности для социолога не представляет. Чтобы понять природу такого отношения, следует поместить саму социологию Вебера и специфику его подхода в исторический контекст.
Основная идея Вебера состоит в выделении индивидуума, личности как главного конституирующего элемента общества. Отсюда вся направленность его социологии, которую он назвал «понимающей». «Понимание» означает проникновение в структуру внутреннего мира личности и корректную расшифровку алгоритма ее решений, целей, мышления и действий в обществе. Такой же подход, в основе которого лежит методологический индивидуализм, свойственен большинству американских социологов — прежде всего Чикагской школы (А. Смолл, Д. Винсент, У. Томас, Ф. Знанецкий и т. д.), а также близкому к ним Дж. Г. Миду119. Вебер стремится осмыслить общество как результат целерациональных действий множества индивидуумов.
Если сопоставить исследования Вебера со шкалой этносоциологических типов общества, то они точно займут место между «нацией» и «гражданским обществом», причем с упором на «гражданское общество», где доминирует индивидуальная идентичность как основа всего общества. Это явление Нового времени, традиции которого восходят к Просвещению и И. Канту. За нормативное общество Вебер берет современное ему европейское буржуазно-демократическое, либеральное, капиталистическое общество, происхождение которого он тщательно исследует как в близких по времени эпохах, непосредственно предшествующих его появлению (Реформация, протестантское мировоззрение), так и в более отдаленных (Античность), где Вебер также старается найти его предпосылки.
Подобно Марксу и Энгельсу, проецировавшим экономические параметры современного им европейского капитализма на древнейшие эпохи и желавшим видеть в них истоки классов и эксплуатации, Вебер переносит параметры либерал-капитализма и индивидуализма, свойственные «гражданскому обществу», на древнейшие эпохи, стараясь увидеть в них зачатки «индивидуализма» и «рациональности». Поэтому Вебер видит во всех социальных группах классовую дифференциацию (не в марксистском, но в социологическом понимании классов как страт), либо ее предварительную фазу. Архаическими обществами Вебер специально не занимался (в отличие от позднего Дюркгейма и особенно Марселя Мосса), и поэтому его экстраполяции (довольно редкие) в этом направлении не имеют серьезного веса.
Вместе с тем Вебер очень тонко описывает, в чем состоит смысл эпохи Модерна, «современного общества», и чем они отличаются от общества традиционного. Вебер вводит понятие «расколдованного мира»120 («entzauberte Welt»), т. е. такого общества, которое утрачивает измерение «священного», «сакрального», перестает верить в мифы и религию, заменяя их рациональной философией и наукой. Исследованием процесса «расколдовывания» мира Макс Вебер преимущественно и занимался. Понятие «расколдовывание» столь же фундаментально для социологии Вебера, как понятие «отчуждение» для марксизма.
Если применить терминологию Вебера к описанию этноса как общества, то мы можем сказать, что этнос — это «околдованное общество» (bezauberte Gesellschaft). Тему значения «сакрального» подробно рассматривает французская социология (Дюркгейм, Мосс, Хальбвакс и т. д.)
В общем контексте этносоциологии теории Вебера полностью релевантны при описании общества Модерна, становления гражданского общества и глубинных социологических процессов, которые при этом происходят. Вскрытая роль протестантской этики в становлении капитализма является классическим образцом прозрений Вебера в суть социологических процессов Модерна.
Фердинанд Теннис: Gemeinschaft и Gesellschaft
Другим классиком немецкой социологии является немецкий философ Фердинанд Теннис (1855–1936).
Теннису принадлежит знаменитая дихотомия Gemeinschaft (община) – Gesellschaft (общество), которая устойчиво ассоциируется с его именем и прочно вошла в арсенал основных социологических методов. Теннис изложил свою концепцию в классическом труде 1888 г. «Община и общества: базовое основание чистой социологии»121.
Смысл концепции Тенниса состоит в том, что общества могут строиться на двух совершенно различных парадигмах. Либо они устроены как небольшие группы семейного типа, связанные узами реального или символического родства, объединенные эмоциональными связями, сопереживанием, заботой обо всех своих членах, единством реакций и социологическим «холизмом», восприятием общины как единого существа. Тогда мы имеем дело с Gemeinschaft (общиной).
Либо общества создаются на основе договора, контракта, расчета, рациональной выгоды, продвижения групповых интересов, с четкой стратификацией и иерархией и объединены интересами, целями, прагматической погоней за индивидуальной выгодой, достигаемой при помощи рациональных социальных действий. Тогда мы имеем дело с Gesellschaft (обществом).
В немецком языке оба слова происходят от разных корней и имеют разное значение (поэтому их как социологические термины оставляют без перевода). «Gemein» означает «общий», «принадлежащий всем». «Geselle» означает «связь» (предполагается, что чего-то отдельного, разрозненного, искусственно соединенного). В русских словах «община» и «общество» этот важный смысловой нюанс (который и составляет сущность концепции Тенниса) полностью теряется в силу тождества корней. На латыни есть два термина, довольно точно передающих эту смысловую дихотомию — «communitas» (община, Gemeinschaft) и «societas» (общество, Gesellschaft).
«Общее» (Gemeinschaft) есть цельное и предшествующее разделению, дифференциации. «Соединенное» (Gesellschaft) предполагает предварительное наличие разрозненного, отдельного, фрагментарного.
Община мыслится органически, как живое существо, которое невозможно расчленить на части без ущерба для его жизни; общество — механически, как аппарат, который можно разобрать и собрать заново (при этом заменив детали или усовершенствовав конструкцию).
В этих терминах этнос есть однозначно и исключительно Gemeinschaft, т. е. община, comunitas. Именно общину как этническую общину этносоциология берет в качестве отправной инстанции — койнемы. Производные от этноса представляют собой этапы перехода от общины (Gemeinschaft) к обществу (Gesellschaft). Теоретической моделью чистого общества (Gesellschaft), в котором не остается ничего от общины (Gemeinschaft), является гражданское общество. Народ и нация — промежуточные фазы, где простота общины усложняется и где мы встречаем элементы и общины (сохранившейся с предшествующих фаз) и общества. В народе больше общины, в нации — меньше, и в обоих случаях они качественно различны.
Благодаря такой общепризнанной сегодня классификации можно в самой социологии выделить два парадигмальных подхода.
Один подход толкует общину (Gemeinschaft) как зародыш общества (Gesellschaft), где общество (Gesellschaft) выступает как историческая цель, к которой тяготеет община (эволюцинизм, прогрессизм, методологический индивидуализм). Другой, напротив, рассматривает общество (Gesellschaft) как следствие трансформации общины (Gemeinschaft), структура и свойства которой аффектируют все более сложные типы социальных систем. Этносоциология строится на второй социологической парадигме. Отсюда фундаментальный этносоциологический тезис о реверсивности социальных изменений, т. е. о постоянно открытой возможности перейти не только от простого к сложному — от общины (Gemeinschaft) к обществу (Gesellschaft), но и от сложного к простому — от общества (Gesellschaft) к общине (Gemeinschaft).
Вернер Зомбарт: герои и торговцы
Гипотеза реверсивности социальных трансформаций или, по меньшей мере, отсутствие энтузиазма при наблюдениях за становлением современного общества (Gesellschaft) и поиск альтернативных социальных путей характерны для другого крупнейшего немецкого социолога Вернера Зомбарта (1863–1941). Если Вебер, бывший личным другом Зомбарта, приветствовал буржуазный порядок и либеральную демократию, то Зомбарт их жестко критиковал, считая их негативными социальными явлениями.
Социология позднего Зомбарта строится на выделении двух базовых социальных типов — «героев» («Helden») и «торговцев», «торгашей» («Händler»)122, которые, соответственно, создают два типа обществ — «героическое», религиозное, рыцарское (например, европейское Средневековье) и «торговое», «торгашеское», «контрактное», индивидуалистическое, буржуазное (современность, Модерн). Доминация того или иного типа предопределяет ценностную систему общества, его социокультурный профиль, политический и экономический строй.
Буржуазное общество и его идеологические предпосылки, возводимые Зомбартом не только к протестантской этике, но и к католической схоластике с ее имплицитным индивидуализмом, являются примерами «общества торгашей», в котором идеи обмена, всеобщего материального эквивалента (денег), моральной гибкости, социальной адаптивности, технического развития и т. д. обретают право главенства над альтернативными семействами ценностей. Общество «героического» типа, напротив, выше материи ставит честь; мораль видит ригидной и неизменной; высокие идеалы превозносит над материальными интересами; жертвенность, мужество, служение и честь провозглашает важнее прибыли и технических изобретений; деньгам придает меньшее значение, чем власти и престижу.
Зомбарт, в отличие от Вебера, считал, что Европа должна вернуться к героическому типу. Позитивную альтернативу Модерну он видел в «нормальном типе» (термин В. Зомбарта, аналогичный «идеальному типу» М. Вебера) органического социализма. Зомбарт отвергал пролетарский социализм Маркса и настаивал на «германском социализме»123, который в качестве социально-политического субъекта выбирал не «класс», но этнокультурную группу, объединенную общей коллективистской ценностной системой. В таком социализме Зомбарт считал целесообразным лишить отдельных индивидуумов каких-либо особых прав и регулировать отношения государства только с конкретными социальными группами. При этом Зомбарт, как последовательный социолог, был чужд биологического расизма и понимал принадлежность к народу не как расовую предопределенность, но как дело свободного духовного и культурного выбора.
Зомбарт не отрицает иерархии или социальной стратификации общества, но предлагает строить их не на основе экономической (классовой) и не на индивидуальной (либеральной) основе, а на принципе эффективного — «героического» — служения «общему благу».
В этносоциологической шкале обществ тот тип общества, к которому призывал Зомбарт, четко соответствует состоянию «народа» (лаоса), что сближает его с Гердером, который жил столетием раньше и исторически стоял на границе между заканчивающейся героической эпохой «народа» — европейским Средневековьем, столь любимым Гердером и романтиками — и началом века классов, наций и доминации «торгашей». Этносоциология заимствует у Зомбарта дихотомию герой/торговец, которая строго соответствует первой производной от этноса (народ-лаос) / второй и третьей производным от этноса (нация, гражданское общество).
Морис Лацарус: народный дух
Большой вклад в разработку этносоциологической дисциплины внесли представители германской этнопсихологии — М. Лацарус, В. Вундт, А. Фиркандт.
Зачинателем этого направления был немецкий философ и психолог Морис Лацарус (1824–1903), один из основателей «Журнала психологии народов и языкознания» («Zeitschrift für Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft»).
Лацарус развивает теории Гердера о существовании «народного духа» (Volksgeist), но описывает его в научных формулировках как совокупное объединение индивидуальных душ, формирующих общее психо-культурное поле124. «Народный дух» проявляется в языке, нравах, обычаях, учреждениях, играх, фольклоре и т. д. Исследование этого явления, по Лацарусу, составляет задачу психолога.
Понятие «народного духа», развиваемое Лацарусом, предполагает подчиненность индивидуального, рационального и прагматического начал воздействию более сильной и действенной коллективной парадигмы, которая является тотальным явлением и формирует структуры индивидуальной психологии.
Именно эту коллективную и строго надындивидуальную инстанцию поставит во главу угла классическая социология Дюркгейма и Мосса, но определит ее как «общество», тогда как Лацарус оперирует с понятием «народа». Для этносоциологии сама возможность методологического отождествления народа (у Лацаруса) и общества (у Дюркгейма) чрезвычайно показательна, т. к. при определенных уточнениях приводит нас к пониманию этноса как койнемы, т. е. простейшей и изначальной формы общества.
Вильгельм Вундт: психология народов
Идеи Лацаруса оказали огромное влияние на его современника, философа и основателя классической экспериментальной психологии Вильгельма Вундта (1832–1920). На раннем этапе своей научной деятельности Вундт исходил из универсальности психологического опыта и в своих экспериментах (он был организатором первой в истории психологической лаборатории) стремился проследить структуру возникновения религиозных взглядов, механизмы эмоций, волевых жестов, ассоциаций и т. д. Метод Вундта называют «структуралистским» или «холистским», т. к. Вундт рассматривал человеческую психику как цельное единство, с чем позже активно полемизировали психологи-бихевиористы.
Вундт считал психику тесно связанной с физиологией и пытался выстроить строгую модель соответствия психической деятельности нервной и мышечной активности.
В поздний период Вундт сосредоточился на исследовании «психологии народов», полагая вслед за Лацарусом, что различные этнические общества имеют совершенно особые коллективные особенности психики, которые Вундт попытался систематизировать в объемном десятитомном издании «Психология народов»125, заложив основы этнопсихологии.
Вундт в огромной степени повлиял на таких выдающихся антропологов и этносоциологов, как Франс Боас и Бронислав Малиновский.
Для этносоциологии работы Вундта открывают перспективу психологического подхода к изучению этноса и его производных, что предполагает привлечение методов и концепций современной психологии к исследованию этнических структур и процессов.
Альфред Фиркандт: феноменология этноса
Этнопсихологию Вундта активно развивал его последователь — психолог и социолог Альфред Фиркандт (1867–1953). Фиркандт придерживался феноменологического взгляда на общество, полагая, что не следует подходить к изучению социальных явлений с готовыми жесткими концепциями и пытаться найти соответствия каждой из них. Напротив, общества, и особенно этнические общества («малые общества»), настолько различны, что требуют внимательного вживания в их структуры, которые могут оказаться совершенно не такими, как это представляется на основе априорных социологических подходов. Общество есть феномен (в смысле феноменологии Гуссерля), и должно быть осмыслено именно в таком качестве. А структура феномена сложна и многообразна и имеет бесчисленное множество не только вариаций, но и парадигм126.
Фиркандт посвятил отдельную работу исследованию происхождения семьи, народа и государства с социологической точки зрения, где акцент ставил на этнопсихологические стороны этих процессов127.
В последний период Фиркандт отошел от идеи Вундта о доминации коллективной психологии в рамках этнического сообщества и стал уделять больше внимания психологии личности.
Зигмунд Фрейд: отцеубийство в изначальной орде
Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд (1856–1939) является автором, настолько повлиявшим на культуру и науку ХХ в. в сфере психологии, философии и социологии, что оценивать его многообразное творчество чрезвычайно сложно. Выделим лишь то, что может иметь отношение к этносоциологии.
Главным открытием Фрейда была сфера подсознательного (Оно, Es по-немецки, Id — на латыни)128, структура которого, как выяснилось, оказывает огромное влияние на психические процессы и даже на ту сферу человеческой деятельности, которые классическая психология относила к рациональным и сознательным проявлениям. Фрейд показал грандиозную мощь работы подсознания, влияющую буквально на все стороны личности. Тем самым Фрейд создал предпосылки для двойной герменевтики (толкования) культурных и социальных явлений, в ходе которой изучается как их рационально-логическая, так и психо-бессознательная стороны129.
К социологии и этносоциологии могут быть отнесены поздние работы Фрейда, в которых он пытается с помощью психоаналитического метода объяснить историческое появление определенных социальных и религиозных институтов (таких как тотем, культ, моногамия и т. д.). Обобщение социологических взглядов Фрейд дает в книге «Тотем и табу»130.
Фрейд видит в начале истории «изначальную орду», в которой царит жесткий патриархат, основанный на силе старшего мужчины в роду. Ему принадлежат все материальные богатства и все женщины племени без разбору. Далее вступает в силу универсальный сценарий: молодые мужчины племени (братья между собой и сыновья единого всемогущего отца) сговариваются убить его и разделить ресурсы и женщин племени между собой. Они убивают отца и ритуально съедают его, а затем осуществляют свою революционную программу. Из этого изначального сценария проистекает все общественные институты — право, собственность, власть, религия, обряд. Вместо права сильного и старшего братья вводят рассредоточенную власть (каждый брат получает часть полномочий). Собственность, добытая такой ценой (кровью и преступлением), становится священной. Власть в орде дифференцируется и отчасти воспроизводит патриархальный сценарий (до убийства), а частично ограничивается правами братьев-отцеубийц. Ритуал воспроизводит на разные лады первичное жертвоприношение. Религия воплощает в себе страх расплаты, раскаяние за содеянное и ожидание возмездия.
Эта работа Фрейда неоднократно подвергалась жесточайшей критике, т. к. противоречила научным знаниям о структуре архаических обществ. Но она иллюстрирует собой саму возможность применения психоаналитического подхода к изучению простых обществ (этносов).
Этносоциология может извлечь из психоанализа Фрейда целый ряд важнейших методологических выводов. Перечислим самые основные.
1. Этнос и его производные можно исследовать параллельно на двух уровнях: на уровне сознания и на уровне подсознательного, как и отдельную личность.
2. В простых обществах подсознание будет проявляться более непосредственно и открыто, чем в сложных. В пределе можно отождествить простое общество с подсознательным (как, по сути, поступает сам Фрейд, описывая сценарий изначальной драмы отцеубийства).
3. В сложных обществах этнос (как койнема) будет размещаться в зоне бессознательного, выступая как социологический аналог той инстанции, которую Фрейд называет «Оно».
Карл Густав Юнг: коллективное бессознательное
Хотя для Фрейда психика была только индивидуальной и субиндивидуальной, теоретически можно применить фрейдистский метод не только к индивидууму, но и к группе и обществу. Это отчасти проделал ученик Фрейда, австрийский психоаналитик Карл Густав Юнг (1875–1961), который ввел понятие «коллективного бессознательного». Юнг пишет: «Мой тезис заключается в следующем: вдобавок к нашему непосредственному сознанию, которое является полностью личностным по природе и которое мы обычно считаем единственной формой нашей эмпирической психики (даже если мы допускаем личное бессознательное как ее продолжение), существует вторая психическая система — коллективной, универсальной и безличной природы, тождественная у всех индивидуумов. Коллективное бессознательное не развивается индивидуально, но наследуется. Оно состоит из пред-существующих форм, архетипов, которые могут стать сознательными только во вторичном проявлении и которые дают определенную форму конкретному содержанию психики»131.
Концепция «коллективного бессознательного» сложилась у Юнга как под влиянием Фрейда и его теории «подсознательного», так и под воздействием знакомства с рядом этнологических и социологических работ. Так, сам Юнг часто упоминает работы Люсьена Леви-Брюля132, описывавшего архаические общества как построенные на «пралогике», «мистическом соучастии» и «коллективных представлениях». Юнг был знаком также с концепцией «категорий воображения», предложенной социологами М. Моссом и А. Юбером133. Юнг ссылается также на концепцию «элементарного мышления» А. Бастиана.
В целях проверки гипотезы «коллективного бессознательного» Юнг проводил в 1912 году в США в Вашингтонском госпитале Сэнт-Элизабет специальные эксперименты по анализу снов негров. Он хотел удостовериться, что «коллективное бессознательное» является врожденным свойством, а не следствием культурных установок. Эксперименты подтвердили универсальность архетипов и их независимость от расового фактора.
Но в то же время Юнг в своих текстах неоднократно говорил о специфических формах «коллективного бессознательного» у разных народов. Так, в 1930-е гг. он предостерегал Европу в отношении Германии, указывая на то, что «коллективное бессознательное» немцев одержимо воинственным архетипом Вотана134 и что если не отвести эту разрушительную энергию вовне (в качестве мишени он предлагал Советский Союз), то это может кончиться для европейцев страшными катастрофами.
Ни сам Юнг, ни его последователи не развили намеченную им в самых общих чертах возможность применения концепта «коллективного бессознательного» конкретно к этнической группе. Но этносоциология вполне может сделать решительный шаг и утвердить инстанцию «этнического бессознательного» как промежуточного пласта между «коллективным бессознательным» (по Юнгу, оно универсально и одинаково для всего человечества) и «личным бессознательным».
Рихард Турнвальд: систематизация этносоциологических знаний
Ключевой фигурой в разработке научной школы немецкой этносоциологии является австро-германский ученый Рихард Турнвальд (1869–1954). Турнвальд был основателем Института Этнологии Берлинского Свободного Института в 1951 году, которому он после смерти завещал свою обширную библиотеку. Турнвальд в течение жизни написал и издал множество книг и научных статей, посвященных этносоциологии, этнологии и антропологии, а также издавал журнал «Sociologus», посвященный этносоциологическим проблемам.
Его главный труд «Человеческое общество в его этносоциологических основаниях»135 является не просто научным исследованием, но энциклопедией этносоциологических знаний и может считаться базовым трудом по этносоциологии, знакомство с которым необходимо любому профессионалу в этой области.
Если Гумплович является создателем термина «этносоциология», то Турнвальд — тот, кто наполнил его конкретным научным содержанием, предложил первую обобщающую систему полноценного этносоциологического знания.
Именно начиная с работ Рихарда Турнвальда, следует откладывать историю собственно этносоциологии, тогда как предшествующие ей научные направления можно причислить к этносоциологии лишь частично. Сам Турнвальд впервые стал называть себя самого «этносоциологом», а «этносоциологией» — то направление, которым он приоритетно занимался.
Турнвальд сам участвовал неоднократно в этнографических экспедициях, и его книги полны полевым материалом, собранным и обработанным им самим в ходе полевой работы. Кроме того часто они снабжены уникальными фотографиями, также сделанными самим Турнвальдом. В его случае мы имеем дело не только с выдающимся теоретиком, но и с этнологом-практиком.
«Жизненные формы» природных народов: типология этносов
Первый том главного труда Турнвальда называется «Репрезентативные жизненные формы в представлениях природных народов»136 и посвящен самым простым типам общества, которые Турнвальд называет «природными народами», чтобы подчеркнуть их гармоничное соотношение с окружающей средой и относительную простоту их культур.
«Природный народ» и есть собственно этнос или этническое общество, койнема. Изучению социологической структуры этноса и посвящен этот том.
Турнвальд выделяет в границах простого общества («природных народов») три типа:
– охотники и собиратели (Wildbeuter);
– крестьяне и разводчики мелкого скота;
– пастухи и разводчики крупного скота.
Внутри каждого типа есть свои подтипы.
Охотники и собиратели делятся на обитателей льдов, степей, лесов и вод; крестьяне и разводчики мелкого скота — на чистую форму (минимальная социальная стратификация), смешанную форму (средняя социальная стратификация) и сложную форму (развитая социальная стратификация); пастухи и разводчики крупного скота — на эгалитарные кочевые племена, стратифицированные кочевые племена и смешанные кочевые/оседлые общества.
Турнвальд досконально описывает принадлежность существующих в наши дни архаических племен к тому или иному подтипу, делая периодические экскурсы в историю более развитых народов, культурные памятники которых сохранили свидетельства о более древних стадиях развития (хроники, мифы, фольклор, народное творчество, обряды и т. д.).
Основное деление этноса (койнемы) на три типа устанавливает прямую взаимосвязь между приоритетной хозяйственной ориентацией общества и его социологической структурой. Этнос может быть трех типов (по степени усложнения):
– простейшим (охотники и собиратели);
– обычным (крестьяне и разводчики мелкого скота);
– усложненным (пастухи и разводчики крупного скота).
Все три типа относятся к этносу и по сравнению с производными от этноса (народами, нациями и т. д.) могут быть рассмотрены как простые и недифференцированные. Но при более пристальной фокусировке внимания можно увидеть и в этих этнических обществах существенные качественные различия. Социальная стратификация практически отсутствует у охотников-собирателей. Она начинает складываться на родовой основе (старейшины рода) при поселениях фиксированного деревенского типа, где население обрабатывает землю и разводит мелкий скот, и отчетливо проявляется в стратифицированных пастушеских племенах и смешанных кочевых/оседлых культурах.
Самое сложное из этнических обществ — смешанная кочевая/оседлая культура — уже несколько выходит за рамки этноса и может быть рассмотрена как первая фаза появления народа (лаоса) и его творений (чаще всего государства).
Первый том работы Турнвальда дает представление об этническом обществе и его основных «жизненных образах», под которыми Турнвальд понимает совокупность хозяйственных, символических, гендерных, обрядовых, мифологических, социальных практик и комплексов, соединенных в единую парадигму (аналог «пайдеумы» Фробениуса или «категорий воображения» Мосса и Юбера).
Семья и хозяйство в простых обществах
Второй том базового сочинении Турнвальда назван «Становление, изменение и образование семьи, родства и связей в свете народоведения»137.
Здесь Турнвальд рассматривает социальные формы семьи, которые соответствуют трем описанным в первом томе типам этнического общества. Турнвальд рассматривает формы семьи и семейного права (моногамные, полигамные, полиандрические союзы), положение женщин, половые табу, статус рода и клана, мужские и женские союзы, формы и типы родства, структуры «материнского права» и патриархата, роль тайных обществ в их отношении к семье, социальный статус возрастов, обряды и ритуалы «искусственного родства» (адопции, «кровного братства»).
Структура родства, гендерных функций и системы власти и права в этносах, разбираемые Турнвальдом, укладываются в довольно строгую схему.
«Простейшие» общества (охотники и собиратели) имеют преимущественно моногамные нуклеарные семьи, основанные на относительном паритете гендеров при гендерном разделении труда (мужчины более охотники, женщины — собирательницы).
«Обычные» общества (крестьяне и разводчики мелкого скота) представляют широкий спектр семейного уклада — полигамию, полиандрию, зачаточный патриархат, матриархат с сохранением гендерного разделения труда при повышении хозяйственной роли (и соответственно, социального статуса) женщины. Турнвальд выводит и полигамный патриархат, и матриархат из одного и того же факта — роста социальной ценности женщины в крестьянских общинах (что может привести к стремлению обладать несколькими женщинами сразу или, напротив, к повышению значения женщины вплоть до создания матриархальных структур).
В усложненных кочевых пастушеских обществах, как правило, доминирует жесткий патриархат, полигамия и утверждается отцовское право.
Третий том исследования «Становление, изменение и образование хозяйства в свете народоведения»138 вновь предлагает обзор трех типов этнических обществ, но с точки зрения их хозяйственной специфики. Турнвальд рассматривает основные хозяйственные техники простого, обычного и усложненного этнического общества, дает функциональный анализ инструментов труда и их связь с обрядами, мифами и символами, а также с социальными установками.
Отдельно рассматривается тема обмена предметами между этносами, в том числе и относящимися к разным типам, что порождает ряд симбиотических экономических связей. Анализируются архаические зародышевые формы капитала, рынка, трат, накоплений, разделения труда, использования труда рабов (в усложненных этносах).
Государство, культура и право в ранних формах дифференцированных обществ
Четвертый том книги «Становление, изменение и образование государства и культуры в свете народоведения»139 посвящен производной от этноса социальной парадигме, которую мы называем «народом» (лаос). Турнвальд использует формулу «природные народы» – «культурные народы» (под «культурными народами» понимая конкретно народы, имеющие государство, рационально оформленную религию или цивилизацию). «Природный народ» (Naturvolk) Турнвальда есть этнос. «Культурный народ» (Kulturvolk) есть лаос.
В этом томе Турнвальд дает обзор всех известных форм членения этносов (орда, клан, племя, род, фратрия и т. д.) и анализирует их политическую и правовую структуру, формы организации власти, связь с образом жизни этносов.
Главной темой этого тома является доскональный анализ процесса стратификации, построения социальных иерархий и анализ тех исторических форм, в которые выливаются эти тенденции — государства, религии, цивилизации. Задача Турнвальда в этой части его труда — точно описать «фазовый переход» между этническим обществом (простым обществом) и его производной (т. е. обществом сложным, дифференцированным, иерархизированным и организованным политически или цивилизационно).
Турнвальд прослеживает историю возникновения первых политических и экономических институтов, а также их связь с теми феноменами, которые непосредственно предшествуют им в простых недифференцированных обществах (койнемах).
В основе государства Турнвальд, вслед за Ратцелем и Гумпловичем, полагает наложение друг на друга двух и более различных этнических групп. При этом наиболее устойчивые и фиксированные формы государства и цивилизации образуются там, где кочевые пастушеские племена устанавливают контроль над оседлыми крестьянскими общинами. Объемно документированный анализ Турнвальда на несчетном множестве примеров, многие из которых взяты из опыта современных архаических племен или на материале недавней истории, качественно подкрепляет теорию «наложения» (Überlagerung).
В пятом, последнем томе исследования «Становление, изменение и образование права в свете народоведения»140 Турнвальд прослеживает генезис ранних правовых институтов, истоки которых он также видит в жизненном укладе простого общества (этносе). Все правовые процедуры и институты, согласно его реконструкции, имеют свой смысл и свое происхождение в социальных структурах этноса, но постепенно они отрываются от изначальной матрицы и трансформируются в новые формы.
Значение трудов Р. Турнвальда для этносоциологии
Труд «Человеческое общество» заканчивается на той стадии, где исследование собственно этнических процессов перестает быть однозначным и наглядным и где Турнвальд подходит вплотную к историческим государствам и письменным культурам. Но это не значит, что на рубеже, где мы имеем дело с высокоразвитыми формами общества (начиная от народа как лаоса), компетентность этносоциологии завершается, а ее релевантность как научного метода исчерпывается. Тот инструментарий, который систематизировал и упорядочил Турнвальд, вполне пригоден для рассмотрения и других производных от общества, вплоть до глобального общества и даже постобщества, тем более что Турнвальд осуществил самую сложную задачу — нюансированно и «градиентно» (т. е. с учетом полутонов и деталей) описал этносоциологическую структуру первого фазового перехода, от простого обществу к сложному (от этноса к лаосу), и раскрыл сущность и смысл этнических процессов, протекающих в этом переходе.
Благодаря его фундаментальному труду этносоциология получила:
1) доскональное описание простого общества (этноса как койнемы);
2) четкое выделение внутри простого общества трех этносоциальных типов и соответствующих подтипов;
3) объяснение алгоритма «фазового перехода» от этноса к его первой производной (народу), т. е. от недифференцированного (или слабо дифференцированного в случае усложненных этносов) общества к обществу с ярко выраженной дифференциацией;
4) систематизацию огромного фактического материала по этнографии и антропологии, четко распределенного по социологическому признаку
Эти четыре пункта составляют основы научной программы этносоциологии как дисциплины. Задача этносоциолога — работать в каком-то одном или сразу в нескольких из этих направлений:
1) углубляя понимание структуры простых обществ;
2) выясняя детали и варианты типологизации простых обществ;
3) исследуя дальше структуру первого фазового перехода (от этноса к народу — лаосу) и применяя ее алгоритмы, уточняя их по ходу дела, к иным версиям фазовых переходов (от народа к нации, от нации к гражданскому обществу, от глобального общества к постобществу);
4) собирая новый этнографический материал и сортируя его по базовым этносоциологическим критериям.
Вильгельм Мюльман: этнос, народ, этноцентрум
Другой ключевой фигурой современной этносоциологии является ученик и коллега Турнвальда — этнолог, социолог и философ Вильгельм Мюльман (1904–1988).
Вильгельм Мюльман считал себя продолжателем дела русского этнолога С.М. Широкогорова и признавал, что позаимствовал этнос как социологическую категорию именно у него. Большое впечатление на Мюльмана произвели полевые исследования Широкогорова среди эвенков (тунгусов), т. к. мифы, обряды, социальные институты и хозяйственные практики этого небольшого сибирского этноса позволяют в миниатюре увидеть парадигму этноса как такового, а через него и структуру более сложных обществ.
В целом, Мюльман следует в своих книгах и исследованиях традиции Турнвальда, развивая его методику, уточняя нюансы социологических и этнических классификаций, дополняя пустующие или слабо проработанные ячейки в общей модели этносоциологических знаний. Но есть ряд направлений, в которых Мюльман достиг серьезных результатов, существенно обогативших структуру этносоциологического знания.
Мюльман первым предложил ввести понятие этноса в строгом смысле, следуя за Широкогоровым и определяя таким образом простейшую из возможных форм организации общества (койнему). Столь четкого определения нет ни у Гумпловича (пользовавшегося, как мы видели, термином «раса», несмотря на введение им же самим таких понятий как «этносоциология» и «этноцентризм»), ни у Турнвальда, пользующегося терминами этнос (Ethnie, Ethnos) и (Volk) попеременно без каких-либо смысловых нюансов.
Мюльман четко разделил четыре понятия: «этнос», «народ», «нация» и «раса» как самостоятельные концепты, нагруженные вполне определенным и не пересекающимся социологическим смыслом.
Этнос — простейшее общество.
Народ же (Volk), по Мюльману, есть, напротив, высшая форма культурного и духовного развития, пик социологических возможностей общества. Мюльман в 1930–40-е гг. разделял народы на «подлинные народы» (echte Völkern), «плавающие народы» (schwebende Völkern) и «мнимые народы» (Scheinvölkern), но позже отказался от такой классификации. Но важно, что понятие «народ» (Volk) впервые приобрело статус научного социологического концепта141.
Нация, по Мюльману, соответствовала современной государственно-политической и правовой форме гражданственности, и ей он большого внимания не уделял.
В отношении термина «раса» Мюльман предложил разделять биологическую (а-расу) и социологическую расу (b-расу) 142. Принадлежность к биологической а-расе может быть доказана методом генетических и антропометрических исследований так же, как и в случае животных видов, растений и минералов. Сама по себе социологического значения а-раса не несет. А b-раса — это представление людей о своей принадлежности к той или иной линии родства или о принадлежности других. Социологическая b-раса, напротив, имеет большое значение в определенных жизненных, культурных, исторических и политических ситуациях и может выступать как социологическая категория.
С философской точки зрения Мюльман был последователем Эдмунда Гуссерля и рассматривал этнос как феноменологическую данность, которая фундаментальна для конституирования и объекта (среды) и субъекта (человека) и предшествует любым индивидуализациям. Поэтому он отказывался противопоставлять «природу» и «культуру»: этнический феномен не знает такой дуальности, и чтобы понять этнос и его природу глубоко, необходимо заведомо отказаться от привычной для западноевропейского человека двойственной модели деления всего на субъект и объект, субъективное и объективное.
Чрезвычайно важно введение Мюльманом термина «этноцентрум»143 как базовой структуры этнического феномена. «Этноцентрум» есть разметка мира в этническом сознании, где общество, природа, мифы, право, хозяйство, религия, магия помещены в единую модель, в ядре которого находится сам этнос, а все остальное концентрическими кругами развернуто вокруг него, причем паттерн малых кругов и дальней периферии этноцентрума сохраняется константным. В структуре этносоциологического знания концепт «этноцентрума», его трансформации и его производные играют подчас решающее значение.
Мюльман большое внимание уделял межэтническим связям, исследуя процессы, которые развертываются на границе двух или нескольких этносов. Процессам этнической ассимиляции, включения этносов в народ и аналогичным процессам межэтнических взаимодействий посвящена его книга «Ассимиляция, окружение народа, становление народом»144.
Мюльману принадлежит классический в германоязычной среде обзорный труд по истории антропологии145.
Георг Эльверт: этнические конфликты и «рынки насилия»
Ярким представителем следующего поколения этносоциологов был немецкий ученый Георг Эльверт (1947–2005), специалист по этносам Африки и Центральной Азии, профессор этнологии и социологии. Эльверт был главным редактором журнала «Sociologicus», основанного Турнвальдом и возглавлявшегося Мюльманом. Эльверт продолжал и развивал традиции своих предшественников, работая в созданном Турнвальдом Институте Этнологии в рамках Свободного Берлинского Университета.
Эльверт применял этносоциологический принцип к анализу состояния экономики современных африканских стран146, описывая в этносоциологических категориях процессы развития и модернизации. Особое внимание Эльверт уделял проблемам современных форм «империализма», включая «рыночный империализм», показывая, как внедрение современных западных экономических технологий в определенных случаях усугубляет социальную картину в ряде развивающихся стран и несет с собой разрушительные последствия147.
Эльверт является признанным авторитетом в сфере этнических конфликтов и международного терроризма. В частности, ему принадлежит авторство ставшего расхожим термина «рынки насилия», описывающие международные криминальные структуры, связанные с обслуживанием террористических сетей и подчас влияющие на этнический баланс в странах Третьего мира, включая искусственную провокацию межэтнических столкновений148.
§ 2. Американская школа этносоциологии. Культурная антропология. История религий. Этнометодология
Терминологическое пояснение
При знакомстве с американской школой этносоциологии следует учитывать уже упоминавшееся обстоятельство, связанное с названием. Та дисциплина, которая в Германии (особенно после Турнвальда и Мюльмана) и в России устойчиво называется «этносоциологией», в США исторически получила название «культурная антропология». Эта дисциплина изучает преимущественно «простые общества» (т. е. этносы) и на основании этого строит системы и классификации более обобщенных культурных и социальных явлений, т. е. делает методологически и концептуально строго то же самое, чем занимается этносоциология.
Прежде чем перейти к обзору основных авторов этого направления, следует упомянуть первых американских антропологов и социологов, придерживавшихся эволюционистской и индивидуалистической концепции, на преодолении и опровержении которой была построена собственно «культурная антропология».
Льюис Морган: древнее общество
Американский историк и этнолог Льюис Морган (1818–1881) был основателем современных антропологических исследований в США и заложил основы для работ последующих поколений антропологов. Он на практике изучал структуру индейских племен ирокезов и на основании наблюдения архаических обществ сформулировал свои основные теории. Суть их изложена в обобщающей работе «Древнее общество» 149 и заключается в сопоставлении уровня технического развития со структурой родства и отношения к собственности. В эволюционистском ключе Морган делит историю человеческих обществ на три фазы:
– дикость;
– варварство;
– цивилизация.
Он сопоставляет каждую из фаз с уровнем технологического и правового прогресса. Между ними он выстраивают само собой разумеющуюся иерархию, которая видна в самих названиях. Если не обращать внимания на оскорбительное звучание первых двух терминов и подыскать им аналоги в этносоциологии, можно соотнести «дикость» — с этносом, «варварство» — с народом, «цивилизацию» — с нацией. Идеи Моргана повлияли на Карла Маркса (1818–1883) и Фридриха Энгельса (1820–1895) и предопределили во многом структуру «исторического материализма», также выдержанного в духе «эволюционистского расизма».
Моргану принадлежат первые серьезные исследования структуры родства в архаических обществах, ставшие впоследствии центральной темой антропологии.
Уильям Самнер: folkways и mores
Уильям Грехем Самнер (1840–1910) является основателем американской социологической традиции и безусловным классиком социологии. Вместе с тем его главный труд «Народные обычаи»150 («Folkways») большое внимание уделяет архаическим простым обществам и может считаться исследованием по собственно этносоциологии.
Самнер находится в рамках эволюционистской парадигмы под решающим влиянием Г. Спенсера. Для него не вызывает сомнения эволюция и прогресс человеческих обществ, а также то, что человеком движут звериные инстинкты — голод, пол, страх и т. д. Тем самым Самнер полностью выписывается в традиции социал-дарвинизма.
Вместе с тем его труды, и особенно наиболее известная книга «Народные обычаи», содержат чрезвычайно важные элементы этносоциологических знаний, развитых последующими поколениями социологов и антропологов.
Именно Самнер впервые вводит в социологию понятие «we-group» («мы-группа») и «other-group» («группа других») или «they-group» («они-группа»), что стало с тех пор классическим инструментарием любого социологического анализа группового поведения и групповой идентичности. В частности, на этом фундаментальном делении основаны аутостереотипы и гетеростереотипы, предопределяющие базовые структуры взаимоотношения между собой различных сегментов общества. Наиболее ярко стереотипы и структура «мы-групп» и «они-групп» прослеживается именно в сфере этносов, и Самнер вводит этот концепт, основываясь на материале архаических коллективов, этносов. Это видно уже в том, что он описывает явление «мы-группа» как «этноцентризм», заимствуя этот термин у Гумпловича, с трудами которого он был знаком. Процессы, протекающие внутри «мы-группы», Самнер называет «in-group», отделяя от них процессы, протекающее вовне группы — «out-group».
Свое основное исследование Самнер посвящает «народным обычаям», хотя сам он использует особый термин «folkways» — дословно «народные пути». Это явление он считает целиком бессознательным и изначальным, построенным не на философии и рассудке, но на прямом процессе жизни. Можно сказать, что folkways — это базовый социальный феномен, свойственный самым простым и архаическим обществам, у которых отсутствуют социальные институты, классы, правовые системы и т. д. Folkways у разных этносов различны и могут варьироваться даже у малых социальных групп одного этноса. Но именно они, факт их наличия и их автоматического (неосознанного) признания всеми формирует общество как единство.
Первой формой более определенного структурирования бессознательных folkways являются то, что Самнер называет латинским термином «mores», дословно «нравы», от которого образовано прилагательное «moralis», а от него слово «мораль». Этому явлению Самнер уделяет центральное место в своей книге, давая обширную панораму «нравов» самых разных обществ и народов — от архаических до современных. «Нравы» (mores) вырастают из folkways, т. е. их природа бессознательна и не поддается рациональному объяснению, но сами они связаны с историческими, материальными, климатическими, социальными и иными условиями, что придает им постепенно все более и более рациональную форму. Рационализация нравов, по Самнеру, есть прогресс.
Над «нравами» надстраиваются еще более формализованные конструкции — социальные институты, политические и правовые системы, религиозные и экономические структуры. Они, как правило, рациональны и прагматичны, т. е. служат конкретным целям и выражают осознанные интересы каких-то социальных групп. Но корни эти рациональных структур следует искать в полурациональных или слабо рациональных «нравах» (mores), а те, в свою очередь, складываются на основе уже полностью иррациональных folkways, которые отражают архаические структуры этнической «мы-группы».
Самнер делает одно очень серьезное замечание, которое предопределит философию последующих поколений антропологов и встанет в центре страстных полемик о сущности человека и общества. Одну из глав он называет в форме афоризма: «Нравы (mores) могут сделать все что угодно правильным и предотвратить осуждение чего бы то ни было»151. Если вынести это утверждение из контекста социал-дарвинизма и эволюционизма, мы получим готовый закон множественности человеческих обществ: их культура и мораль окажутся несопоставимыми друг с другом, а любая форма оценки одним обществом другого будет ни чем иным, как все тем же «этноцентризмом» и заведомо некорректным гетеростереотипом, пристрастным (и поэтому ложным) мнением «мы-группы» («we-group») об «они-группе» («they-group»).
Если соотнести модель Самнера с этносоциологическим рядом обществ, то folkways мы относим к этносу, а социальные институты, правовые системы и политические структуры — к народу/лаосу (и далее — нации и гражданскому обществу). «Нравы» (mores) представляют собой нечто промежуточное. В этносе есть только folkways и зачатки «нравов». В народе/лаосе есть внизу (в массах) «нравы» (mores), а вверху (в элитах) — социальные институты; folkways здесь полностью уходят в бессознательное. В нации же «нравы» упраздняются (т. е. тоже уходят в бессознательное — к folkways) и остаются только институты и структуры. Признав реверсивность исторического процесса, мы получаем возможность при таком сопоставлении решить множество социологических и этносоциологических задач — например, выяснить соотношение права и нравственности, законов и обычаев и т. д.
У. Томас: этнография цивилизованных обществ с развитой культурой
Два классика американской социологии — Уильям Томас (1863–1947) и его соавтор, этнический поляк Флориан Знанецкий (1882–1958) также сделали большинство своих методологических и концептуальных открытий на основании исследования именно этнических явлений. Их фундаментальный пятитомный труд «Польский крестьянин в Европе и Америке»152, в котором они выстроили большинство своих социологических концепций (в том числе знаменитую теорию «социальной установки»), посвящен анализу поведения мигрантов в разных социальных и этнических средах. Эта книга многими по праву считается лучшим социологическим трудом, написанным в США за всю историю американской социологии. Уильям Томас, в свою очередь, является автором фундаментального закона социологии как таковой: «не важно, правильна или не правильна та или иная интерпретация — если люди определяют ситуации как реальные, они реальны в их последствиях»153.
Томас, получивший грант на изучение проблем эмиграции в США, отправился в Европу для изучения тех обществ, которые поставляли большинство эмигрантов в Америку. При этом, по его собственному признанию, он неожиданно (в случае высокодифференцированных и цивилизованных европейских обществ) решил применить к ним тот же метод, который использовали этнографы для исследования культуры бесписьменных архаических народов. Получилось так, что он сосредоточился на польском сегменте — как в Европе, так и в США, изучив польский язык и проведя детальный анализ социальных особенностей поведения польских крестьян на их Родине — в Польше и в эмиграции в США. В Польше он и встретил своего будущего соавтора Флориана Знанецкого. Томас стал фиксировать и систематизировать бытовые детали, повседневные наблюдения, темы бытового общения и на этом материале выстроил большинство своих социологических обобщений.
Анализ поведения социальных групп — формы их адаптации, оптимизация и экономия ресурсов в процессе социализации, взаимная поддержка, конкуренция, структура коллективной идентичности, набор социальных ценностей, осознание статуса и способы его изменения, ситуативный анализ — все эти классические социологические темы были введены Томасом в научный оборот через исследования этноса.
Как Самнер формулирует важнейшие социологические законы, распространяемые на изучение всех обществ, в том числе и сложных, современных, отталкиваясь от этнических феноменов архаических обществ, так Знанецкий и Томас ключевой набор социологического инструментария, ставшего основой современной социологии, почерпнули из наблюдения именно за этнической группой, ставшей для них парадигмой всех остальных социальных групп. Для этносоциолога это далеко не случайно, т. к. этнос и есть простейшая форма общества, койнема, которая является парадигмой и базовой составляющей обществ более сложных.
Ф. Боас: основатель культурной антропологии
Началом полноценной этносоциологической традиции в США следует считать школу, созданную крупнейшим этнографом, философом и антропологом (эмигрировавшим в США из Германии) Францем Боасом (1858–1942). Она получила название «культурной антропологии» («cultural anthropology»), но германские этносоциологии Турнвальд и Мюльман однозначно отождествляли ее именно с этносоциологией в силу единства главной темы, методов, принципов, изначальных установок и приоритетных подходов к трактовке общества, этноса, культуры, человека.
Мировоззрение Боаса складывалось под влиянием германской географической, этнологической и психологической школы (Ф. Ратцель, А. Бастиан, В. Вундт и др.), и он сохранил любовь к Германии и верность ее культуре даже в США (в чем его подчас и обвиняли). Боас совершил настоящий переворот в американской антропологии, где до него доминировали эволюционистский и социал-дарвинистский подходы, были популярны расовые теории, объяснявшие социологические особенности врожденными наследственными признаками и расовой принадлежностью, и царила непоколебимая убежденность в абсолютном превосходстве современного западного (европейского и американского) общества, его технологий и ценностей надо всем остальным миром. Боас построил свою научную программу на опровержении всех трех форм расизма;
– эволюционистского или прогрессистского (построенного на тезисе, что сложные общества лучше простых);
– биологического (объяснявшего культурные различия расовыми биологическими особенностями);
– европоцентристского (как разновидности европейского и американского «этноцентризма»).
Боас выдвинул радикально новое учение об обществах, которое провозглашало154:
• относительность и обратимость (реверсивность) социальных процессов (общества могли в своих трансформациях под влиянием социальных, природных и географических факторов как усложняться, так и упрощаться);
• историчность любых типов общества — как сложных, так и простых (т. к. за видимым постоянством архаических народов скрыта внутренняя динамика, подчас не уступающая историчности более дифференцированных социальных систем);
• необходимость изучать архаические общества только в полевых условиях, живя в них, собирая тщательно данные такими, какими они предстают перед исследователями, не пытаясь априорно их систематизировать, изучая язык и вживаясь в их мировоззрение и в их «жизненный мир»;
• культурный плюрализм, т. е. отсутствие какого бы то ни было основания для иерархического сравнения культур и обществ между собой — все они различны, но каждое из них несет свои критерии в самом себе и должно быть воспринято как есть даже если те или иные обычаи шокируют наблюдателя;
• отказ от наблюдения за архаическими этносами как за объектами (глазами европейского или американского культурного субъекта) и требование соучастия в них как в субъекте (эмпатия, einfuhlung);
• вскрытие зависимости физических и в том числе расовых свойств человека от окружающей среды — природной и социальной;
• приоритетный учет языкового фактора как обобщающей формулы культуры155.
Эти принципы легли в основу культурной антропологии156, заменившей собой эволюционизм, расовые теории и теории родства, безраздельно господствовавшие ранее в американских исследованиях этносов и архаических («примитивных») племен. Все они полностью разделялись также европейскими этносоциологами и легли в основание этносоциологии как таковой.
Сам Боас строго следовал этим правилам, подолгу жил среди изучаемых им племен (особенно эскимосов, инуитов157 и индейцев Квакиутль158), изучил их языки и культуру, проник в их «жизненный мир».
Каждый из утверждаемых тезисов культурной антропологии Боас подкреплял серьезными эмпирическими исследованиями — в области физической антропологии (исследования объема и формы черепа у младенцев, рождающихся на свет в семьях эмигрантов из Европы в США до и после десятилетнего периода пребывания их матерей в новых условиях159), лингвистики (ему принадлежит догадка о том, что исследователь воспринимает звуки чужой речи, исходя из фонетической структуры своего собственного языка), археологии и т. д.
Идеи Боаса были подхвачены и развиты блистательной плеядой его учеников, среди которых собраны почти все звезды американской этнологии, антропологии, а также лингвистики и психологии.
Альфред Кребер: культурный паттерн и сверхорганика
Одним из первых учеников Ф. Боаса был антрополог Альфред Кребер (1876–1960), основатель антропологической школы в Беркли. Кребер сосредоточил свое внимание на изучении индейских племен Северной Америки, особенно в калифорнийском регионе160.
Кребер развивал идеи Боаса, применяя их как к практической сфере полевых исследований (вживание, изучение языка, тщательное собирание деталей и недешифруемых поначалу знаков, предметов и обычаев и т. д.). Вместе с тем активно работал он и над теоретическими вопросами культурной антропологии. Он стал основателем «культурной экологии» — направления, которое изучало социальный контекст человеческих взаимоотношений и отношение людей к окружающей природной среде в едином комплексе, без уточнения, что в этой единой системе первично, а что вторично, что является аргументом, а что функцией.
Кребер продолжал линию Боаса в исследовании исторической антропологии161, прослеживая на основании мифологического и культурного материала структуру трансформаций (миграций, реформ и других социальных изменений) в «примитивных» обществах как прямого аналога исторического процесса обществ более сложных.
Кребер ввел понятие «культурного паттерна», т. е. определенного образца, оригинала, который составляет собой алгоритм постоянных особенностей общества (обрядов, ритуалов, процессов, церемоний, ситуаций и т. д.), регулярно и синхронно воспроизводимых в различных условиях.
Сосредоточив основное внимание на культуре как «сверхорганическом»162 («superorganic») явлении, Кребер выдвинул холистскую модель общества, где материальные и духовные (собственно, социальные) элементы находятся друг с другом в неразрывной связи163.
Все эти темы ясно указывают на «холистскую» традицию германской гуманитарной науки, принесенную Боасом в США.
Роберт Лови: исторический партикуляризм
Другим ближайшим учеником Боаса и соучредителем антропологической школы в Беркли известный этнолог Роберт Лови (1883–1957). Лови был первым аспирантом Боаса, защитившим у него диссертацию.
Р. Лови специализировался в теориях родства среди архаических этносов, развивал, как и Кребер, историческую антропологию. В сфере исторической антропологии он сформулировал концепцию «исторического партикуляризма»164, т. е. особости и уникальности исторического опыта каждого этноса, включая те, которые считались прежде не имеющими истории вообще и воспроизводящими постоянно один и тот же «паттерн».
Лови, как и Кребер, проводил полевые исследования среди североамериканских индейцев (преимущественно племен кроу165 и плэйн166), но в зону его внимания входили и общества Южной Америки и Европы. В частности, он посвятил отдельное исследование немцам, применив одним из первых методы антропологического и этносоциологического подхода (практиковавшиеся ранее преимущественно для исследования бесписьменных обществ) к высокоразвитому народу Европы с высокодифференцированной и обильно задокументированной исторически культурой167.
Значение Лови для этносоциологии состоит в том, что он фокусирует свое внимание на переходах от чисто архаических обществ к обществам аккультурированным и к сложным обществам с развитой религиозной и политической культурой. При этом он показывает как трансформации, так и непрерывность этнического элемента в высокодифференцированных социальных ансамблях. Научный и методологический аппарат, разработанный Лови, позволяет применять этносоциологические принципы теоретически ко всем типам обществ168.
Рут Бенедикт: персонификация культурного паттерна
Ученица Ф. Боаса Рут Бенедикт (1887–1948) также разрабатывала принципы изучения сложных культур антропологическими методами, как и Лови, продолжая развивать и апробировать этносоциологический подход. Это нашло выражение в наиболее известной работе Рут Бенедикт «Хризантема и меч»169, написанной в 1946 г. сразу после окончания Второй мировой войны и посвященной этносоциологии японского общества.
В своей работе Р. Бенедикт показывает, насколько убедительным и неожиданным в своих выводах может быть подход «культурного плюрализма» применительно к практическим темам. Так, после поражения Японии американцы чрезвычайно опасались, что жесткая и крайне фиксированная социальная и культурная структура японского общества станет постоянной проблемой для американских оккупантов, чья система ценностей построена не просто иначе, но почти прямо противоположным образом. Тем не менее Бенедикт показывает, что столь жесткими японская культура и японское общество выглядят только со стороны, если рассматривать их как объекты. В них есть сложная модель установок и паттернов, которые позволят японцам адаптироваться к американскому присутствию и влиться в западные социальные стандарты, переосмысленные в особом японском ключе, и даже достичь серьезных успехов в игре по западным правилам. Такой анализ в 1946 г. казался совершенно нереалистичным, но спустя несколько десятилетий полностью воплотился в жизнь и стал историческим фактом, что укрепило престиж культурной антропологии и этносоциологии.
Р. Бенедикт развивала и ряд теоретических направлений, наиболее известным из которых является «психологическая антропология». Согласно Бенедикт, в каждой культуре можно обнаружить вполне определенный психологический тип, этносоциальный характер170. Этот тип является стандартным и выступает носителем культурных паттернов и вместе с тем их продуктом. Через персонифицированный стандарт происходит трансляция этих паттернов.
Абрам Кардинер: базовая персональность
Другой представитель школы Боаса — социолог и психолог Абрам Кардинер (1891–1981) — придал концепции «стандартной персональности» законченную форму. Он назвал носителя культурного «паттерна» «базовой персональностью»171, т. е. социологическим типом, который лежит в основе социума и является его «базой».
Кардинер, как и Рут Бенедикт, ставит перед собой вопрос о соотношении коллективного и индивидуального в культуре и обществе. И ответом на этот вопрос стала «базовая личность», которая, с одной стороны, несет в себе и ретранслирует другим безличный культурный паттерн, а с другой — индивидуализирует его в своей «истории». Таким образом, через понятие «культурной личности» общество (этническое или более дифференцированное) может быть осмыслено одновременно в двух измерениях — структурном (безличном, неизменном, базовом) и индивидуальном (историческом, личном).
Кардинеру принадлежит социологическая концепция деления социальных институтов на первичные и вторичные.
Кардинер сочетал социологию и антропологию с активными занятиями психоанализом и широко привлекал для разрешения социологических и этносоциологических проблем фрейдизм. Кардинер считается одним из классиков современной психологии.
Ральф Линтон: статус и роль
Рут Бенедикт и Абрам Кардинер образовали в1930-е гг. в Нью-Йорке кружок «культура и личность» («culture and personality»), в работе которого регулярно принимали участие другие последователи школы Боаса и, в частности, знаменитый социолог Ральф Линтон (1893–1953), начавший свою карьеру как археолог и этнограф, занимавшийся полевыми исследованиями в США, Полинезии и на Мадагаскаре172.
Линтону принадлежит ставшее классическим в социологии разделение понятий «статус» и «роль»173. Социальный статус, как показал Линтон, состоит из целого набора ролей, каждую из которых носитель статуса может выполнять с разной степенью совершенства. Соотношение статуса и роли связано с общей для школы Ф. Боаса в целом и кружка «Культура и личность» проблемой пропорций между безличным (структурным) и личным (историческим) в обществе.
Так в очередной раз мы находим в основании фундаментальных понятий и концепций современной классической социологии этнос, этнологию и культурную антропологию (этносоциологию).
Кора дю Буа: структура модальной персональности
Участницей кружка «Культура и личность» была еще одна знаменитая представительница современной антропологии, социологии и этнографии Кора дю Буа (1903–1991), также ученица Боаса. В духе классического подхода этого направления дю Буа занималась полевыми этнографическими исследованиями в Северной Калифорнии и на Северо-востоке Тихоокеанского побережья Америки, выпустив документированное исследование о социологическом и культурном значении «танца духов» у племени винту174.
Позднее под влиянием А. Кардинера дю Буа начала активно использовать в этнографических и этносоциологических исследованиях психологические и психоаналитические практики, тесты, опросы, анализы сновидений и т. д. На этом методе была основана ее работа в Индонезии175.
В теоретической области она предложила нюансированную версию «базовой персональности» Кардинера, которую она определила как «структуру модальной персональности». Эта концепция была призвана уточнить границы того постоянного типа, в рамках которого осуществляются индивидуальные вариации в этнических и социальных структурах.
Эдвард Сепир: гипотеза языковой непереводимости
Еще одним членом этого кружка и также учеником Боаса был знаменитый лингвист Эдвард Сепир (1884–1939), который в рамках исследования соотношения культуры и «базовой персональности» приоритетно развивал еще одно направление, намеченное Боасом — «культурный плюрализм», воплощенный в множественности человеческих языков.
Сепир отождествляет культуру и язык общества и со своей стороны подходит к аксиоме структурной лингвистики (Ф. де Соссюр, Р. Якобсон, Н. Трубецкой), согласно которой смысл высказывания определяется не столько соотношением знака и обозначаемого (экстенсионала, конкретного объекта или явления внеязыковой сферы), сколько внутренней связью знака с другими знаками в общей структуре языка и языкового контекста176. Сепир следует в этом за Боасом, указывавшим на то, что восприятие фонем чужого языка антропологами проходит через фильтр структуры их собственной лингвистической принадлежности. Если даже фонема как минимальный фрагмент звукового выражения языка и материальный знак вычленяется лингвистическим восприятием на основании специфического для каждого языка или для группы языков лингвистического паттерна, то что же говорить о восприятии смысловых категорий, которые целиком зависят от еще более гибкого и тонкого культурного поля и контекста.
Это можно проследить через ставшее классическим сопоставление названий цветов в разных языках. В одних языках есть несколько терминов для описания того или иного оттенка, тогда как другие одним и тем же словом называют такие цвета, которые другим этносам представляются безусловно и очевидно различными.
Смысл зависит от контекста и от структуры языка. Поэтому смысл есть не общечеловеческое, а этнически, культурно, социально и лингвистически предопределенное явление и принадлежит только конкретному семантическому и языковому контексту.
Сепир формулирует этот факт как «непереводимость языков». Это утверждение получило название «принцип лингвистической относительности» или «закон Сепира — Уорфа» (Бэнджамин Уорф (1897–1941) — американский лингвист, сотрудничавший с Сепиром).
Из принципа лингвистической относительности вытекает невозможность мыслить вне языка. Мысль не может развертываться без смысла, а смысл содержится в языке.
Таким образом, плюрализм культур подтверждается плюрализмом языков, при том, что различие языков не позволяет выстроить их иерархию, поскольку для этого следовало бы признать один из языков или группу языков более совершенными, чем другие, а это значило бы истолковать «другое» через «свое» т. е. осуществить «этноцентрический акт».
Можно проследить интересную цепочку: неиерархизируемое различие культур (холизм) утверждалось уже Гердером и разделялось немецкими романтиками. Романтизм повлиял на органицизм и антропогеографический подход (Ф. Ратцель) и немецкую этнологию и этнопсихологию (М. Лацарус, В. Вундт). Ф. Боас, сформировавшийся в Германии под прямым воздействием этих влияний, принес это направление в США и создал там школу, которая предопределила облик американской и во многом мировой антропологии, этнологии, социологии, культурологи и лингвистики на все ХХ столетие. Ученик Боаса Эдвард Сепир замыкает интуицию Гердера, выражая ее в своем принципе непереводимости в качестве строго научного, лингвистического и социологического закона.
Клайд Клукхон: метод ценностных ориентаций
Довольно близко по методам и тематике к кружку «Культура и личность» стоит другой видный социолог, коллега Толкотта Парсонса и создатель Гарвардского Департамента Социальных Связей Клайд Клукхон (1905–1960).
Клукхон, как и большинство культурных антропологов, следовал правилам Боаса и предпринял ряд этнографических полевых экспедиций. Результатом этого стали исследования в области магических и религиозных представлений индейцев навахо177.
На определенном этапе Клукхон тесно сотрудничал с Кребером и выступил как его соавтор при написании книги «Культура: критический обзор концептов и определений»178.
В теоретической сфере Клукхон предложил руководствоваться в кросс-культурных исследованиях методом «ценностных ориентаций»179. Этот метод предполагает классификацию культуры по пяти главным ценностным критериям:
– оценка человеческой природы (она может мыслиться как добрая, злая или смешанная);
– отношения человек–природа (нормативом является либо подчинение человека природе, либо подчинение природы человеку, либо их гармоничный баланс);
– понимание времени (основной акцент ставится на прошлом/традиции, настоящем/наслаждении или будущем/потомстве/отложенном вознаграждении);
– деятельность (бытие, становление/внутреннее развитие или делание/стремление/техника);
– социальные отношения (иерархические, ассоциативные/коллективно-эгалитарные или индивидуалистические).
Эффективность этих критериев легко продемонстрировать на примере анализа основных этносоциологических моментов.
С помощью критериев Клукхона можно описать и более тонкие различия, варианты обществ в переходных состояниях, отдельные социокультурные, политические, идеологические или религиозные группы в рамках того или иного типа общества.
|
Общества Кри- терии Клукхона |
Этнос |
Народ/Лаос |
Нация |
Гражданское общество |
|
природа человека |
смешанная |
смешанная или злая |
смешанная или злая |
добрая |
|
связь человек – природа |
баланс |
баланс |
человек над природой |
человек над природой |
|
время |
настоящее |
прошлое/ традиция |
будущее/ потомство или настоящее/ наслаждение |
настоящее/ наслаждение |
|
деятельность |
бытие |
становление/ внутреннее развитие |
делание/ стремление/ техника |
делание/ стремление/ техника |
|
социальные отношения |
эгалитаризм |
иерархия (кастовая, сословная) |
иерархия (классовая, экономическая) |
индивидуализм |
Схема 7. Таблица соответствия критериев Клукхона типам обществ в этносоциологическом ряду
Клиффорд Гирц: символическая антропология
Учеником Клукхона был известный американский антрополог Клиффорд Гирц (1926–2006), создатель символической антропологии.
Гирц принимал участие в полевых исследованиях на острове Ява, в Бали и Марокко. В рамках культурной антропологии он написал несколько фундаментальных трудов, посвященных интерпретации религиозных представлений архаических этносов180 и экологическим аспектам экономики — в частности, проблеме аграрного сектора в обществах, подвергшихся ускоренной аккультурации и модернизации181.
Гирц соединяет в своем творчестве влияние школы Боаса и кружка «Культура и личность», социологические идеи Т. Парсонса и М. Вебера, философские воззрения позднего Витгенштейна, разработавшего концепцию «языковых игр», и философские теории структурализма (П. Рикер). На основании этих источников он выстроил модель «символической антропологии». Задачей исследователя культуры этнического общества, по Гирцу, является выяснение его структуры и ее интерпретация, герменевтическое толкование в терминах, сопряженных с самой этой культурой. Для прояснения сущности такого метода сам Гирц использует термин «плотное описание» (thick description). «Плотное» в смысле отказа от заведомого выделения в рассматриваемой этнической культуре основных семантических осей, которые сортировали бы накапливаемые данные по степени их релевантности/иррелевантности в соответствии с заведомо заданными критериями. «Плотное описание» культуры предполагает изначальное доверие к ней самой и готовность подстраивать социологический и антропологический аппарат под то, что считают важным или неважным сами органические носители этой культуры. «Плотное описание» характерно для мифа, с его синхронией, символизмом и многомерностью, «плоское описание» — для рационального дискурса, построенного на строго каузальных связях.
Сущность «символической антропологии» заключается в том, чтобы строить свои системы с учетом того, что сами представители рассматриваемой культуры полагают главным или второстепенным. Это может противоречить установкам исследователя той или иной антропологической школы, который склонен придавать приоритетное значение совсем иным факторам, но Гирц настаивает на том, чтобы в любом случае ценностные иерархии этноса учитывались самым серьезным образом. В этом принципе легко распознать закон У. Томаса: «если общество считает что-то великим, то оно великим и является». Или доктрину Мосса о «тотальности социального факта»: если в каком-то обществе важным считается то, что представляется совершенно неважным для исследователя (на основании ценностной системы того общества, к которому принадлежит сам исследователь), он обязан зафиксировать эту важность как «символическую», считаться с ней и учитывать ее в построении собственных интерпретационных систем.
Свои основные идеи Гирц изложил в книге «Интерпретация культур»182. Ранее мы видели, что современный английский этносоциолог Э. Смит назвал по имени Гирца одну из версий «примордиалистского подхода» («примордиализм Гирца»), которая является наиболее конструктивной и оптимальной моделью этносоциологии как таковой.
Кларк Висслер: культурный ареал
Относительно самостоятельную версию культурной антропологии предложил Кларк Висслер (1870–1947), бывший куратором Американского Музея Естественной Истории в Нью-Йорке; он одно время работал вместе с Ф. Боасом и не мог избежать полностью его влияния. Труды Висслера стали источником вдохновения для многих американских и европейских этносоциологов.
Висслер посвятил ряд трудов, получивших признание в научной среде183, индейцам Северной Америки.
Спецификой Висслера была разработка теории «культурных ареалов», с помощью которой он предложил осуществлять этносоциологическое районирование культур и устанавливать между ними асимметричные соответствия. Позднее аналогичный подход получил название «mapping» (от английского «map» — «карта») — составление концептуальных соответствий между различными множествами, представленными как расположенные в пространстве («на карте»). Культурные ареалы Висслер предлагал анализировать перекрестным образом, устанавливая между ними разные типы и формы аналогий.
В теоретической области Висслер настаивал на более строгих формулировках основных антропологических принципов и стремился сделать культурную антропологию более точной дисциплиной с опорой на статистические методы. Культуру он считал «обязательным нормативом», определял как «усвоенное поведение» и предлагал исследовать как «комплекс идей»184.
Маргарет Мид: дети — капиталисты, материалисты, циники
Стоит упомянуть еще ряд последователей и учеников Ф. Боаса, которые внесли существенный вклад в этносоциологию. Ярчайшей фигурой современной антропологии была ученица Ф. Боаса Маргарет Мид (1901–1978), развивавшая определенные идеи кружка «Культура и личность» (особое влияние на нее оказала Рут Бенедикт).
М. Мид занималась полевыми этнографическими исследованиями в Новой Гвинее и на о. Бали, и книги, написанные по их результатам185, стали бестселлерами в мировом масштабе, расходясь немыслимыми для серьезных антропологических научных трудов или этносоциологических исследований тиражами.
Маргарет Мид в своих трудах показала относительность укоренившихся в современном обществе представлений о статусе ребенка, пола, процессах социализации и т. д., которые считались универсальными. На обширном этнографическом и этносоциологическом материале Маргарет Мид показывает, что во многих архаических обществах (и даже в их подавляющем большинстве) мифы, легенды и сказки являются прерогативой взрослых, социально ответственных мужчин, для которых вера в сверхъестественное является неотъемлемой частью их социального статуса. Если взрослый, социально ответственный мужчина перестает верить в мифы, он утрачивает свой статус, становится изгоем и аутсайдером.
Дети же в архаических обществах, напротив, демонстрируют яркие примеры рационализма, скепсиса, материализма и цинизма. Модели детских объяснений причин явлений до прохождения этапа пубертатной инициации отличаются грубостью и прямолинейностью. Если взрослые в некоторых племенах считают рождение младенцев приходом в племя духов предков, то дети, напротив, склонны приписать это сексуальным действиям своих отцов и матерей на брачном ложе. Если взрослые считают обмен предметами символическим актом, необходимым для поддержания баланса мира и означающим, что в ритуале дара/отдаривания надо отдавать столько же (если не больше), сколько получено, то дети архаических племен стараются накопить как можно больше ценных предметов (ракушек, кабаньих клыков или песьих зубов) для себя, а отдать как можно меньше, пользуясь для этого довольно изобретательными ухищрениями, в общих чертах напоминающими стратегии современного капитализма, маркетинга и даже юридических процедур, не известных миру взрослых, живущих по священным правилам «экономики дара».
Такая асимметрия объясняется тем, что дети еще не знакомы с культурой, а поэтому ведут себя подобно современным «цивилизованным» европейцам.
Грегори Бэйтсон: критика монотонных процессов
Мужем Маргарет Мид был некоторое время другой ученик Ф. Боаса Грегори Бэйтсон (1904–1980), оставивший свой след как в этнологии, так и в лингвистике, философии, психологии и психиатрии. Вместе с Маргарет Мид он принимал участие в полевых этнографических исследованиях в Новой Гвинее186, в которых он подробно описал инициатические ритуалы племени ятмул и дал этому явлению подробно анализ в категориях эйдоса, этноса, схизмогенеза. Продолжил он свои исследования на о. Бали187.
Бэйтсон применил этнографические знания и научную программу Боаса в области психологии и лингвистики, выдвинув гипотезу о том, что структуры языка почти полностью программируют поведение человека в социальной среде. На этом принципе он построил свою теорию «двойной связи» («double bind theory»), применимую как в психиатрии, так и в этносоциологическом анализе.
Смысл «теории двойной связи» состоит в следующем: в определенных обстоятельствах человек или социальная группа может получить лингвистическое послание, содержащее в себе логическое противоречие. Это противоречие способно спровоцировать существенный сбой социальной системы или психического баланса личности, т. к. аффектирует внутренние бессознательные структуры психики, составляющие основу культурной матрицы. Так, Бэйтсон выдвинул гипотезу (полностью подтвердившуюся впоследствии), что речевые расстройства родителей могут служить причиной психических расстройств (в частности, шизофрении) у их детей. Получение приказа, сформулированного с нарушением логических установок языка (например: «отойди ко мне поближе», «дай мне вот это, ну эту самую, ну вот то, его, да-да, нет, да вот ее…») может в случае многократных повторений привести к серьезному психическому заболеванию, т. к. соотношение между грамматикой, значениями и смыслом будут расстроены.
На уровне культуры это становится частым явлением, сопровождающим аккультурацию. Архаическое племя агрессивно атакуется более высокой культурой, его ценностями, его семантическими полями, его социальными кодами, что приводит к сбою в функционировании как локальных, так и заимствованных социальных установок. Обобщая, можно сказать, что ускоренная модернизация архаических или традиционных обществ в определенных случаях ведет к установлению патологических систем «двойных связей» (double bind) — к социальной патологии.
Чрезвычайно важны идеи Бэйтсона относительно «монотонных процессов». С его точки зрения, рассудок функционирует в логике «монотонности», т. е., замечая тенденцию к росту, он автоматически продлевает ее в бесконечность, по умолчанию полагая, что рост в настоящем будет продолжаться и в будущем. Законы жизни, напротив, цикличны и реверсивны. В какой-то момент рост заканчивается и начинается умаление, упадок, разрушение. Система то усложняется, то упрощается. Таким образом, разум и его структуры входят в противоречие с особой логикой жизни. Это можно проследить как в обществах, так и в отдельных индивидуумах или природных видах.
Критика монотонных процессов и попытка сформулировать подход, который обобщал бы принципы рационализма и жизненные законы природы188, является главной теоретической заслугой Бэйтсона.
Мелвилл Херсковиц: американский негр как «базовая персональность»
Еще один ученик Боаса Мелвилл Херсковиц (1895–1963) свои полевые исследования сфокусировал на проблеме негров в Америке — как в Северной, так и в Центральной (Карибский регион). Херсковицу принадлежат первые исчерпывающие реконструкции этносоциологических особенностей негритянского населения в Америке, изучение их культур, обычаев, типичных социальных черт. Херсковиц поставил своей целью воссоздать и достоверно описать «базовую персональность» американского негра как нормативной социологической фигуры189.
Тему негритянских обществ Херсковиц продолжил и за пределами Америки, обратившись к исследованию африканских обществ в самой Африке. Исследуя этот вопрос, он сделал несколько фундаментальных открытий в области экономической антропологии, рассматривающей приоритетно взаимосвязь этнических и этносоциальных феноменов со структурами хозяйства и экономическими практиками190.
Проблематика негров в США и в странах Центральной Америки вывела Херсковица на более общую тему социальной аккультурации, влияния одних обществ (как правило, более сложных) на другие (как правило, более простые) с принудительным замещением автохтонной культуры культурой навязанной. Этой теме Херсковиц посвятил отдельный труд191 и коллективный меморандум192, написанный совместно с другими выдающими этносоциологами — Ральфом Линтоном и Робертом Рэдфилдом.
Роберт Рэдфилд: folk-society
Соавтор Херсковица и Линтона Роберт Рэдфилд (1897–1958) внес существенный вклад в этносоциологию за счет своих фундаментальных исследований малых аграрных обществ193. Рэдфилд, как и все культурные антропологи, занимался полевыми исследованиями. Он изучал, в частности, культуру Мексики с акцентом на деревенские поселения194.
Основным объектом его социологических исследований была «крестьянская культура»195. Рэдфилд ввел в этносоциологию ключевое понятие «folk-society». Определение «folk-society» с полным основанием может быть применено к этносу, между этими двумя социологическими категориями можно поставить знак равенства.
Рэдфильд описывает folk-society в следующих терминах:
– люди, составляющие folk-society, очень похожи;
– их нравы и привычки идентичны;
– все члены folk-society обладают сильным чувством взаимопринадлежности;
– folk-society является малым, изолированным сообществом, чаще всего бесписьменным, однородным и с сильным чувством групповой солидарности;
– в folk-society почти нет разделения труда (кроме гендерного);
– субъектами и объектами производства являются семьи;
– folk-society может быть определено как «сакральное общество» (sacred society)196.
Рэдфильд прослеживает судьбу folk-society в более сложных социальных конструкциях. Они могут сохраниться как особые анклавы, полностью ассимилироваться, отправиться в непрерывное странствие (цыгане), оказаться в рабстве и стать «второсортным народом» (негры в Америке), составить сословие крестьян, селян, городских низов, превратиться в колонистов на новых землях и т. д.197
Пол Радин: фигура трикстера
Чрезвычайно важны для культурной антропологии работы еще одного ученика Ф. Боаса Пола Радина (1883— 1953), признанного специалиста в этнографии индейских племен Северной Америки198 и автора книги, ставшей бестселлером, предисловие к которой написал швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг — «Трикстер»199. Радин досконально изучил мифы, предания и ритуалы индейцев виннибаго и на этом основании реконструировал обобщающий тип, встречающийся в мифологиях самых разных народов, который он описал как фигуру трикстера (дословно, «обманщика», «хитреца», «проказника», от английского «to trick» — «обманывать», «хитрить», «обводить вокруг пальца» и т. п.).
Трикстер — это культурный герой, чьи действия всегда амбивалентны, не поддаются однозначной классификации по шкале «добро/зло, правда/ложь, польза/вред» и т. д. Эта фигура чрезвычайно важна, т. к. в ней мы видим матрицу социальной культуры общества в изначальном состоянии, еще до того, как она поднимается на уровень четкого осознания и дифференцированного распределения социообразующих пар.
Юнга эта тема заинтересовала, поскольку в его теории «коллективное бессознательное» предшествует структурированию моральных систем и всегда является в самом себе амбивалентным. Таким же амбивалентным является и наиболее глубокая структура этноса, персонификацией чего и является мифологический трикстер, обнаруженный и концептуализированный Радином.
Радину принадлежит также ряд важных работ по философии200 и религии201 простых обществ.
Мирча Элиаде: вечное возвращение
Огромный вклад в культурную антропологию и этносоциологию внес историк религий румынского происхождения, вторую часть жизни проведший в США и фундаментально повлиявший на американскую социологию и научную культуру — Мирча Элиаде (1907–1986). Элиаде преподавал много лет сравнительное религиоведение в Чикагском университете.
Еще в ранних работах Мирча Элиаде ставил перед собой задачу описать фундаментальные различия между архаическими, традиционными обществами и обществами Модерна. Он изучал древние и современные религии, общества и культуры, стараясь найти наиболее важные признаки, отличающие современную западную культуру от античных обществ самой Европы, а также от обществ Востока. Элиаде пришел к выводу о том, что традиционное общество, даже в том случае, если оно обладает письменной культурой и высокодифференцированной рациональностью, ориентируется на циклическую модель понимания времени и на симметричную гомологию общества и космоса. Современные же общества строятся вокруг концепта линейного однонаправленного времени и на принципе полной ассиметрии между субъектом (культурой) и объектом (природой)202. Таким образом, Элиаде выработал критерии, уточняющие структуру соотношения между социальными моделями с разными парадигмами.
Элиаде посвятил целый ряд книг исследованию мифологии различных народов203; общепризнанным классическим трудом является его работа, посвященная феномену шаманизма204.
Ключевая тема Элиаде заключается в понятии «сакрального»205 (эту же тему в поздний период приоритетно исследовал Э. Дюркгейм). Именно этот фактор составляет уникальность простых обществ, этносов. Сакральность является основным признаком архаики и традиции, а секулярность, изгнание сакральности, «расколдовывание мира» (М. Вебер), напротив, составляет сущность современности. При этом Элиаде настаивает на том, что для корректного понимания архаических обществ и этносов исследователю необходимо осознать и освоить «опыт сакрального», без чего его наблюдения за институтами, обрядами, установками, статусами, ролями, ценностями «примитивного» общества будут не действительны. Сам Элиаде, так же, как и Боас, откровенно симпатизирует архаическим этносам, полагая, что опыт сакрального является тем стержнем, наличие которого не просто уравновешивает архаические общества с современными, но делает их более полноценными, жизненными и состоятельными, чем последние.
Если в начале научной деятельности Элиаде более всего интересовали изощренные мистические теологии — Средневековье, индуизм, буддизм, герметизм и т. д., то в последние годы он все свое внимание сосредоточил на исследовании самых «примитивных» обществ, рассчитывая именно в них найти ключи к природе сакрального, которая в более сложных религиозных системах обрастает огромным количеством рациональных и философских деталей. Последнюю свою книгу «Религии Австралии»206 он посвятил аборигенам этого континента и описанию структуры сакральности в их обществах.
Гарольд Гарфинкель: этнометодология не имеет никакого отношения к этносоциологии
Значительный интерес представляет социологическая теория современного социолога Гарольда Гарфинкеля, получившая название «этнометодологии», которая не имеет отношения ни к этносу, ни к этносоциологии, хотя сама по себе она чрезвычайно интересна и заслуживает внимания с точки зрения ее философского феноменологического метода.
Г. Гарфинкель поставил перед собой фундаментальный философский и социологический вопрос: где концентрируется рациональная составляющая социума — в безличных всеобщих правилах и нормативах или в частных интересах отельных граждан? Что есть социальный разум: общественная догма или алгоритм поведения отдельных индивидуумов?
На этот фундаментальный вопрос две основные традиции в социологии отвечают прямо противоположным образом. Дюркгейм и его школа (а также классическая социология в целом) говорят, что первично «коллективное сознание» и именно общество есть носитель рациональности207, а Вебер и «понимающая социология» (включая классика американской социологии Толкотта Парсонса) настаивают, что источником рациональности общества является индивидуум, ищущий максимальной выгоды в своем эгоистическом проживании отпущенного времени жизни.
Гарфинкель не выносит никакого окончательного суждения в этих вопросах, но предлагает подойти к обществу со стороны обычного человека (в духе социологической феноменологии А. Шюца) и проследить цепочку рациональных действий, оценок, шагов и заключений отдельного индивидуума или отдельной социальной группы в конкретной ситуации. С его точки зрения, рациональность — это то, что выстраивается в процессе поиска конкретным индивидуумом оптимальных путей для решения своих краткосрочных задач. Каждый член общества чего-то хочет в каждый конкретный момент времени. Гарфинкель утверждает, что из этих хотений и действий, направленных соответствующим образом, образуется социальная рациональность. Вот этот подход он и называет «этнометодологией»208.
Возникает вопрос, почему Гарфинкель выбирает такой термин? Ответ состоит в следующем. Классическая социология, как Дюркгейма, так и Вебера, считает, что рациональность, доминирующая в обществе, является довольно дифференцированной и «научной». Это означает, что в качестве образца берутся общества с развитой научной культурой, высокой рефлексией соотношения субъекта (предположение) с объектом (верификация). То есть под «рациональностью» так или иначе понимается «научная рациональность» Нового времени. Гарфинкель же хочет привлечь внимание к иной рациональности — к малой рациональности обывателя, который не испытывает ни малейшей потребности в «научном» анализе своего отношения к миру и довольствуется имеющимися возможностями сознания, сосредоточенными на реализации намеченных задач в конкретном контексте209. Такое общество, состоящее из эмпирических индивидуумов, действующих рационально в зависимости от конкретной ситуации и только для удовлетворения своих прямых желаний и амбиций, он называет «этносом», Для Гарфинкеля «этнос» — синоним ненаучности. Изучение малых рациональностей конкретных людей (на примере социологической аналитики решения присяжных, которой Гарфинкель занимался в юности) и есть суть «этно»-методологии.
Гарфинкель, называющий свой метод социологического исследования (в духе феноменологической социологии Альфреда Шюца) «этнометодологией», приравнивает этнос к ненаучному и донаучному типу общества. Само по себе это утверждение совершенно корректно, т. к. именно этнос является тем простым обществом, которое не затронуто научной рационалистической парадигмой Нового времени. Но на этом адекватность заканчивается, т. к. у этноса, кроме того, что он не имеет научно-рационального измерения, есть еще множество определений, которые Гарфинкеля не волнуют. Он просто сбрасывает в понятие «этнос», как в мусорное ведро, все то, что не обладает качеством научной, «субъект-объектной» рефлексии, и начинает пристально заниматься этим «мусором», социологически сконструированным по «остаточному» принципу.
Любому специалисту, знакомому со сложными структурами этноса, его динамикой, трансформациями и внутренними коллизиями, такой подход покажется неадекватным. Но если учесть историческую ситуацию, в которой работает Г. Гарфинкель, все изменится. В современном американском обществе научная рациональность, а точнее, ее идеологические и пропагандистские производные, настолько возобладали, что представляются самоочевидными. А авторитетные, но доступные лишь интеллектуальной элите США, работы культурных антропологов, остаются уделом закрытых академических кругов. Любой американский (или европейский) обыватель, которого Графинкель в духе своей «этно»-методологии зачисляет в «этнос» (т. е. в сообщество не вполне рациональных людей), считает себя вполне «научным», даже если он прочитал всего пару-тройку научно-популярных брошюр. Поэтому «этнометодология» стала штампом в обществе, где под «этносом» понимается «простота», но не органическая и первоначальная, а «остаточная» и представляющая собой отходы высокодифференцированного общества, его фрагменты, не способные справиться с высоким уровнем дифференциации.
Иными словами, как современный социолог, исследующий феномены общества Модерна и Постмодерна, Гарфинкель чрезвычайно интересен и релевантен, но к этносоциологии его «этно»-методология ровным счетом никакого отношения не имеет.
МакКим Мариотт: американская этносоциология сегодня
Наиболее адекватным современным представителем этносоциологии в США является ученик и последователь Роберта Рэдфилда, современный американский антрополог и социолог МакКим Мариотт. Он сам охотно называет свое направление «этносоциологией», и в данном случае это наименование полностью оправдано, т. к. он изучает этносы (как простые общества, «folk-society» Рэдфилда) социологическими методами с опорой на культурную антропологию школы Боаса (только такой подход и следует интерпретировать как «этносоциологический»).
Мариотт применил концепцию «культурного плюрализма» Боаса к конкретным исследованиям индийского общества, отталкиваясь от «этнического» уровня отдельных деревень. В ходе тщательных полевых работ он пришел к выводу, что для понимания структуры индийского общества мы должны отказаться от европейских критериев и перейти на те формулы, концепты и категории, которые используют в своем обиходе местные жители. Иными словами, он провозгласил, что индийское общество может быть адекватно описано только в индийских категориях210, причем начиная с нижнего уровня — конкретных индийских этнических деревень и поселений211.
Мариотт ставит в своих работах и более серьезные задачи: он предлагает подвергнуть критическому философскому анализу те методы, с помощью которых западные исследователи изучают незападные общества в целом. Он прослеживает характерные для европейского сознания дуальные дихотомии, к которым антропологи и социологи в своем моделировании пытаются свести социальные категории изучаемых этносов, и показывает, что в большинстве архаических культур эти оппозиции не известны, и сама «карта» общества и мира, с которой они оперируют, построена на иных, более сложных и «аналоговых» (а не дигитальных), конструкциях. Мариотт настаивает на том, чтобы антропология и этносоциология стали по-настоящему многополярными, а западные исследователи добровольно сложили бы с себя статус единственного и приоритетного субъекта-наблюдателя, подвергнув свою собственную культуру беспристрастному анализу с позиции других обществ или с особой позиции «метакомпаративистики», когда при изучении культуры в обязательном порядке подвергается анализу сам изучающий и его собственная культура212.
Метакомпаративистская инициатива МакКим Мариотта по философской ревизии базовых инструментов антропологии на новом этапе и в новых условиях доводит до логического предела основные установки культурной антропологии и этносоциологии, восходящие не только к Ф. Боасу, но и к Гердеру.
Рональд Инден: за ликвидацию колониальных штампов в этносоциологии
В этом же ключе работает другой современный американский этносоциолог из Чикагского университета — Рональд Инден. Инден специализируется на Индии и этнических группах, говорящих на языке бенгали213. Начав с полевых исследований некоторых племен Индии, Инден пришел к серии обобщающих теоретических выводов относительно самого метода, который антропология и этносоциология Запада использует при изучении иных, незападных, обществ. С его точки зрения, до сих пор в индологии доминирует колониальный подход, основанный на штампах, имеющих мало отношения к действительности. В своей книге «Воображаемая Индия»214 Инден систематизирует наиболее распространенные западные клише и показывает их несостоятельность.
Так, он показывает, что:
– образ индийского общества в глазах западных исследователей выглядит «женственным»;
– социальная структура представляется жестко «кастовой»;
– типичный пейзаж воспринимается как «джунгли»;
– типичное поселение ассоциируется с «малой деревней»;
– коллективное сознание воображается чисто иррациональным;
– религиозный культ мыслится как доминирующий;
– а Индия в целом представляется как антитеза Западу.
Инден внимательно разбирает каждое из этих утверждений и демонстрирует, что:
– гендерные сценарии в Индии скорее патриархальны, хотя форма нормативной маскулиноидности отличается от европейской и имеет множество вариантов и нюансов даже в индоевропейских группах, а тем более среди дравидских этносов;
– кастовый принцип не действует на уровне официальной политики, а на уровне малых социальных и этнических групп встречаются многообразные формы его смягчения и модификации, так что говорить о доминации «кастовой системы» является откровенной натяжкой;
– ланшафты Индии чрезвычайно разнообразны, а джунгли не только не единственный, но даже и не преобладающий пейзаж;
– наряду с деревнями сегодня существуют огромные современные мегаполисы;
– индийская философия и ее многообразные разновидности представляет собой вершину рационализма, хотя и качественно отличного от западноевропейского рационализма, а в современном индийском обществе можно встретить самые разнообразные формы мышления — в том числе модернистские и постмодернистские;
– религиозный пейзаж Индии настолько многообразен, что требует особого рассмотрения, поскольку в рамках единого общества можно встретиться как с систематизированными и теологически разработанными версиями, так и с архаическими формами, а также с секулярным мышлением;
– в целом, Индия и ее общество, качественно отличаясь от обществ западных, не представляет ему прямой антитезы, и напротив, некоторыми своими деталями — сосредоточенностью на проблеме «высшего я», критическим отношением к окружающему миру (как к майе) — сближает индусов с европейским индивидуализмом (в его метафизических предпосылках).
Инден доказывает, что необходимо качественно изменить отношение западных исследователей к незападным обществам, отказаться от преобладающих стандартных паттернов и научиться понимать «других» так, как они сами себя понимают.
Все сказанное об Индии в полной мере относится ко всем остальным незападным обществам. Таким образом, современная американская этносоциология на новом витке обращается к изначальной программе Ф. Боаса и германской этносоциологии, настаивавших на отказе от евроцентризма и глубинном вживании в изучаемые этносоциальные системы.
Резюме американской культурной антропологии
Если суммировать общее направление американской культурной антропологии, мы получим почти законченную научную программу этносоциологии, выделяющую основные моменты этой дисциплины. То, направление, которое сформулировал в своих работах Ф. Боас, было и остается основной линией научных исследований его школы.
Этносоциология как наука целиком и полностью основывается на фундаментальных принципах научной концепции Ф. Боаса и его школы, которая предопределяет облик всей американской антропологии ХХ в.
Сформулируем еще раз ее главные положения:
– радикальное отвержение всех форм расизма (биологического, эволюционистского, технологического, культурного и т. д.);
– признание дифференциального равенства всех типов общества (простых и сложных, примитивных и высоко дифференцированных);
– постижение общества как цельного феномена, суждения о котором могут выноситься только изнутри него;
– непереводимость культур, языков, этносов и обществ (смысл хранится в языковом смысловом контексте).
§ 3. Английская школа этносоциологии. Социальная антропология. Функционализм. Эволюционизм.
Английский эволюционизм
Английская, как и американская, антропология развивалась изначально на основании прямолинейного эволюционизма. Крайнюю разновидность эволюционизма называют «ортогенезом», от греческих корней «ορθο-» — «прямой» и «γενεσις» — «происхождение». Ортогенез утверждает, что эволюция живых видов имеет заведомо заложенную цель и следует в своем развитии прямой логике — переходу от простого к сложному. Проецируя ортогенез на общество, мы получаем социал-дарвинизм как идею того, что все общества движутся от архаических и примитивных форм в сторону современных технологических и индустриальных обществ Модерна, хотя это движение у разных обществ идет с разной скоростью, при том, что различие скоростей определяется лишь влиянием преград и препятствий как природного, так и социального характера.
Подход, основанный на ортогенезе, традиционно свойственен большинству английских антропологов и социологов.
Ранее говорилось о теориях Герберта Спенсера, построившего на радикально понятой эволюции теорию «социал-дарвинизма». В этом же ключе строились исторические и социологические концепции и других английских антропологов и социологов конца XIX в.
Эдвард Тейлор: эволюционные ряды культуры и анимизм
На эволюционистских позициях стоит английский антрополог Эдвард Тейлор (1832–1917), создатель эволюционистской теории культуры и автор классического труда «Первобытная культура» 215. Тайлор считает, что все общества развиваются через «совершенствование» социальных институтов и систему образования. С его точки зрения, по мере «прогресса» общества старые институты, обычаи и верования отмирают, когда теряют функциональное значение в новых обществах. Поэтому все формы культуры и, в частности, религии, встречающиеся в архаических обществах, которые Тейлор называл «детскими», либо являются зародышем соответствующих инстанций в современных обществах, либо вообще не имеют значения.
Тейлор выстраивал генетические ряды различных аспектов общества — институтов, обычаев, ритуалов и т. д.; в основе каждого ряда были простейшие «первобытные» формы, постепенно усложнявшиеся вплоть до их современных версий. По Тейлору, алгоритм эволюции заложен в саму структуру человеческого поведения, поэтому разные этносы проходили в своем развитии, независимо друг от друга, одни и те же стадии. К каждому следующему шагу общества подталкивали объективные и вполне конкретные групповые интересы.
Тейлор старался выявить в архаических обществах минимальные, простейшие формы религиозных, социальных, политических и экономических институтов — стартовые позиции историко-генетических рядов. Так, в области религии он пришел к теории «анимизма», т. е. смутных первобытных представлений о том, что окружающий мир полон «духами» или «душами», которые делают его «живым»216.
Джеймс Джордж Фрезер: фигура сакрального царя
Другой знаменитый английский антрополог-классик Джеймс Фрезер (1854–1941), разделявший эволюционистский подход (он также прослеживал генетические ряды, этапы эволюции по линии «магия–религия–наука»), интересен прежде всего огромным материалом, касающимся магических и религиозных представлений архаических обществ, методический анализ которых представлен в его знаменитой книге «Золотая ветвь» 217. В ней Фрезер исследует ряд архаических обрядов, связанных с «королем года» или «королем леса», привлекая для своего анализа материал из разных культур этносов земли.
Фигуру «сакрального короля», чьи функции не имели никакого политического измерения, но были связаны лишь с выполнением определенных ритуалов (таких, как «вызывание дождя»), Фрезер находит в европейской древности (у римлян, греков, германцев), а также у архаических народов сегодня — в Африке, Азии, Латинской Америке, Тихоокеанском регионе. Вокруг института «сакральных царей» выстраиваются ряды обрядов и мифов, символов и социальных институтов, игравших важную роль в древних обществах.
Фрезер исследует связь ритуала и магических представлений, убедительно разрешает ряд загадок из сферы фольклора, которые ранее ставили антропологов в тупик.
Книга Фрезера «Золотая ветвь» появляется в фильме Френсиса Копполы «Апокалипсис сейчас», в котором на материале войны США во Вьетнаме иллюстрируется стержневой сюжет книги Фрезера — о «короле Немейского леса».
Большим значением обладают исследования Фрезера в сфере архаических пластов в Библии, которые он разбирал и систематизировал в книге «Фольклор в Ветхом Завете»218.
Бронислав Малиновский: функционализм и социальная антропология
Поворот в английской антропологии произошел вместе с появлением в Англии эмигранта из Польши Бронислава Малиновского (1884–1942), радикально изменившего ситуацию в этой сфере, подобно тому, как Франц Боас круто повернул развитие американской антропологии. Школу Б. Малиновского принято называть «социальной антропологией», но по основным своим параметрам она практически тождественна немецкой этносоциологии (Р. Турнвальд, В. Мюльман) и культурной антропологии (Ф. Боас и его ученики).
Малиновский отвергает эволюцию и ортогенез, настаивает на приоритетности полевых исследований (он ввел понятие «включенного наблюдения»), отрицает расовый и генетический фактор как значимые формы социологического объяснения, отказывается иерархизировать общества по эволюционному или расовому признаку, т. е. выступает практически с прямым аналогом научной программы Турнвальда или Боаса.
Полевые работы Малиновского посвящены в первую очередь Тихоокеанскому региону219 и Меланезии220 и остаются до сих пор наиболее авторитетными исследованиями по архаическим обществам этой части Света.
Малиновский называл свой метод «функционализмом». Сущность его состояла в том, что любое культурное и социальное явление (обряд, символ, обычай, институт и т. д.) Малиновский предлагал объяснять через его функцию, которая должна была рассматриваться в первую очередь, в отличие от формы, названия, происхождения т. д. Функция составляет семантику культуры, утверждал Малиновский221.
Многообразие обществ, языков, символов, культурных комплексов, по Малиновскому, следует понимать не как разные стадии эволюции (вопреки эволюционистам), не как переплетение маршрутов распространения «культурных кругов» (вопреки диффузионистам). Этим многообразием мы обязаны тем, что разные общества в разных ситуациях по-разному отвечают на одни и те же вызовы. Если восстановить структуру вызова и структуру ответа (а это и есть функция), то мы существенно сократим объем разрозненного этнографического материала и поймем логику рассматриваемых обществ. Этот принцип Малиновский применил к изучению религиозных воззрений примитивных народов, а также к области родства. В сфере исследования сексуальной жизни и организации систем родства у племен Тихоокеанского региона (в частности, жителей Тробриандских островов) Малиновский применил некоторые идеи Фрейда222, введя тем самым психоанализ в социальную антропологию.
Задачу антрополога Малиновский видел в том, чтобы спасти многообразие человеческих культур от вестернизации и исчезновения в условиях планетарной доминации Запада. Процессы аккультурации стремительно уничтожают самобытность архаических народов и тем самым обкрадывают человечество, лишая его языкового, этнического и культурного богатства. Антрополог же должен, как минимум, сохранить память об этом разнообразии и, как максимум, привлечь внимание к ценности и уникальности каждого этнического общества, остановив процесс их уничтожения.
Альфред Рэдклифф-Браун: социальные структуры
Наряду с Малиновским огромный вклад в становление социальной антропологии внес английский ученый Альфред Рэдклифф-Браун (1881–1955). Он собирал этнографический материал на Адамановых островах и в африканских обществах, изложив затем собранный за время экспедиции материал в классических трудах: «Жители Адамановых островов»223, «Африканские системы родства и брака»224 и др.
Так же, как Малиновский, Рэдклифф-Браун отвергал эволюционизм и диффузионизм и акцентировал изучение социальных функций. На него решающее влияние оказали идеи Дюркгейма, и он предполагал в качестве главной задачи применить строгие критерии социологического метода к этносам и архаическим обществам. При этом основной операцией, которая позволяет систематизировать хаотические данные о примитивных обществах, он считал структурное сравнение — компаративный метод. Рэдклифф-Браун прочно связал этнографию и социологию в единую научную дисциплину — этносоциологию (хотя сам этого термина не использовал).
Согласно Рэдклиффу-Брауну, в центре внимания должны находиться социальные отношения, совокупность которых составляет социальную структуру225. Понятие «социальной структуры» является ключевой для «социальной антропологии» в целом. Социальная структура есть теоретическая конструкция, основанная на изучении, наблюдении, описании и анализе социальных отношений, которые представляют реальность общества. Каждое общество обладает особой социальной структурой, которая способна к внутренним изменениям, но на всех этапах сохраняет определенные неизменные черты. Социальная антропология призвана прослеживать изменения социальной структуры общества, фиксировать влияние одной социальной структуры на другую, а также выстраивать различные классификации социальных структур на основе компаративного метода226.
Мейер Фортес: социология африканского времени
Английский антрополог, родившийся в Южной Африке, Мейер Фортес (1906–1983) был последовательным функционалистом и продолжателем дела Бронислава Малиновского. Типовые структурные модели классификации африканских обществ, принятые в современной этнологии, разработаны им в серии классических работ, посвященных этносоциологии Африки227. Наиболее известной среди них является «Эдип и Иов в религиях Западной Африки»228.
Мейер Фортес специальное внимание уделял проблеме социологии времени у архаических этносов. Его реконструкции темпоральных паттернов у архаических народов стали классическими в этносоциологии. Исследования, посвященные этой проблеме, М. Фортес изложил в работе «Время и социальные структуры»229.
Как и остальные социальные антропологи, Фортес был убежден, что в структуре общества доминируют безличные сверхиндивидуальные парадигмы, предопределяющие поведение отдельных членов и постоянно воспроизводящиеся — в том числе через модели «замкнутого самого на себя времени».
Эдвард Эван Эванс-Причард: трансляция культур
С Мейером Фортесом тесно сотрудничал в африканских исследованиях другой известный британский социальный антрополог Э.Э. Эванс-Причард (1902–1973). Совместно они выпустили классический труд «Африканские политические системы»230. Эванс-Причард посвятил африканским этносам целый ряд работ231, где он продемонстрировал эффективность функционального и структуралистского подхода. Большое внимание он уделял и этно-экологии. Эванс-Причард реконструировал основные социальные и политические формы африканских обществ, выстроив из разрозненных, казавшихся экзотическими для европейцев данных стройные и ясные концепции и классификации типов на основе компаративистских методов232. Аналогичную работу он провел и с выяснением архаических структур африканских религий233.
Эванс-Причард поставил под сомнение принадлежность социальной антропологии к области естественных наук и предложил относить ее к историческим, гуманитарным наукам или к тому, что немецкий философ Дильтей вслед за Шлейермахером назвал «духовными науками» («Geistwissenschaften»). Эванс-Причард указал также на то обстоятельство, что теории происхождения религии и ее толкование у архаических этносов в значительной степени зависит от того, является ли верующим сам ученый. Если он атеист, он склонен толковать религию психологически, прагматически или социологически. Если он верующий, то уделяет больше внимания философской стороне и формам осмысления мира и человека в архаических религиозных традициях. При этом Эванс-Причард подчеркивал (в духе Боаса), что культура самого антрополога может полностью исказить описание той культуры, которую он изучает, приписав людям и группам мотивации, импульсы и смыслы, не имеющие ничего общего с реальностью.
В последние годы Эванс-Причард несколько отступил от классического функционализма Малиновского и Рэдклифф-Брауна и сосредоточил свое внимание на проблеме «трансляции культур», пересмотрев общее для этой школы негативное отношение к диффузионизму. Концепцию «трансляции культур» можно рассматривать как смягченную и современную форму «теории культурных кругов».
Макс Глюкман: социальная динамика
В том же направлении, что М. Фортес и Э.Э. Эванс-Причард, работал также известный британский антрополог, родившийся, как и М. Фортес, в Южной Африке Макс Глюкман (1911–1975), ключевая фигура в Манчестерской школе социальной антропологии. Основы этой школы заложил Мейер Фортес, а Глюкман развил его теории, придав им стройность и законченность.
Глюкман специализировался на этносах Африки, ставя акцент в своих исследованиях на их правовых традициях, на связи обычаев и законов, а также на правовом значении обрядов и ритуалов. Эти темы он исследовал в работах «Обычай и конфликт в Африке»234, «Порядок и восстание в племенной Африке»235, «Политика, закон и ритуал в племенном обществе»236 и т. д.
Основным направлением Макса Глюкмана в теоретической области было совершенствование функционализма и структурализма, свойственных социальной антропологии в целом, с точки зрения более тщательного описания динамической составляющей и построения моделей социальной динамики.
Эдмонд Лич: модель гумса/гумлоа
Крупнейшим британским антропологом, сформировавшимся под влиянием идей Бронислава Малиновского, но позже решившим пересмотреть основные моменты функционализма, был Эдмонд Лич (1910–1989).
Лич изучал преимущественно архаические этносы Бирмы, Шри-Ланки и Цейлона237, исследуя их правовые и политические системы, а также социальную стратификацию. На примере населения двух деревень он сформулировал критику теории функционалистов о том, что любое общество тяготеет к равновесию. Вместо этого Лич продемонстрировал примеры общественных систем, которые постоянно находятся в «нестабильном равновесии» с непрерывным колебанием социальных паттернов. Теория Лича получила название «модели гумса/гумлоа»238.
Две группы архаического этноса качина, проживающие в деревнях, расположенных недалеко друг от друга, имели две социологические модели политического устройства с ярко выраженными признаками. Система гумса была жестко иерархической, патриархальной, с кастовыми признаками и особым языком аристократии. Система гумлоа, напротив, была радикально эгалитарной, без намеков на социальную стратификацию. Исследуя их соотношения, Лич показал, что эти системы находятся в постоянной динамике, вызванной в обоих случаях различными причинами: «феодальная» система гумса постоянно подвергалась нападкам подавляемых элементов, которые пытались расширить свои полномочия и расшатывали социальное равновесие, а эгалитарная система гумлоа испытывала кризис за кризисом в силу хаотической и неупорядоченной организации. По заключению Лича, обе системы не являются фиксированными и равновесными, но постоянно видоизменяются — вплоть до вероятной смены социальной матрицы на прямопротивоположную под воздействием внутренних и исторических причин.
Эта концепция предполагает «обратимость» (реверсивность) социальных явлений и в этом смысле полностью вписывается в уточненный этносоциологический подход.
С другой стороны, Лич в ходе критического переосмысления функционализма239 предлагает перенести внимание на индивидуум и его действия внутри этноса, которые, по Личу, и являются причинами социальной динамики. Этот момент радикально противоречит дюркгеймовской социологии, культурной и социальной антропологии и этносоциологии и, вероятно, представляет собой проекцию современного западного индивидуализма на архаические общества. В этом последнем, наиболее спорном, выводе Лича можно увидеть подготовку к инструменталистскому подходу в этносоциологии, причем примененному в некорректной ситуации.
Концепции Лича предвосхищают собой постмодернистские теории — в частности, «социологию сетей» и «теорию рационального выбора малого актора» (индивидуума) при анализе структуры социального поведения.
Лич известен также критикой теорий Клода Леви-Стросса и предложенной им альтернативной теорией родства240.
Эрнест Геллнер: от «Аграрии» к «Индустрии»
Особого внимания заслуживают работы философа Эрнеста Геллнера (1925–1995), который сочетал в своих исследованиях методы антропологии, социологии и философии и пришел к чрезвычайно важным для всей структуры этносоциологического знания теоретическим выводам.
Геллнер занимался полевыми исследованиями в Северной Африке и был специалистом по исламскому обществу241. В Кембридже он заведовал кафедрой антропологии, а в Лондонской Школе Экономики — кафедрой философии.
Геллнер является автором философского труда «Слова и вещи»242, в котором он подверг жесткой критике идеи позднего Людвига Витгенштейна о том, что «смысл» рождается из «языковых игр» того общества, в котором существует дискурс243.
В своей программой книге «Плуг, Меч и Книга: структура человеческой истории»244 он описывает свое видение исторического процесса, в котором выделяются три социальные формы — общества охотников/собирателей, аграрные (Agraria) и промышленные (Industria). Каждому типу общества соответствует своя социологическая парадигма, свой тип культуры, набор смыслов и ценностей, свои мотивации, антропологические установки и т. д. Геллнер выделяет три основных критерия: «мышление» («cognition»), «совместное действие» («coercion») и производство («production»). Они связаны непосредственно между собой разнообразными отношениями и составляют единую матрицу, все параметры которой меняются от общества к обществу.
Специфика подхода Геллнера состоит в том, что он подчеркивает прерывность, диконтинуальность между этими обществами, что и позволяет рассматривать их как строго отдельные социологические концепты. Особенно при этом Геллнера интересует фазовый переход от «Аграрии» к «Индустрии», как он называет идеальные модели выделенных им обществ.
Взгляд на историю Геллнера не является эволюционистским, но не разделяет релятивизм функционального подхода социальной и культурной антропологии. Он приписывает эпохе Просвещения и ее науке статус «универсальной» методологии, способной четко и объективно рефлектировать то, что иные типы обществ воспринимают субъективно, а потому пристрастно. Стиль книг Геллнера идеологичен и агрессивен, но предельно ясен. Геллнер был жестким противником СССР и закончил свои дни преподавателем Центрально-Европейского Университета, организованного известным американским спекулянтом Джорджем Соросом.
Геллнера по праву считают основателем конструктивистского подхода в этносоциологии и неоспоримым авторитетом в области изучения феномена национализма. Его программная работа, посвященная проблеме национализма — «Нации и национализм»245 — -является классической.
Основная идея Геллнера заключается в том, что феномен «нации» является субпродуктом индустриального общества и искусственно создан буржуазией для упорядочивания политико-социальных структур в условиях парламентской демократии после ликвидации феодальных и монархических сословных режимов (с крестьянской доминантой в сфере хозяйства). Концепт «нации», показывает Геллнер, возникает в Новое время в условиях бурного развития промышленного производства, усиления роли городов, распространения современных научных представлений, секуляризации населения и перехода к рациональности, свойственной индустриальному обществу246. В условиях индустриального общества складывается новая модель социальной и политической антропологии, основанной на индивидуальной (а не на сословной) идентичности. Эта индивидуальная идентичность охватывает постепенно все более широкие слои общества и становится политическим нормативом демократии. При этом распадаются механизмы сословного управления, общество атомизируется.
Чтобы сдержать нарождающийся хаос, сохранить управление и мобилизовать атомизированное население, буржуазия изобретает политический инструмент — нацию и национальное государство — который сдерживает гражданское общество от распыления и выступает как суррогат коллективной идентичности, на этот раз искусственный и политически навязываемый. Методом консолидации нации Геллнер считает «национализм», который, по его мнению, есть нейтральный феномен, служивший буржуазии в исторических условиях для консолидации новой формы политической власти и проведения необходимых реформ — экономики, социального взаимодействия и массового сознания.
При этом Геллнер демонстрирует, что в основе «нации» и «национализма» лежит заведомо ложная идея установления фиктивной генеалогии современных европейских буржуазных наций и древних этносов и народов, принадлежащих к иным социологическим моделям. Нации не имеют никакого отношения к этносам, они созданы в иных социальных и исторических условиях и по иному алгоритму.
Различие между нацией и сельскими общинами, представляющими большинство населения в Средневековье, т. е. между «Индустрией» и «Аграрией», состоит в отношении к письменной культуре и языку как таковому. В «Аграрии» книжная грамотность является прерогативой только высших слоев, а массы живут в условиях оральной передачи знания. Поэтому в «Аграрии» существует универсальный язык знати, «койне» (например, латынь в Западной Европе в эпоху Средневековья) и множество этнических языков и диалектов, свойственных сельским областям. А в «Индустрии» образование становится общенациональным и происходит создание искусственного языка, знание которого необходимо для всех членов общества. Этот язык Геллнер называет «идиомой»247.
Очень важен анализ Геллнера формирования наций на основе полиэтнических сословных государств. В этих государствах существовало два типа социальных барьеров: межсословные (между дворянством и простолюдинами) и территориальные (между поселениями). При этом разделение труда по экономическому признаку было незначительным. При переходе к «Индустрии» общество одновременно становится однородным и разделяется по сфере занятий, которые, в свою очередь, привязываются к экономическому фактору, давая начало развитию классовой дифференциации (то есть социальной стратификации, основанной на экономическом принципе). Здесь и возникают нации и феномен национализма248. При этом Геллнер воссоздает процесс распада и переконфигурации общества в этом фазовом переходе как выявление в старых границах государства двух типов национализма, которые он называет «Мегаломания» и «Руритания».
«Мегаломания» — это образование нации, основанной на доминирующей культуре в пред-индустриальном государстве. В ней за основу берутся культура и язык элиты и перерабатываются в интересах третьего сословия. Но формализация нации и сопутствующий ей национализм наносит удар по периферийным регионам прединдустриального типа, часто социально и этнически отличным от ядерной культуры. Так возникает феномен «Руритании», т. е. «сельской» периферии бурно складывающихся национальных государств, которая может выдвинуть контрпроект и попытаться создать контрнацию (например, выделившись из состава нового национального государства). Так возникает «малый национализм» «Руритании», противостоящий «большому национализму» «Мегаломании». Это видно на многих примерах: в частности, в судьбе Австро-Венгерской империи, распавшейся именно по этому признаку — Австрия стала нацией «Мегаломании», а Венгрия, Югославия, Чехословакия, Румыния были ответными контрпроектами «Руритании». Оба национализма, и «большой» и «малый», имеют место только при переходе к «Индустрии», т. е. связаны с буржуазными реформами, изменением базовой парадигмы общества и являются искусственными процессами, направляемыми интеллектуальной и экономической элитой. Во всех случаях «нация» — это искусственный конструкт, созданный (концептуально) на пустом месте.
Этот анализ Геллнера в своих основных чертах принимается этносоциологией и является главным концептуальным инструментом для анализа нации, национализма и сопутствующих им феноменов.
Бенедикт Андерсон: нация как воображаемая общность
Конструктивистский метод Геллнера в трактовке феномена нации продолжил современный этносоциолог Бенедикт Андерсон. Его книга с названием «Воображаемые общности: размышления о причинах и распространении национализма»249 стала авторитетным трудом, суммирующим (даже в названии) основные положения конструктивистского подхода.
В качестве этнографического примера Андерсон опирается на этносы Индонезии, которые он досконально изучал с этносоциологической точки зрения250.
Так же, как и Геллнер и все остальные конструктивисты («модернисты»), Андерсон рассматривает феномен наций и национализма как буржуазное изобретение и связывает это напрямую с книгопечатанием, которое создало технические предпосылки для внедрения «идиомы» (национального языка) в масштабе всего общества. Андерсон вводит термин «печатный капитализм» (print-capitalism), который акцентирует центральное значение книгопечатания для осуществления фазового перехода от аграрного и сословного к национальному укладу.
Андерсон называет нации «воображаемыми общностями» и задается вопросом, «что же их впервые вообразило»? На это он дает интересный ответ. С его точки зрения, впервые нации возникают не в самой Европе, а в европейских колониях — в США и некоторых государствах Южной Америки. И лишь затем тип организации общества по модели нации приходит в Старый Свет, который имитирует социально-политические процессы своих заокеанских колоний251.
Джон Брейи: автономия нации
Конструктивистского подхода придерживается последователь Геллнера, профессор Лондонской Школы Экономики историк и этносоциолог Джон Брейи. Джон Брейи считает, что национализм стал разрабатываться в первой фазе Нового времени и изначально был призван компенсировать нарастающую отчужденность между абсолютной монархией (все более опирающейся на третье сословие) и периферийными массами, выводимыми из привычного аграрного жизненного цикла экономической и технологической модернизацией252.
Отчуждение возникало в силу изменения традиционного уклада, краха христианских ценностей и сословных порядков. Абсолютизм утрачивал свое сакральное значение и переставал быть легитимным в глазах аграрных масс. Во время Французской революции это обстоятельство получило крайние формы, т. к. социальные нововведения требовали компенсирующих мобилизационных стратегий, откуда и возник крайний национализм якобинцев.
Брейи отрицает какую бы то ни было связь национализма и нации с этно-культурным типом и считает, что эти явления полностью сконструированы в силу политической потребности государством и обслуживающими его интеллектуалами253.
Эли Кедури: искоренение национализма
Среди современных конструктивистов следует выделить Эли Кедури (1926–1992), который, будучи рожденным в Ираке в семье иудеев-традиционалистов, отличался радикально критическими взглядами в отношении национализма254. Он полагал, что национализм был продуктом разочарованных маргиналов, которые разрабатывали утопические проекты на основании филологических исследований и изучения фольклора, воссоздавая идиллические картины «народной жизни», которые должны были быть взяты за образец для построения лучшего (более «просвещенного») общества.
Кедури считал, что Великобритания, сделавшая в свое время ставку на арабский национализм, заложила на Ближнем Востоке мину замедленного действия и вместо того, чтобы контролировать этот регион на основе просвещенных и гуманных ценностей под эгидой имперского контроля, отдала его на растерзание темным фундаменталистским страстям255.
Считая национализм искусственным явлением, Кедури призывал к его полнейшему искоренению.
Энтони Д. Смит: этносимволизм
Среди современных этносоциологов следует особо выделить профессора Лондонской Школы Экономики Энтони Д. Смита. Э. Смит был учеником Э. Геллнера, но несколько пересмотрел модель объяснения Геллнером феномена нации. Соглашаясь с конструктивистами, что нация — это современный феномен индустриального общества эпохи Модерна, Смит подчеркивает, что в основе нации лежат одновременно и технология буржуазии, приходящей к власти, и обращение к «этносу», на основании которого нация создается256. Если Геллнер, Андерсон, Брейи или Кедури утверждают, что нация создается на пустом месте, то Смит им возражает — не совсем на пустом, в этом процессе принимает участие этнос, пусть и в снятом виде. У нации есть предшествующая форма, «пред-нация», которая имеет этнические черты257.
На этом основан «этносимволизм» Э. Смита, который с ним разделяют такие современные этносоциологи, как Монтсеррат Губерно258, Джон Армстронг259, Джон Хатчинсон260 и т. д.
Смит определяет этносимволистский подход следующим образом: «Для этносимволиста национализм черпает свою силу из мифов, воспоминаний, традиций и символов этнического наследия и этнических преданий; и это народное живое прошлое («living past») (курсив Э. Смита) становится и может стать в будущем основой для открытия и переинтерпретации его модернистской интеллигенцией»261.
Энтони Гидденс: двойная герменевтика не является этносоциологией
Иногда в качестве представителя этносоциологии называют известного английского социолога Энтони Гидденса. Авторские работы Гидденса в основном посвящены теоретическим проблемам современной социологии, и в этой сфере он является признанным авторитетом. Но непосредственно к проблеме этноса или социальной антропологии они имеют опосредованное отношение, т. к. Гидденс приоритетно этой проблематикой не занимался и не имеет трудов, посвященных архаическим обществам, этносам или генезису современных наций. Там же, где эти темы рассматриваются, они являются частью его общего социологического подхода262.
Зачисление Гидденса в «этносоциологи» основано на статье испанского социолога Пабло Санторо263. Гидденс же ссылается лишь на этнометодологию Гарольда Гарфинкеля, предлагая совмещать социологическое толкование общества снизу, от простых индивидуальных единиц (как Гарфинкель и феноменологи), и сверху, с позиции обобщающих структур исследования классической социологии. Это он называет «двойной герменевтикой». Такой подход он использует для исследования проблемы самоидентичности в обществах Модерна264.
Поскольку, как мы показали, этнометодология, будучи сама по себе продуктивным и важным социологическим методом, ровным счетом никакого отношения к проблеме этничности, к этносу и его производным не имеет, то двойная «герменевтика», в понимании Гидденса, никак синонимом «этносоциологии» выступать не может.
Резюме английской социальной антропологии, исследований нации и этносоциологии
Антропологические исследования в рамках английской школы, особенно начиная с Бронислава Малиновского и Рэдклиффа-Брауна, когда они тесно сомкнулись с функционалистской традицией Дюркгейма и обращением к социальным структурам, представляют собой широкое концептуальное и проблемное поле, а также развернутую научную программу этносоциологических исследований, основной стиль которых — при всем многообразии позиций, школ и авторов — в целом соответствует генеральной линии американской культурной антропологии и немецкой этносоциологии.
Особое значение имеет конструктивистское направление, начатое Э. Геллнером, которое вносит в изучение обществ существенную поправку, связанную с искусственной и прагматической функцией явления нации и национализма как политических инструментов класса, государства, элит и общества.
Этносимволизм Э. Смита расширяет зону изучения феномена нации с отсылкой к тем этническим элементам, на которых исторические нации были искусственно построены.
Благодаря английской школе социальных антропологов и этносоциологов этносоциология в целом получает широкий набор методов, подходов, инструментов, концепций, терминов и теорий, а также богатейший материал полевых исследований самых разных этнических обществ и наций — как в Европе, так и в других частях света.
§ 4. Французская школа этносоциологии. Классики социологии. Структурная антропология
Эмиль Дюркгейм: социальные факты и дихотомия сакральное / профанное
В качестве прямых предшественников этносоциологии во Франции следует назвать прежде всего классика социологии Эмиля Дюркгейма (1858–1917), превратившего социологию в строгую академическую науку и добившегося ее признания во Франции и в континентальной Европе. Дюркгейм основал регулярное издание сборника «Социологический год» («Annesociologique»), где публиковали свои труды все видные социологи, этнологи и антропологи Франции.
Дюркгейму принадлежат основополагающие теории в социологии: «социальный факт», интерпретированный Дюркгеймом в социологических понятиях, отбрасывает объяснение общества и его феноменов через иные (физические, биологические и т. д.) срезы реальности. Общество является тотальным явлением и несет в самом себе ключи к познанию как самого себя, так и всего, имеющего к нему прямое и непосредственное отношение. Как в естественных науках наличествуют строгие критерии, основанные на законах физического мира, так в социальной области существуют строгие критерии и законы, которые Дюркгейм призывал открывать и исследовать265.
Так, Дюркгейм выдвинул базовую для социологии идею о наличии «коллективного сознания», которое является предопределяющим для индивидуального сознания члена общества и первичным по отношению к нему. Другим важнейшим термином социологии стало введенное Дюркгеймом понятие «коллективных репрезентаций» («коллективных представлений»).
Рассматривая различные типы обществ, Дюркгейм предложил классифицировать их по форме солидарности — у простых этносов эта солидарность является «механической» (т. е. полной и автоматической), а у сложных «органической» (т. е. включающей элемент сознательного волевого действия интеграции и социализации).
Идеи Дюркгейма оказали колоссальное влияние на европейскую науку в ХХ в., повлияли на становление антропологии (особенно английской) и вошли неотъемлемой частью в этносоциологию.
Показательно, что в последние годы жизни Дюркгейм сосредоточил свое внимание на проблемах «примитивных» этносов, и хотя сам он не принимал участия в полевых исследованиях, его теоретические обобщения обладают огромной ценностью для этнологии. Последняя работа Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни»266 вполне может быть названа образцом этносоциологического исследования. В этой работе Дюркгейм основывается на этнографических исследования обществ австралийских аборигенов.
Огромным значением обладает введение Дюркгеймом дихотомии «священное» («сакральное») – «профанное» в модели изучения обществ (особенно архаических) 267. С помощью этой пары понятий, где «священное» («сакральное») характеризует отдельные практики, ритуалы, институты и процессы, связанные с духовными, мистическими, иррациональными сторонами жизни, а «профанное» (или «профаническое») — с повседневными, рутинными, прикладными, обыденными сторонами, можно достоверно описать структуру любого общества.
Важно заметить, что внутри самого сакрального Дюркгейм различает два полюса: чистый и нечистый, или «правое сакральное» и «левое сакральное». Правый полюс сакрального обобщает все то, что является благом, светом, добром, наполнено возвышенными позитивными коннотациями. Это напоминает понятие «святости». Но есть в сакральном и противоположный полюс, который воплощает в себе нечистоту, агрессию, ужас, смерть. Это измерение также видится как нечто сверхъестественное (в отличие от профанного), наделенное высшими силами и способностями, но только с отрицательным знаком. У архаических культур «добрые» и «злые» духи в равной степени сакральны, хотя одни несут добро, а другие — зло. Остатки таких древних представлений можно встретить в христианской религии, где утверждается существование и ангелов, и бесов, а также поясняется, что сатана и демоны изначально были сотворены Богом как ангелы (причастность к сакральному в целом), но позднее по собственной воле избрали зло и превратились в то, чем с тех пор и являются (левый полюс сакрального).
Если применить дуализм сакральное/профанное к цепочке обществ, с которыми оперирует этносоциология, то можно заметить следующее:
– в этносе доминирует сакральное;
– в народе существует баланс между сакральным и профанным;
– в нации профанное доминирует над сакральным;
– в гражданском обществе и глобальном обществе сакральное полностью изгоняется и остается только профанное;
– о постобществе точно сказать ничего нельзя, но гипотетически можно предположить, что в нем мы будем иметь дело с «псевдо-сакральным», т. е. с симулякром сакрального.
Марсель Мосс: социология дара
Учеником и последователем Дюркгейма был его племянник Марсель Мосс (1872–1950), который развивал его идеи, но в основном продолжил именно то направление, на котором Дюркгейм сосредоточился в последние годы жизни. Мосс посвятил свои исследования примитивным народам и этносам и специализировался на изучении их обрядов, магических практик, социальных институтов и экономической практике. Его работы в сфере экономической антропологии, т. е. в области хозяйства, обмена, производства и потребления у архаических племен, стали классикой этнологии и положили начало целому направлению в экономической мысли.
Наиболее известным является его «Эссе о даре» и изучение роли процедуры дарения и отдаривания в социальной структуре примитивных обществ268.
Мосс продолжил и развил социологическую линию Дюркгейма особенно в том, что касается понимания социальных феноменов и фактов как тотальных. Для Мосса общество и наличествующие в нем «коллективные представления» предшествуют как выделению отдельных индивидуумов, так и отношениям людей с природой. Разные общества различным образом понимают статус, природу, структуру, функции, и даже признаки отдельной личности. Это значит, что «личность» является не эмпирическим фактом, но социальным конструктом. Точно так же неверно считать окружающий природный мир очевидной и независимой от общества объективной данностью. Каждое общество понимает природу по-своему, в соответствии с особыми «коллективными репрезенатциями». Следовательно, и внешний мир представляет собой социально сконструированный объект.
Анри Юбер: социология религиозного времени
Коллегой и соавтором269 Марселя Мосса был французский социолог и антрополог Анри Юбер (1872–1927), специалист по этнической культуре Византии и древним кельтам. Он был одним из основателей французской социологии религии.
В области кельтологии труды Юбера признаны классическими270. Они построены на сочетании этнологических и социологических методов, что позволяет рассмотреть Юбера как первого французского этносоциолога.
Юбер систематически занимался также темой социологии времени и формами понимания времени в различных религиозных традициях и архаических обществах. Этой теме он посвятил специальное эссе — «Очерки времени: краткий обзор представлений времени в магии и религии»271.
Леви-Брюль: мистическое соучастие
Если Дюркгейм и Мосс не выносили окончательных суждений о прогрессе и эволюции в обществе, ставя акцент на функциональном подходе и на постоянстве социальных структур, то другой французский антрополог и социолог, Люсьен Леви-Брюль (1957–1939), близкий к Моссу, напротив, задался целью описать социологию прогресса и эволюции обществ и показать, в чем состоит главное отличие примитивных обществ (дикарей) от современной цивилизации.
Он выдвинул обобщающую гипотезу о том, что мы имеем дело с двумя типами мышления — «примитивным мышлением», которое основано на «мистическом соучастии» «дикаря» с окружающим миром, и «современным мышлением», основанном на соблюдении законов логики и четком различении субъекта и объекта (с прозрачной и рассудочной процедурой верификации суждений). Леви-Брюль назвал «примитивное» мышление «пралогическим», а современное — логическим272. Если и в этом случае отбросить безусловное превосходство «логики» над «пралогикой», само собой разумеющееся для эволюциониста Леви-Брюля, с которым обстоятельно полемизировали антропологи Леви-Стросс и Эванс-Причард, то можно согласиться с описанием Леви-Брюля основных черт «простого» общества, которое этносоциология отождествляет с этносом. «Мистическое соучастие», отсутствие дуальной топики «субъект-объект», несоблюдение аристотелевских законов логики — все это, действительно, характеризует типично этническое мышление.
Марсель Гриель: мифология догонов
Классическим этнологом и антропологом французской школы был Марсель Гриель (1898–1956), специалист по Африке и ее этническим обществам273, тщательно исследовавший мифологию и социальное устройство племени догонов274 (Мали), а также их маски, обрядовые танцы, способы охоты и искусство.
Гриель обнаружил у догонов чрезвычайно оригинальные темы в изготовлении сакральных древесных статуй, выполненных с невероятным изяществом. Выяснилось, что у этого племени существует развитая усложненная религиозная мифология, включающая разные типы и серии божеств, духов и иных персонажей, объединенных между собой виртуозно выстроенной теологией.
Теоретические методы изучения этносов Гриель изложил в книге «Методы этнографии»275.
Морис Леенгардт: личность и миф в архаических обществах
Французский миссионер и этнограф Морис Леенгардт (1878–1954) более двадцати лет занимался полевыми антропологическими и социологическими исследованиями в Новой Каледонии, а по возвращению в Париж возглавил кафедру «примитивных религий», которую до него возглавлял Марсель Мосс.
В центре внимания Леенгардта стояли проблемы соотношения мифа и личности и социальной идентичности в архаических обществах. Главный труд Мориса Леенгардта посвящен этносам и культурам Меланезии и обобщающей фигуре «Do Kamo»276, в которой концентрируются представления меланезийцев о «человеке», «духе», «боге», «жизни», «личности» и которую Леенгардт интерпретирует как совокупность сверхиндивидуальных социальных отношений и связей.
Do Kamo Леенгардта соответствует в общих чертах тому, как понимают «личность» социологии и антропологи, и представляет собой осевое социальное представление, сопряженное с ценностями, установками и нормативами.
Марсель Гране: китайское общество
Учеником Дюркгейма и коллегой Марселя Мосса был другой известный французский социолог и этнолог Марсель Гране (1884–1940), крупнейший специалист по китайской культуре. Большинство своих трудов Гране посвятил исследованию китайского общества, его этнической, культурной и политической структуры. Труды Гране по китайской цивилизации являются до настоящего времени основополагающими для изучения Китая277.
Гране сочетал лингвистический, социологический и исторический подход при изучении общества, предлагая разделить процесс социологического познания на две главные сферы:
1) изучение религиозных и мифологических представлений;
2) тщательный разбор обобщенно правовой системы, включая системы родства, семейный уклад, обычаи и государственные законы.
Статья Марселя Гране «Брачные категории и отношения близости в древнем Китае»278 стала отправной точкой для разработки знаменитой «теории родства» крупнейшим антропологом и этносоциологом современности Клодом Леви-Строссом.
В огромной степени Марсель Гране и его исследования китайского общества, которое он постарался изучить, оставив в стороне весь арсенал привычных для европейского ученого идей, методов, категорий и аксиом, стали предопределяющими для другого крупнейшего французского социолога Луи Дюмона, исследовавшего таким же способом индийское общество.
Клод Леви-Стросс: ключевая фигура этносоциологии
Клод Леви-Стросс (1908–2009) является ключевой фигурой всей современной антропологии и этносоциологии. Его труды имеют огромное философское значение, и он по праву считается фигурой первого плана в структурализме как философском и методологическом явлении.
Творчество Леви-Стросса многомерно и многогранно, мы же выделим в нем только те направления, которые являются принципиальными для этносоциологии как дисциплины и составляют ее теоретическую и методологическую основу.
Леви-Стросс использовал метод структурной лингвистики применительно к примитивным архаическим обществам. Приоритетно он занимался индейцами Северной и Южной Америки. Большое влияние на Леви-Стросса оказали русские лингвисты, создатели фонологии и выдающиеся представители структурализма Роман Якобсон (1896–1982) и Николай Трубецкой (1890–1938). Леви-Стросс в годы Второй мировой войны оказался в эмиграции в США, где он познакомился с Романом Якобсоном и Францем Боасом. Символично, что Франц Боас умер от сердечного приступа в буквальном смысле на руках у Леви-Стросса. Основатель структурной антропологии получил эстафету от основателя культурной антропологии.
Леви-Стросс в 1973 г. был избран членом Французской Академии.
Равенство культур: структурная антропология
На всех этапах своего творчества Леви-Стросс проводил идею о принципиальном равенстве культур между собой и настаивал на невозможности и неадекватности проецирования критериев одной культуры на другую279. В этом он полностью совпадал с отправной точкой Франца Боаса и американской культурной антропологии. Но именно Леви-Стросс придал этому подходу статус фундаментального научного методологического принципа, а также философской и гуманитарной истины.
Общество можно понять только в его собственном культурном и цивилизационном контексте, но погружение в контекст исследуемого общества требует отказа от приверженности контексту того общества, к которому принадлежит сам исследователь. Следовательно, мы вообще не можем оценивать общества, отличные от нашего, мы можем их только описывать и классифицировать.
Леви-Стросс выявил и жестко отбросил все формы этноцентризма и расизма, заключенные как в биологической иерархизации этносов, так и в форме европоцентризма, эволюционизма, прогрессизма, универсализма, оценки цивилизации по ее техническим, экономическим или социальным показателям.
Любое утверждение, содержащее прямой или косвенный намек на то, что один тип общества, одна культура или один социальный уклад лучше другого, является заведомо ненаучным, идеологическим и расистским. Леви-Стросс признавал, что нередко в обычной речи, в журналистике, публицистике и политике этот принцип не соблюдается, в связи с чем подобные дискурсы утрачивают объективный смысл и выступают как формы «ложного сознания». Леви-Стросс был убежден, что такой подход следует изживать, т. к. он несопоставим с гуманистическим взглядом на равенство различных культур, чье различие заведомо не может быть иерархировано без того, чтобы не столкнуться с идеей расизма, подавления, насилия и унижения социального, этнического и культурного достоинства. Некорректно даже говорить, что одно общество более или менее развито, чем другое, т. к. термин «развитие» есть ценностный концепт западноевропейской цивилизации. Общество не развивается, а живет. Живет так, как считает нужным.
Основы такого подхода Клод Леви-Стросс сформулировал в своей программной книге «Структурная антропология»280. Именно структурная антропология как научное и философское направление точнее всего соответствует этносоциологии и практически по всем основным параметрам совпадает с ней.
Бинарный код
Методологически «структурная антропология» сводится к исследованию структуры общества, которая может быть представлена в форме бинарных оппозиций281. Эти оппозиции совершенно не должны быть столь радикальными как есть/нет, один/ноль, свет/тьма, с которыми имеет дело преимущественно европейская культура. Архаические общества имеют более нюансированные пары: сырое/приготовленное, обработка земли/охота282 за дичью и т. д. При этом одна из классических форм архаической культуры состоит в снятии жесткости бинарных оппозиций и введении нового, примиряющего, опосредывающего термина. Таким опосредующим началом Леви-Стросс считал исследованную Полом Радином фигуру трикстера (койота или ворона) в многочисленных индейских мифах.
Выявление бинарных оппозиций позволяет, по Леви-Строссу, корректно интерпретировать миф, выделив в нем наименьший структурный семантический элемент — мифему.
Основная идея Леви-Стросса состоит в следующем: миф есть законченная интеллектуальная матрица, которая должна быть изучена через особые операции на основе мифологики283 (специальной логики мифа).
С точки зрения Леви-Стросса, миф надо изучать как парадигму, чтение мифа осуществлять через периоды — как нотную партитуру, а не как письменный текст. Только в этом случае мы способны увидеть и корректно распознать в нем гармонию. При чтении нот можно приоритетно следить за мелодией, развертывающейся последовательно по нотной строке, а можно — за гармонией, которая считывается по вертикали. При этом в анализе мифа самое главное — это верно выделить периоды, т. е. те места, где идет перенос нотной строки и начинается новый блок мифа. Этот минимальный атомарный фрагмент мифа, который уже не подлежит дальнейшему дроблению и представляет собой законченный элемент, из которого складывается мифологическое повествование, Леви-Стросс и называет «мифемой».
Элементарные структуры родства
В монументальной работе «Элементарные структуры родства»284 Леви-Стросс доказывает, что для изначальных социальных систем обмен женщинами между кланами, фратриями и другими группами служил основой социального структурирования и был главной коммуникационной матрицей — как обмен словами в языке.
В отличие от «теорий родства» других авторов, в качестве основы построения социальной структуры общества Клод Леви-Стросс рассматривал не семью и не род, но отношения между семьями и родами. Согласно его концепциям, в основе общества лежит операция обмена, которая направлена к установлению равновесия: отдающий должен получать эквивалент своему дару. Операция обмена может быть уподоблена ссуде: один дает другому нечто в долг, что тот должен вернуть.
Приоритетными объектами обмена в простых обществах выступают слова и женщины. Речь есть обмен высказываниями между людьми. Показательно, что в обыденных формах общения, присущих всем человеческим культурам, взаимообмен речевыми формулами (диалог) является законом. Например, в обычном приветствии встречающиеся люди произносят «здравствуйте!», на что должно последовать ответное «здравствуйте!», которое предполагается не конкретикой ситуации, а самой природой речи как обмена. Вспомним, что тщательным изучением ритуальных практик речи у африканских догонов занимался французский этнолог и антрополог Марсель Гриель.
В основе речи лежит язык, его логика, его структуры, его парадигмы, предопределяющие то, по какой модели и в соответствии с какими закономерностями будет происходить речевой обмен. Они не видны, потенциальны, и всегда проступают не сами по себе, а через построение речи как актуального словесного ряда. Речь — то, что находится на поверхности. Язык — то, что скрыто внутри.
Точно такой же логике подчиняется обмен женщинами в структуре брачных отношений и в общей ткани родства и свойства. Он основан на принципе эквивалентности и следует столь же однозначным правилам, как и речь. Но как в лингвистике сплошь и рядом носители языка — особенно в бесписьменных культурах — не имеют представления о стройной и логической грамматике, которой пользуются бессознательно, так же и структуры брачных отношений лежат не на поверхности, но являются потенциальными и скрытыми, и выяснение их закономерностей требует определенных усилий.
Эти усилия и предпринял Леви-Стросс, развивший вслед за М. Моссом идею «дара», а также механизма обмена дарами (дар/отдаривание) как социальной основы общества, но только применительно к обмену женщинами, которые являются обобщением «дара» как такового, т. к. концентрируют в себе другие формы обмена — в том числе обмена предметами или словами. Структура родства, основанная на гендерном обмене, таким образом, может быть рассмотрена как «универсальная грамматика общества».
Ограниченный обмен
К. Леви-Стросс выделяет в примитивных обществах два типа обмена женщинами, т. е. два типа социального языка брака: «ограниченный обмен» и «обобщенный обмен»285.
Ограниченный обмен представляет собой классический случай дуального или кратного двум членения общества на экзогамные фратрии. Простейший случай: племя, разделенное на две половины, которые проживают либо на общей территории (например, в разных концах поселения), либо на некотором расстоянии. Между двумя фратриями А и В происходит обмен женщинами. Мужчины (отцы и братья) отдают дочерей (сестер) мужчинам другого племени в жены, а те точно так же поступают со своими дочерьми и сестрами. Количество экзогамных групп может быть и 4, и 6, и теоретически больше, но больше 8-ми нигде не встречается. Схематично это можно изобразить таким образом:
|
A |
A |
A |
|
C |
C |
|
|
E |
Схема 8. Тип ограниченного обмена женщинами между родами
В такой модели организации брака соблюдается принцип равноценности. Фратрия А отдает фратрии В столько же женщин, сколько и получает взамен. Поэтому Леви-Стросс говорит, что в условиях деиндивидуализации архаических обществ это может быть представлено как цикл ссуд и возвратов. В качественном индексе женщины племени самым важным является лишь факт ее принадлежности к фратрии А, В, С, D и т. д. В зависимости от этого, и только от этого, она является или не является объектом легитимного эротического и социального внимания, т. е. обладает социальным статусом невесты. В случае несоответствия она становится табу, т. е. прекращает быть объектом обмена. С этим связаны и жестокие культы убийства девочек в некоторых примитивных племенах, о чем мы упоминали выше — часто это можно рассмотреть как аналог уничтожения избыточно произведенных товаров, которые при определенных обстоятельствах не имеют шанса найти потребителя. Женщиной, которая может стать женой, является не всякая молодая женщина в детородном возрасте, а только женщина-«нао» («нао» противоположно «табу»), т. е. принадлежащая к определенной фратрии, разрешенной для брачного союза. Это столь же неизменно, как построение речи по вполне определенным правилам, которые никто не может произвольно изменить и которые изменяются только вместе с языком (т. е. с обществом в целом).
В обществах ограниченного обмена четко соблюдается дуальный код, лежащий в основе мифологических и религиозных систем, а также социальных институтов, которые встречаются также и в обществах и культурах комплексных и многоуровневых. Но структуру этноса, базовую основу модели «родства-свойства», формирует именно такой тип общества. В нем ярче всего видна линия, отделяющая и соединяющая между собой людей по дуальной модели — родные и свои. К фратрии А относятся родные. К фратрии В — свои (или «свои другие»).
Закон такого разделения, воплощенный в запрете на инцест (под которым чаще всего понимается запрет на инцест брата и сестры, т. е. на брачные отношения в пределах одного и того же поколения), конфигурирует фундаментальную модель эроса, примененную к социуму. Аффективность (чувство любви, привязанности, нежности, доверительности) разделяется на две части — родовую (близость к родителям, братьям, сестрам и детям) и брачную (реализующуюся в эротических отношениях только с разнополым представителем противоположной фратрии). Спонтанная аффективность, близость, нежность в обоих случаях ограничиваются структурой запретов, т. е. введением дистанции. Любовь к родственникам цензурируется табуированием инцеста, любовь к представителю противоположной фратрии — фундаментальной инаковостью этой фратрии, закрепленной в самой социальной системе экзогамных групп. Данная парадигма разделения аффективности порождает базис социального гендера, который сохраняется в неприкосновенности в самых сложных обществах. Но в обществе прямого обмена социализация пола выступает в самой яркой и полной форме.
Обобщенный обмен
Вторую форму обмена женщинами Леви-Стросс называет «обобщенной». Здесь равновесие между даром и отдариванием достигается не прямым образом, а опосредованным. Если в первой модели может быть только четное число экзогамных фратрий, обменивающих женщин строго «одна на другую», то в обобщенных системах может участвовать теоретически любое — неограниченное — количество фратрий. Здесь обмен осуществляется по следующей схеме:
|
A C |
A
C |
Схема 9. Тип обобщенного обмена женщинами между родами
В такой модели женщину из экзогенной фратрии А отдают во фратрию В, из фратрии В во фратрию С, а из фратрии С во фратрию А. Число элементов — теоретически — может увеличиваться, но на практике имеет верхний предел. В такой ситуации существенно расширяется спектр отношений свойства, который удваивается. Теперь свояками («своими другими») становятся члены сразу двух фратрий — той, куда отдают женщину, и той, откуда ее берут.
Общий баланс остается тем же, циркуляция женщин стремится к полному равновесию — сколько женщин род отдает, столько и получает. Но на сей раз получает не непосредственно оттуда, куда отдает, а через промежуточную инстанцию. В том случае, когда размерность превышает три фратрии, возникают группы, которые, участвуя в обмене, не входят в систему прямого свойства. Они являются «другими», но уже не «своими другими».
При этом обобщенные системы ничем принципиально не отличаются от прямых, т. к. жесткая упорядоченность женщин-«нао» и основные социальные табу сохраняются.
Атомарная структура гендерных отношений и их шкала
К. Леви-Стросс выделяет ту минимальную структуру, которая сохраняется постоянной при всех социальных моделях гендерного обмена286. Он описывает ее через группу из четырех членов: супруг (отец) — супруга (мать) — сын — брат супруги (дядя). Между ними теоретически возможно шесть осей связи:
– муж–жена;
– мать–сын;
– отец–сын;
– сестра–брат;
– дядя (уй)–племянник;
– муж–шурин (швагер).

Схема 10. «Атомарная структура» родства по Леви-Строссу
Отношения по оси a основаны на дистанции в любом обществе (разница фратрий, «другие», свойство в чистом виде); отношения по оси f основаны на интимности в любом обществе (родство в чистом виде); отношения по осям b, c, d, f варьируются в зависимости от специфики устройства каждого конкретного общества
Для изучения и систематизации этих связей Леви-Стросс предлагает разделить их на две категории: интимность/дистанция. Интимность включает нежность, спонтанность, близость. Дистанция — авторитет, уважение, сдержанность, настороженность, иногда враждебность. Обществ, в которых доминировал бы только один тип отношений, не существует. Если все основывать на дистанции, невозможно продолжение рода и создание семьи, если на интимности — не будет порядка, иерархий и соблюдения табу (в частности, инцестуальных). Поэтому каждое отношение в атомарной структуре в разных обществах может быть разным — т. е. могут преобладать либо интимность, либо дистанция.
Леви-Стросс выделяет две константы– отношения мать–сын, которые всегда интимны, и муж–шурин, которые всегда основаны на дистанции. Поэтому строго переменными являются лишь четыре оси связей. Эта переменность зависит не от того, как складываются отношения в семье, но от типа общества, в котором находится данная семья. Структура связей между мужем–женой, отцом–сыном, сестрой–братом и дядей–племянником являются строго предопределенными социально, и эта предопределенность служит конкретным диалектом, на котором говорит данное общество. На другом уровне это отражается в мифах, социальных институтах, культурных и стилистических конструкциях и т. д.
К. Леви-Стросс выделил в характере этих связей математическую закономерность в форме обратного подобия.
|
дядя (уй)–племенник |
. |
отец–сын |
|
брат–сестра |
. |
муж–жена |
Схема 11. Формула переменных осей родства
Если мы знаем, например, что у черкесов отношения между отцом и сыном и мужем и женой отличаются определенной дистанцией, то из этого легко можно заключить, что отношения между дядей и племянником и братом и сестрой будут близкими и интимными. В этом проявляется смещение внимания на ближних по плоти (род) при матрилинейном родстве (отсюда отношения с дядей), в ущерб эротическому импульсу, направленному вовне рода.
Другой пример из племени полинезийских тонго. Этнологи сообщают, что в этом племени жестко регламентированы и табуированы отношения по линии отец–сын и брат–сестра (вплоть до того, что отец и сын не могут ночевать в одном и том же помещении, хижине). В этом случае отношения между мужем и женой и дядей и племянником будут, напротив, близкими, т. к. акцент падает на социализацию дядей по материнской линии (а не отцовской — снова матрилинейное общество) и позитивно оценивается структура брачного союза по линии супругов (внешний импульс по отношению к роду).
Материнское и отцовское в социуме
До Леви-Стросса в антропологии и этнологии преобладала эволюционистская точка зрения на фазы гендерного развития общества (Морган, Тайлор, Бахофен). Она состояла в следующем. Изначальная орда пребывала в состоянии полового промискуитета, где никаких регламентаций сексуального поведения не существовало: все члены орды вступали в половые отношения со всеми беспорядочно и хаотично. На следующем этапе в статус социального закона была возведена принадлежность детенышей к матери, т. к. наиболее очевидно, что роженице и принадлежит рожденное. На этом основании предполагалось существование матриархата. И, наконец, на следующем этапе более «внимательные» дикари научились отслеживать факт отцовства, что привело к патриархату.
В ХХ в. антропологи и этнологи вслед за К. Леви-Строссом опровергли это представление, убедительно доказав, что общества, основанного на промискуитете, никогда не существовало, если не брать во внимание специальные и всегда строго ритуализированные оргиастические ритуалы, которые встречаются не только в примитивных племенах, но и в высокоразвитых культурах. Более того, даже некоторые виды животных не имеют практики промискуитета — аисты, волки, вороны и т. д287. То, что принимается за «матриархат», вполне могло быть формой, параллельной патриархату, т. к. в некоторых обществах феминоидные элементы преобладают до сих пор, не подавая ни малейших признаков эволюции этих обществ в сторону классического патриархата.
Вместо эволюционистской редукционистской схемы, опровергаемой этнологическими и социологическими данными, Леви-Стросс предложил структурную классификацию родственных связей, основанных на фундаментальном начале: определения принадлежности ребенка к тому или иному роду и местонахождения ребенка в пространстве одной из двух фратрий.
Леви-Стросс делит все варианты определения родства на четыре группы: матрилинейное, патрилинейное, матрилокальное и патрилокальное. Первые два типа относятся к определению принадлежности ребенка к роду матери или отца, а вторые два — к местонахождению ребенка на территории рода матери или отца.
Возникает четыре варианта:
1) матрилинейное родство + матрилокальное месторасположение;
2) матрилинейное родство + патрилокальное месторасположение;
3) патрилинейное родство + матрилокальное месторасположение;
4) патрилинейное родство + патрилокальное месторасположение.
Варианты 1) и 4) Леви-Стросс назвал гармоничными, а 2) и 3) — дисгармоничными. В 1) и 4) случаях ребенок оказывается помещенным в тот род, к которому он принадлежит и воспитывается в нем как «родной», т. е. как часть этого рода с момента появления на свет вплоть до своей зрелости и брачного периода. Важно также, что он проходит инициацию и подготовку к ней среди родных. В случаях 2) и 3) ребенок, напротив, родившись, оказывается в пространстве той фратрии, которая является для него экзогенной, что ставит его в условия определенного отчуждения от окружающих, за исключением матери (во всех случаях). Ни одна из этих версий сама по себе еще не создает ни «матриархата», ни «патриархата», т. к. служит регулированию общего баланса обмена женщинами на основе равновесия. Теоретически, оговаривается Леви-Стросс, можно было бы описать тот же процесс как «обмен мужчинами», но такого отношения не зафиксировано ни в одном из известных обществ, т. к. даже в социумах с элементами, формально напоминающими «матриархат», мужчина не осознается как товар, подлежащий обмену в общей социальной системе. Ни матрилинейность, ни матрилокальность, ни их сочетание не являются признаками матриархата. В социальной структуре мать выступает как носительница главного фактора — принадлежности к роду, который, сам по себе, не имеет гендерного признака, но лишь помогает классифицировать члена рода: то, что принадлежит к А, отнести к А, а то, что к В — к В. Ту же роль, но на ином уровне — на уровне пространственного размещения семьи или потомства — играет принцип патрилокальности и матрилокальности.
В такой ситуации обмен и равновесие становятся главными законами гендерных стратегий в обществе288.
Кросскузинные и параллель-кузинные системы
Огромное значение в системе родства имеют отношения с двоюродными братьями и сестрами. Их пример показывает, что запрет на инцест имеет не физиологический или гигиенический, но сугубо социальный характер. Это выражается в делении кузин и кузенов на перекрестных и параллельных. Параллельные кузены (кузины) — это дети братьев отца или сестер матери. Кросскузены (кросскузины) — дети сестер отца и братьев матери. При любых формах определения принадлежности к роду — и по патрилинейной и по матрилинейной — кросскузены и кросскузины оказываются членами противоположного рода по отношению к сыну (дочери) данных родителей.
Большинство архаических обществ разрешает кросскузинные браки именно на основании социальной экзогенности — притом что с точки зрения физиологической кросскузены ничем не отличаются от параллель-кузенов. Это опровергает гипотезу о табуировании инцеста из-за наблюдений за вырождением потомства от кровосмесительных альянсов.
Мы так подробно остановились на идеях Леви-Стросса потому, что именно они составляют методологическую основу этносоциологии и являются ее фундаментальной теоретической базой (наряду с теориями Турнвальда, Мосса, школой Боаса и социальной антропологией английского функционализма).
Луи Дюмон: иерархический человек и холизм
Выдающийся французский социолог и антрополог Луи Дюмон (1911–1998) внес огромный вклад в этносоциологию, т. к. применил социологический метод к изучению индийского общества и построил на этом основании глубокие теоретические модели, обогатившие этносоциологию.
Дюмон был учеником Марселя Мосса и продолжал основную линию французской социологии, рассматривающую общества как «тотальный феномен». Серьезное влияние на его увлечение этнологией оказал Эванс-Причард.
Исследование Дюмоном индийского общества с повышенным вниманием к тем категориям, в которых мыслят и действуют сами индусы, привело его к ряду фундаментальных выводов. Так, он описал кастовую систему как модель привнесения «трансцендентности» в социальную систему, т. е. усвоения обществом концепции «иного». Таким образом, социальная иерархия отражает философское измерение о том, что находится по ту сторону и включение «запредельного» момента не только в религиозные и философские системы, но в структуру общества как такового. Дюмон подчеркивает, что социальная стратификация в крайней форме ее кастового выражения (как в индийском обществе) воплощает в себе бинарные оппозиции особого толка289. В частности, такие пары, как правое/левое, Адам/Ева, Папа/король построены по модели, где один из терминов каждой пары является не просто частью целого, но самим целым, а другой — только частью или производным от целого. Другими словами, эти бинарные пары могут быть выстроены в общей формуле: целое/часть. В Индии это выражается в том, что кастовое деление предполагает, что полнота общества состоит в брахманах, которые занимаются обрядами и религиозными церемониями, а также религиозной философией. Они, будучи лишь частью кастовой системы, мыслятся как ее суть и смысл, т. е. как она вся целиком. Это Дюмон называет «холизмом». При этом иерахию в широком (или в социологическом) смысле Дюмон понимает в отрыве от проблемы власти и подчинений. Так, в Индии высшей кастой являются брахманы, чей статус превосходит статус воинов и королей (кшатриев). Но вместе с тем брахманы не обладают политической и экономической властью, и в этом смысле зависят от кшатриев. Иерархия выше и глубже, чем структура властных отношений. Она связана с важнейшим для традиционного общества концептом «целого».
Холизм выражается в признании превосходства целого над частным, индивидуальным. Холистское общество исходит из того, что наибольшей реальностью наделено само общество в целом (ка совокупность не только всех ныне живущих людей, но их предков, потомков, а также социальных отношений, культов, преданий, обрядов, символов, верований и т. д.). А отдельные индивидуумы реальны через сопричастие к этому целому: их бытие двойственно — с одной стороны, как части целого, они соучаствуют в высшем бытии целого, а с другой имеют и собственное бытие, гораздо более низкого второстепенного свойства, часто отождествляемого с нечистым, неподлинным или иллюзорным (индийская майя).
Холистское отношение к обществу характерно для традиционных обществ, где преобладают кастовые структуры. Индийское общество является образцом такого общества и может быть взято за парадигму.
Прямо противоположной парадигмой, по Дюмону, является современное западноевропейское общество, которое строится на ином понимании основных социологических моментов. Любые бинарные оппозиции — пол, класс и т. д. — мыслятся как сложение агломераций, суммирование частей. Нормативная бинарность выражается общей формулой: одна часть/другая часть. Вместо интегрирующего холизма мы имеем индивидуализм, где каждая часть рассматривается как самостоятельная инстанция. Массы не «снимаются» в элите, женщина — в мужчине и т. д. Эту парадигму Дюмон называет «индивидуализмом» и считает ее обобщающей моделью общества западного и современного. К такому выводу Дюмон приходит через сопоставление индийского кастового и иерархизированного общества с обществом европейским — демократическим, секулярным и индивидуалистическим. Этому посвящена его работа «Эссе об индивидуализме»290, считающаяся классикой социологии и антропологии.
Особое внимание Дюмон уделял экономической антропологии, начатой Моссом, и подверг глубокому социологическому анализу процессы и институты «экономического общества» и базовый концепт «экономического равенства» — фактического равенства в социалистических теориях и равенства возможностей в либерализме. В книге «Homo equalis»291 («Человек равный»), которая является симметричным дополнением к книге «Homo Hierarchicus »292 («Человек иерархический») Дюмон показывает, что современная Европа, начиная с эпохи Средневековья, вступила в фазу перехода от холизма к индивидуализму, т. е. от одного типа общества к другому. Порядок и кастовая структура холистского общества создает преграды для роста материального благополучия масс. Но поиск массами свободного удовлетворения своих интересов ведет к анархии и социальному материализму. Поэтому буржуазные революции и реформы состоят в переходе от политики и религии, оправдывающих стратификацию и иерархию, к экономике и особой (материалистической) морали, основанной на этой экономике.
Дюмон тщательно разбирает генезис индивидуализма — как идеологии, методологии, философии. Некоторые традиционные общества (например, индийское, ранне-христианское и отчасти европейское Средневековье) знают концепт «индивидуума вне мира». Это идеал отшельника, йогина, монаха. Такой индивидуум покидает общество (нормативно холистское) и вместе с ним мир, утверждая индивидуализм через свой уход. Но даже те общества, которые знают такую фигуру и ставят ее высоко как идеал, не отрицают во всех остальных случаях холизма и законов целостности во всем, что касается остальных сторон жизни, за исключением сферы выносимой за скобки аскетики. Между «инвидуумом вне мира» и холизмом остального общества отношения иерархичны: они не лежат на одной плоскости (либо-либо). Будучи высшим и признанным таковым, аскет или отшельник не стремится изменить само общество и не вмешивается в его дела.
Но в определенный момент происходит переход от «индивидуума вне мира» к «индивидууму внутри мира». Этот процесс начинает проявляться в Западной Европе вместе с номинализмом, позже Реформацией (кальвинизм) и метафзикой Нового времени. Индивидуум признается базовой реальностью, и оснаванные на индивидуализме философия и идеология начинают входить в прямое противоречие с традиционным обществом, коренящимся в холизме. Дюмон тщательно прослеживает индивидуализм как основу современного общества в самых различных проявляниях — от спора об универсалиях и Оккама до пионеров экономической и политической мысли Нового времени (Т. Гоббс, Дж. Локк, А. Смит, Ж.Ж. Руссо, Ф. Гегель, К. Маркс и т. д.) и вплоть до современного неолиберализма (Ф. фон Хайек, К. Поппер и т. д.).
Согласно Дюмону, холизм непосредственно связан с иерархией и традиционным обществом. Индивидуализм же логически сопряжен с равенством и обществом современным.
Еще одним важным свойством этой дихотомии холизм/индивдуализм Дюмон считает пару отношения между людьми (холизм) /отношения между индивидуумом и природой (индивидуализм). Перенос внимания с социальных отношений на отношения индивидуумов с внешним миром кладет начало экономике как автономной дисциплине, приоритетно исследующей отношения человека и частной собственности (то есть приватизированного индивидуумом и поэтому индивидуализированного фрагмента внешнего мира).
Если применить эти идеи Дюмона к этносоциологии, то мы увидим следующее.
Холистское общество, описанное Дюмоном, относится к тому, что мы называем «этносом» и «народом/лаосом». Для этноса цельность (холизм) является максимальной и абсолютной, а иерархия еще полностью свободна от стратификаци и властных отношений.
Народ/лаос — это дифференцированное и стратифицированное, а также полиэтническое общество, основанное на визуализации и усвоении трансцендентного в форме социально-политической модели. Не случайно столь большое значение в данном типе общества уделяется религиозным структурам. Здесь холизм подвергается определенному расслоению (на касты, сословия и т. д.), а помимо чисто статуарной иерархии (доминация сакрального, шаманизм) складывается и властная иерархия (система подчинения и властвования).
Общество индивидуалистическое, экономическое, эгалитаристское есть общество гражданское — как в своей ранней фазе (национальные государства), так и в нормативно «идеальной» (глобальное общество). Переход от холистского общества (народа) к обществу индивидуалистическому (гражданскому) произошел в Европе (и Дюмон детально показывает нюансы этого процесса), но не состоялся в Индии. И поэтому мы можем изучать общество как народ не только в истории, но и в наше время как самостоятельную социальную и политическую систему, рядоположенную обществу современному и гражданскому.
Более того, Дюмон предлагает отказаться от европейского этноцентризма (он называет его «социоцентризмом) и признать равноправие холистских и индивидуалистических социальных моделей как свойств различных обществ и культур в разные времена. Если судить по длительности исторического существования и даже по количеству современных членов, то холистские общества окажутся наиболее частым случаем, а индивидуализм современной Европы будет выглядеть незначительной, но агрессивной и претенциозной аномалией. Дюмон полагает, что подлинно социологическим и научным является такой подход, который, описывая холистское общество с помощью апарата индивидуалистической идеологии и методолгии, позволяет самому индивидуалистическому обществу быть описанным в критериях холизма. Изучив досконально индийское общество (холистское, традиционное), сам Дюмон так и поступает, исследуя параллельно «человеку иерархии» (Homo Hierarchicus, нормативному для традиционного обещства) «человека равенства» (Homo Æqualis, нормативного для современного западного общества).
Для этносоциологии Луи Дюмон и его социологические и антропологические теории имеют центральное значение, т. к. фундаментализируют полицентричный подход к разным обществам, на котором и онсована этносоциология.
Жорж Дюмезиль: трехфункциональная теория
Жорж Дюмезиль (1898–1986), крупнейший историк религий, структуралист и лингвист, может быть всецело отнесен к этносоциологам, т. к. его работы посвящены преимущественно исследованию социальной стратификации индоевропейских народов, включая древнейшие периоды. Дюмезиль находился под влиянием идей Дюркгейма и тесно сотрудничал с Марселем Гране.
Дюмезиль занимался этнографическими полевыми исследованиями в Турции и на Кавказе, изучая этнические группы турок, убыхов, абхазов, армян, и особенно осетин, к архаической культуре которых он впервые привлек внимание европейских ученых.
Основная концепция Дюмезиля получила название «трехфункциональной теории». На создание этой теории, по признанию Дюмезиля, его натолкнула структура Нартского эпоса, сохранившегося у ряда кавказских народов и особенно у осетин. Осетинское общество, восходящее корнями к аланам, сарматам и скифам, сохранило свойственную древнему эпосу тройственную структуру, согласно которой все члены общества делятся на священников-жрецов (алагаты), воинов (экшертегкаты) и скотоводов (бораты). Эта трехчастная модель является определяющей для структуры мифа, религиозных обрядов и социально-политического устройства. Отталкиваясь от осетинской модели, Дюмезиль проделал колоссальную работу по сравнительному анализу мифологий и религий, а также социально-политических систем древних индоевропейских этносов — ведических ариев, древних скифов, сарматов, парфян, римлян, герков, славян, кельтов, германцев, хеттов и т. д. — и установил, что трехчастная модель встречается практически у всех этих этносов. Трехфункциональный подход был взят за основу интерпретации многих ритуалов, мифов, исторических хроник и религиозных доктрин. Так была установлена функциональная связь между индийскими брахманами и римскими фламинами293.
Отдельные работы Дюмезиль посвятил интерпретации с позиций трехфункциональной теории германской мифологии294 и мифологии античного Рима295. Обобщением явился суммирующий труд «Боги индоевропейцев»296.
Дюмезиль относится к структуралистской школе антропологии и истории религии и склонен толковать исторические хроники как форму развертывания мифологического сознания297. Этот метод получил название «антиевгемеризма»298. Древнегреческий философ Евгемер еще в древности выдвинул теорию, что истории и мифы про богов суть воспоминания о реальных событиях и подвигах, совершенных людьми, которые в памяти людей приобрели гипертрофированные фантастические черты. Дюмезиль не только считает, что это не так и что миф первичен, но склонен интерпретировать истории про ряд исторических деятелей как особую версию изложения мифа в исторической форме. Это он блестяще демонстрирует в своих работах и методологически объясняет в программном компаративистском труде «Забвение людей и слава богов»299.
Для этносоциологии труды Дюмезиля имеют огромное значение как с точки зрения компаративистского метода, так и с позиций фундаментальной проработки процесса социальной стратификации в древних народах. Более точно, разбираемые им темы относятся к той форме общества, которую мы называем «народом/лаосом» в этносоциологическом смысле. Социальная стратификация — это явление, которое характеризует первую производную от этноса, т. е. народ. Выделение трехчастной модели общества заведомо может относиться только к народу, т. к. в этносе (в чистом виде) преобладает социальное равенство и стратификация почти полностью отсутствует. Для анализа лаоса и процессов появления государств, религий и цивилизаций как форм творения народа, инструментарий Дюмезиля подходит оптимально.
В исследованиях трехчастных религиозных и социально-политических систем Дюмезиль анализирует обширный мифологический и исторический материал, связанный с возникновением династий, стран, государств Древнего мира. Повсюду он находит постоянно повторяющийся сюжет, основополагающий для момента возникновения народа/лаоса. Речь идет о войне и последующем примерении между мужественными воинами-пришельцами (у которых недостает пищи, женщин и богаств) и оседлым миролюбивым местным населением, занимающимся сельским хозяйством, имеющим, напротив, в изобилии богатства и женщин. В истории Рима этот сюжет повторяется дважды — в случае Энея, прибывшего из разгромленной Трои и столкнувшегося с королем Латинусом, и в случае Ромула, вошедшего в конфликт (позже он сменился миром) с царем сабеев Титом Татием. В Индии, у германских народов, в осетинском и шире, северо-кавказском, Нартском эпосе, у иранцев и греков — повсюду мы сталкиваемся с одной и той же картиной: трехчастная модель складывается из наложения алогенных этносов (с явными кочевыми воинственными чертами), составляющих основу двух высших функций (жрецов и воинов), на местное население аграрного типа. Третья функция (преимущественно тружеников-крестьян) соотносится с особым типом божеств, обрядов, свойств, символов, хозяйственных практик, ценностных установок и характерных признаков. Таким образом, Дюмезиль, стремящийся повсюду отыскать трехчастную систему, свойственную, по его мнению, индоевропейским этносам, сам же доказывает составной характер этой системы, состоящей из двух разнородных мифологических и символических комплексов, один из которых присущ воинственно-кочевым этносам, а другой — миролюбиво аграрным. Боги и обряды воинов формируют содержание двух высших функций; боги и обряды земледельцев — третьей, низшей.
Борьба и функциональное взаимодополнение скандинавских асов (кочевники) и ванов (оседлые этносы) представляют собой яркий пример такого дуализма.
Эти аспекты делают труды Дюмезиля незаменимыми для этносоциологии.
Альгирдас Греймас: социология смысла и этносемиотические объекты
Учеником Дюмезиля и Леви-Стросса был философ-структуралист, этнолог, историк религий и специалист по мифологии литовец Альгирдас Греймас (1917–1992), проживший значительную часть жизни во Франции и сделавший там научную карьеру. Греймас специализировался на структурной лингвистике и стал основателем (вместе с философом Роланом Бартом) направления семиотики во Франции (Парижской семиотической школы)300.
Греймас занимался проблемой смысла301 и формализацией смысловых конструкций в системах знаков. Эту модель он применял в первую очередь к анализу мифологий, а также к литературным текстам, поскольку, согласно его теории, принципиальной разницы между структурой мифа и структурой современного литературного, философского или публицистического текста нет: они разлагаются на ряд постоянных семантических и функциональных элементов, где выявляется фигура актанта (действующего лица), его атрибутов и поступков, а также фиксированного числа возможных отношений с другими актантами. На Греймаса повлиял структуралистский анализ сказок, мифов и эпоса советского ученого В.Я. Проппа и его модели по выявлению постоянных семантических и функциональных структур русских волшебных сказок.
Греймас занимался реконструкцией литовской народной мифологии и посвятил этой теме отдельный труд — «Боги и люди: этюды по литовской мифологии»302.
В 1971 г. на Первом Международном Конгрессе по этнологии он выступил с программным текстом «Соображения по поводу этносемиотических объектов»303. Этносемиотические объекты, по Греймасу, представляют собой мифы, легенды, предания, сказки, которые отличаются тем, что центр в них совпадает не с индивидуумом, как в западноевропейской литературной или автобиографической традиции письма Нового времени, но с системой смысловых структур, состоящих из отношений, функций и связей. Термин «этносемиотический объект» является очень глубоким для этносоциологии, т. к. описывает этнос как смысловое и смыслообразующее явление. Подчеркивание безличной структуры этого объекта согласуется с главной характеристикой этноса как простого общества с максимально сильной внеиндивидуальной коллективной идентичностью. Определение Греймаса показывает, что этнос может быть рассмотрен как то, что делает знаки (слова, фигуры, звуки, жесты, ритуалы) осмысленными.
Андре Леруа-Гуран: техника и этничность
Ученик Мосса и наследник Марселя Гриеля на кафедре в Сорбонне, французский социолог и антрополог Андре Леруа-Гуран (1911–1986) стоял на эволюционистских материалистических позициях и в центре своих исследований помещал проблему техники и ее влияние на трансформацию различных типов обществ. Его полевые этнологические исследования были посвящены археологии северной зоны Тихого океана304. Идеи Леруа-Гурана оказали большое влияние на философов-постструктуралистов — Жака Дерриду, Жиля Делеза и Феликса Гваттари.
Леруа-Гуран в своих работах соотносит между собой два основных элемента, принципиальных для становления общества — технику и этнос. Леруа-Гуран вводит концепт «технических тенденций», которые, с его точки зрения, связаны с объективным и универсальным моментом перехода от четвероногого животного в вертикальное положение305. Благодаря этому «переходу» у «вчерашней обезьяны» освобождаются руки и привлекается повышенное внимание к лицу, что способствует развитию технических средств, оказывающихся в «освобожденных» от хождения руках (Жиль Делез назовет это «детерриториализацией»306), и возникновению речи, связанной с качественным скачком в усилении роли лица и одного из его главных органов — рта. Язык и техника, таким образом, оказываются тесно связанными между собой и представляют две стороны «технических тенденций».
«Технические тенденции», по Леруа-Гурану, универсальны для всего человечества как вида. Но проявляются они в конкретной этнической среде. Поэтому выражение универсальности всегда партикулярно, специфично и этнично. Техника — общее, выражающее себя через этнос как частное.
Этнос есть конкретизация техники. Этнос, по Леруа-Гурану, пребывает одновременно в двух средах — внешней (природной, климатической, географической) и внутренней (культурной, составляющей структуру «общего прошлого»). Между этносом и средой (в обоих ее вариантах) «вставленная мембрана» или «искусственная оболочка»307. Это и есть «техническая тенденция» как универсальность, заложенная в структуре этноса. Этнос начинает применять эту «мембрану» вначале к внутренней среде (к самому обществу), а затем и к внешней, трансформируя ее структуру.
Шаг за шагом этнические общества трансформируются в сторону развития техники, что повышает их универсальность. В пределе этническое как конкретное должно быть полностью вытеснено техническим как всеобщим. В этом и состоит смысл истории — техническая тенденция тяготеет к автономизации и замене собой этнического человека. Предел такой тенденции концептуально визуализируется в Постмодерне и постобществе. Поэтому идеи Леруа-Гурана были подхвачены философами-постмодернистами.
Если оставить в стороне тему эволюции, происхождения человека из четвероногого зверя и иные формы прогрессистского «технологического расизма», присущего Андре Леруа-Гурану, то можно с успехом применить его этнотехнологическую теорию к этносоциологии.
Этнос, как его понимает Леруа-Гуран, есть простейшее общество, являющееся максимально локальным и партикулярным, т. е. наименее техничным. Мы называем это «койнемой».
От этой базовой простоты мы можем откладывать все более и более сложные производные. Сложность, дифференциация, комплексность и их степень и являются главными показателями отличия народа, нации, гражданского и глобального общества и, наконец, постообщества от этноса. Если применить терминологию Леруа-Гурана, то мы можем отождествить сложность и процесс усложнения, повышения уровня дифференцированности с «технической тенденцией» и рассмотреть технику как меру определения социологического качества того общества, которое мы рассматриваем. Приблизительно так и поступали немецкие этносоциологи, в первую очередь, Рихард Турнвальд, при описании процесса социальных трансформаций этнического общества. Но Турнвальд и Мюльман заканчивали свой анализ на уровне народа/лаоса. Благодаря Леруа-Гурану мы можем продлить эту логику и на более сложные — современные — общества вплоть до Постмодерна.
Чем дальше общество от этноса, тем более оно технологично, универсально, эффективно, и … тем менее, оно человечно, культурно и экологично. Оно оказывается отделенным «мембраной» от природы, культуры и их сбалансированного синтеза, который составляет суть этнического проживания бытия.
Роже Бастид: этносоциальная маркировка бразильского общества
Серьезный вклад в этносоциологию внес французский социолог Роже Бастид (1898–1974), специализировавшийся на детальном изучении общества Бразилии. С 1962 по 1974 г. он возглавлял основанный Дюркгеймом журнал «Социологический год». Вместе с тем он является основателем социологической традиции в самой Бразилии, где он положил начало социологической кафедре в университете Сан-Паулу.
Бастид изучал сложную структуру современного бразильского общества, в котором он отслеживал процессы аккультурации, которая, исходя из ядра белых португальского происхождения, распространялась на остальные этнические и социальные группы, причудливо преломляясь на каждом этапе и порождая различные формы синкретизма — католической европейской португальской культуры, скрещенной с религиозными культами и магическими обрядами местных индейских племен или завезенными из западной Африки ритуалами и практиками черного населения.
Роже Бастид считал, что бразильское общество представляет собой уникальный пример наложения социальной стратификации на этническую. Высший социальный класс в Бразилии представляют белые португальцы-католики, который ассоциируются с фигурами мужчин/господ, чаще всего крупных, средних и мелких землевладельцев, в подчинении у которых до последнего времени находились наемные и зависимые работники (преимущественно индейцы) и полностью бесправные черные рабы308.
На низшей ступени стоит чернокожее население, потомки завезенных из Африки рабов. Однако, замечает Бастид, негритянское население Бразилии и Латинской Америки в целом представляет собой явление, с этносоциологической точки зрения совершенно отличное от негров в США. Североамериканские плантаторы последовательно и систематически расселяли чернокожих рабов, привезенных из одной и той же местности по разным поместьям, чтобы не допустить между ними коммуникаций и не дать оснований к восстанию и бунту. Рабы на одной и той же плантации в США принадлежали почти всегда к разным этническим группам, что заставило их в течение нескольких поколений забывать язык, культуру, обряды, т. е. утрачивать этнические черты и принудительно переходить на английский язык (язык господ) и вбирать их культуру. Это была жесткая форма аккультурации, уничтожавшей само ядро этноса. В Бразилии и Латинской Америке группу привезенных рабов селили чаще всего всех вместе, что смягчило аккультурацию и позволило сохранить — пусть частично — этнические, культурные и религиозные признаки309.
Тем не менее в любом случае низший социальный класс в Бразилии четко маркирован цветом кожи.
На средней страте располагаются индейцы, мулаты и метисы. Они заняли среднее положение, сохранив после колонизации определенную степень независимости или удалившись в недоступные зоны джунглей Амазонки и ее притоков, спаслись через практику этнической консервации.
Так социальные страты Бразилии оказались этнически проиндексированы, что представляет собой наглядную иллюстрацию к этносоциологии как таковой.
Бастид добавлял к своим исследованиям психоаналитический метод. Он рассматривал типичную для Бразилии ситуацию, когда белый португальский помещик имеет белую жену-католичку и группу индейских любовниц и наложниц негритянок. Так к социальной и этнической иерархии добавляется гендерная. Бастид прослеживает самосознание многочисленного слоя бастардов, появившихся на свет в силу внебрачных колониальных практик, которые составляют внушительный процент современного бразильского населения. Социальная идентификация бастардов отчетливо демонстрирует устойчивые установки на группу ценностей (белый, мужчина, португалец, собственник, хозяин) и антиценностей (черный, женщина, местный житель, раб, бедняк) 310.
Жильбер Дюран: антропологические структуры воображения
Современный французский социолог Жильбер Дюран, ученик и последователь социолога Роже Бастида и философа Гастона Башляра (1884–1962), развивает идеи Юнга применительно к обществу и социальным структурам. В своем главном труде «Антропологические структуры воображения»311 он предлагает оригинальное развитие теории Юнга о «коллективном бессознательном», которое сам Дюран называет «воображением» или «имажинэром», выделяя в нем различные режимы, отвечающие за те или иные социальные явления, институты и процессы. Общество представляется проекцией воображения в комбинации нескольких его режимов312.
Дюран выделяет один режим «диурна» и два режима «ноктюрна» (мистический и драматический). Все мифы, легенды, религиозные обряды и социальные установления отражают те или иные режимы воображения или их сочетания. Дюран в своих работах описывает символические ряды, соответствующие этим режимам, и идентифицирует их как в мифах, так и в современной литературе, философии и т. д. Для Дюрана режимы «имажинэра» действуют как в архаических обществах (напрямую), так и в сложных дифференцированных обществах — опосредованно.
Режим «диурна» (дневной, светлый режим) ответственен за создание вертикальных иерархий и симметрий «верх–низ». На этом основаны многие религии и культы, в центре которых зафиксировано поклонение небу, свету, солнцу и соответствующим небесным фигурам. В социальной структуре это соответствует социальной иерархии, власти, политике, патриархату. В области культуры — рационализму, воле, логосу. В этом режиме доминируют бинарность, оппозиции, полярности, причем в жесткой обостренной и неснимаемой форме. Это режим дифференциации, различения и разделения313.
Режим «мистического ноктюрна» (первый ночной режим) — полная противоположность «диурну». В нем противоположности снимаются, преобладает символизм ночи, матери, единства, мира, покоя. Его симметрия — центр/периферия. С этим режимом связаны сюжеты воды, земли, покоя, укрытия, еды, комфорта, сна. В дифференцированных обществах этот режим соответствует приватности, домашнему очагу, кухне, семье, женщине, детям, плодородию, мирному рутинному труду314.
Режим «драматического ноктюрна» (второй ночной режим) построен на интеграции бинарных противоположностей, которые признаются, но преодолеваются в синтезе, чтобы уступить место новым парам. Это диалектический режим. Его символы — брак, симметрия право/лево, гендерная пара, неустойчивый и динамический баланс. Ему соответствуют различные дуальные близнечные мифы, построенные на принципе оппозиция/дополнение (комплиментарность). Эротические мотивы в культуре и все, связанное с браком, находится под знаком этого режима. Ему соответствуют различные формы циклов315.
Реконструкция Дюрана позволяет одним и тем же методом изучать социальные и политические институты, хозяйственные практики, мифы, обряды, символы и сновидения — включая психические заболевания, которые также классифицируются по режимам: диурн отвечает за семейство параноидальных расстройств, мистический ноктюрн — за шизофрению и эпилепсию, драматический ноктюрн — за циклотимию и циклофрению316.
Сам Дюран построенную им социологию воображения непосредственно к этносам не применял, но основывал свои теории на обильном этнологическом и этнографическом материале. Примеры конструктивности этого метода применительно к этносу и этносоциологии мы привели в учебных пособиях «Социология воображения»317 и «Логос и мифос»318.
Пьер Бурдье: ангажированная этносоциология
Термин «этносоциология» иногда использовал в своих работах известный французский социолог-марксист Пьер Бурдье (1930–2002). В рамках антропологической дисциплины ему принадлежит ряд критических работ, направленных против структурализма319, которым он противопоставлял «динамический» подход «практики и стратегии», стремясь уйти от постоянства структур и функций, составляющие сущность культурной, социальной и структурной антропологии, а также этносоциологического подхода в целом. Бурдье пытался преодолеть дуализм структурализм/конструктивизм, предложив термин-гибрид «конструктивистский структурализм»320.
Отношение Бурдье к этносу выдержано в марксистском ключе, он понимает под ним первобытное общество, находящееся на ранней стадии социального развития. В духе марксизма он критикует и капиталистическую эксплуатацию, лежащую в основе колониальных практик. На этом основании Бурдье в ранний период своего творчества провозгласил «ангажированную этносоциологию», т. е. активное соучастие левых интеллектуалов-социологов в борьбе европейских колоний за независимость, развитие и построение социализма. На выработку такой модели повлияло личное пребывание Бурдье в Алжире в тот период, когда там развертывалась драматическая борьба по достижению независимости и свободы от французского колониального господства. Бурдье изучал этнические группы кабилов и берберов321.
Для марксиста Бурдье социология и этнология, как и любые науки, отражали классовую идеологию, и поэтому большинство европейских исследований колониальных обществ велось под прессом буржуазно-колониальных клише. Бурдье же призывал к тому, чтобы левая европейская интеллигенция встала на сторону угнетенных колониальных масс, которые выступали социологическим синонимом «мирового пролетариата».
Пьер Бурдье внес несколько новых концептов в антропологию, которые могут иметь определенное значение в этносоциологии. Так, он развил социологически и ранее употреблявшийся философами (в частности, средневековыми номиналистами, схоластами, например, Фомой Аквинским, в Новое время — Э. Гуссерлем) термин «habitus», предлагая рассматривать его как нечто третье между жестко установленными безличными социальными структурами (с которыми имела дело классическая функциональная теория Дюркгейма и структуралистов) и субъективными интересами, желаниями и влечениями индивидуума. «Habitus» есть форма сознания, содержащая в себе набор схем, симпатий, вкусов и диспозиций. Главное отличие «habitus’а» от структуры состоит в большей степени ее индивидуализированности и динамичности. Подробнее Бурдье развивает эти идеи в т. н. «социологии вкуса»322.
Бурдье часто использовал также понятие «поля», пытаясь заменить им более строго иерархизированное понятие «класса». В сложных обществах, считал Бурдье, есть несколько социальных полей, которые не находятся друг с другом в отношениях иерархичности и относительно автономны. Такими полями он считал области политики, закона, образования, искусства и экономики. Каждое поле социологически структурировано иначе и развивается по своим собственным закономерностями. В простых обществах, у тех же кабилов, которых Бурдье изучал в Северной Африке, поля тяготеют к совмещению в единое поле. Современные буржуазные общества, напротив, разносят их друг от друга и создают предпосылки для различных алгоритмов стратификации в каждом из них. Признанный художник отличается от начинающего и не признанного не так. как богатый отличается от бедного, а начальник от подчиненного.
Единство или дифференцированность социальных полей может быть применимо в этносоциологии для анализа критериев отличий этноса от его производных.
Резюме. Этноанализ и постэтнический анализ
Если объединить четыре основные рассмотренные нами научные традиции, мы получаем фундаментальный теоретический и методологический аппарат для построения обобщающей этносоциологической дисциплины. Специфика это дисциплины заключается в том, что она кладет в основание социологического анализа — причем всех типов обществ! — простое общество(койнему), осмысленное как этнос, и далее строит свой анализ на исследовании как самой простой формы, так и ее более дифференцированных производных. При этом именно этнос, (архаическое общество, примитивная форма, общество, Gemeinschaft, community, folk-society) служит точкой отсчета и образцом для сравнения. Этнос берется в качестве «идеального типа» (М. Вебер) или «нормального типа» (В. Зомбарт), с помощью которого и через сравнение с которым изучается любое, сколь угодно сложное, общество.
При этом соотношение этноса и его производных осуществляется в двух магистральных направлениях — по линиям схожести и различия.
Если мы рассматриваем дифференцированное комплексное общество как производную от этноса (линия схожести), значит, мы можем найти в сложном обществе следы этноса, этническое измерение или аналоги феноменам, встречающимся в этносе. Это можно назвать этноанализом сложных обществ.
С другой стороны, можно задаться вопросом о том, чем отличается сложное общество от простого и в чем заключается разница между народом/лаосом, нацией, гражданским обществом и этносом. Это анализ по линии различия, который призван исследовать сложные общества в том, в чем они не являются этносом или являются постэтносом. Можно назвать такой подход «пост-этническим анализом» или изучением порядков этнических производных.
В обоих случаях нам необходимо иметь знания, классификационные модели, аналитический инструментарий, типологии, таксономии и т. п., относящиеся к простым обществам (антропология, этнология, этнография, религиоведение), и то же самое в случае сложных обществ (социология в собственном смысле слова). На пересечении этих двух множеств и конституируется этносоциология. Даже краткий обзор авторов и направлений показывает, насколько основательным и массивным является ее теоретический фундамент и насколько захватывающей и глубокой является история ее научного становления.
Глава 5
ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ В РОССИИ
§ 1. Предыстория российской этнологии
Начало русской исторической науки и этнографии
Интерес к тому, что мы сегодня называем «этнической проблематикой», проявился уже с самого момента возникновения российской науки. В XVIII в. основатель Московского государственного университета Михайло Васильевич Ломоносов (1711–1765), стоявший у истоков российской исторической науки Федор Иванович Миллер (1705–1783), Август Шлецер (1735–1809)), основоположник русской этнографии Василий Никитич Татищев (1686–1750), Иван Никитич Болтин (1735–1792), Михаил Михайлович Щербатов (1733–1790), Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) и многие другие интересовались происхождением славянского народа, древностями, а также другими этническими группами и племенами, выдвигали гипотезы о природе этнонима «русские», пытались систематизировать сведения о тех этносах, которые населяют и населяли Россию с древности. Ими были собраны, обработаны, систематизированы и опубликованы древнейшие русские хроники, летописи и другие материалы исторического и географического характера. Миллер лично принимал участие в этнографической экспедиции в Сибирь и собрал там множество ценнейших сведений о жизни русского народа и других этносов.
Ранние славянофилы: Киреевский, Хомяков, Аксаковы, Самарин
Пик интереса к этнографии в России приходится на XIX век, когда интерес к философии истории (Гегель) и влияние немецких романтиков на российское дворянство достигает апогея. Ярче всего это проявилось в трех явлениях:
– в течениях славянофилов;
– в расцвете российской этнографии и фольклористики;
– в политическом движении народничества.
Первые славянофилы — И.В. Киреевский (1806–1856), А.С. Хомяков (1804–1860), братья К.С. Аксаков (1817–1860) и И.С. Аксаков (1823–1886), Ю.Ф. Самарин (1819–1876) выдвинули тезис о самобытности России, о самоценности русской славянской культуры и о том, что ее отличия от культуры европейской следует рассматривать не как «отсталость», но как выражение особенности народного духа. По сути, вопрос встал о том, что европейское общество, вопреки его претензиям на универсальность, представляет собой локальное культурное явление, которое должно быть поставлено в ряд различных обществ, среди которых русско-славянская, православная культура будет занимать достойное место.
Как известно, славянофилам ответили западники (П.Я. Чаадаев (1794–1856), Т.Н. Грановский (1813–1855), В.Г. Белинский (1811–1848) и др.), позиция которых сводилась к тому, что западная культура является универсальной и все отличия России выражаются в ее «отсталости» и «недоразвитости», что ничего самобытного в ней нет, а если что-то и есть, то надо от этого поскорее избавляться.
В любом случае, славянофилы поставили в центре внимания вопрос о судьбах народов, о различиях тех или иных этнических обществ и о культурных и ценностных особенностях и, соответственно, их значении. Они призвали к систематическому исследованию славянских этносов и славянских культур с целью систематизации знаний об их социальном устройстве, обычаях, нравах, психологических особенностях и т. д.
Тем самым они заложили предпосылки для возникшей позднее этнологии.
Поздние славянофилы. Н.Я. Данилевский
Второе поколение славянофилов развило и обосновало интуиции основателе этого движения. Следует выделить среди них три наиболее ярких фигуры — Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев и В.И. Ламанский.
Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885) в своей основной книге «Россия и Европа»323 впервые формулирует теорию множественности цивилизаций, которые он называет культурно-историческими типами.
В отличие от западноевропейских мыслителей, отождествлявших собственную цивилизацию с единственно возможной, а все остальные относящих к разряду «варварства», Н. Данилевский предложил воспринимать ее как одну из цивилизаций, как «романо-германский» культурно-исторический тип. При этом Данилевский выделил ряд других самобытных и вполне законченных культурно-исторических типов, которые основывались на совершенно иных началах, но обладали всеми признаками длительных и устойчивых цивилизаций, существовавших в течение долгих веков и сохранявших свою идентичность, переживая государства и различные идеологические оформления, эпохи религиозных революций и смену ценностных систем.
Данилевский выделял десять полноценных культурно-исторических типов (цивилизаций): 1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилонско-финикийский, халдейский, или древнесемитический, 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) ново-семитический, или аравийский, 10) германо-романский, или европейский.
Он считал, что в XIX–XX вв. формируется новый, одиннадцатый, культурно-исторический тип — русско-славянский, имеющий все основные признаки цивилизации.
Данилевский полагал, что цивилизации проходят этапы становления — взросления и старения, подобно живым существам. Романо-германская цивилизация, по его мнению, находится в стадии дряхления и упадка. А русско-славянский мир, напротив, только входит в силу.
Понятие «культурно-исторический» тип в этносоциологической терминологии соответствует понятию «народ/лаос».
К.Н. Леонтьев: три типа общества
Константин Леонтьев (1831–1891) также считал, что русская цивилизация и русская культура представляют собой нечто самобытное и что главной особенностью русской истории является ее византизм324, т. е. следование в русле византийской православно-имперской традиции, что резко отличает русскую историю от истории других славянских народов.
Леонтьев развивал учение о типах исторического развития, выделив такие, как: 1) «первичная простота», 2) «цветущая сложность», 3) «всесмешение» («разлитие»). Он считал, что Россия находится на заключительной фазе второго этапа и ее надо «подморозить». Государство должно быть твердым «до суровости», а люди «лично добры друг к другу».
Наиболее ценной в цивилизации он считал вторую стадию «цветущей сложности». Возможно, что Леонтьев заимствовал этот образ у Гердера, сравнивавшего этносы и народы с различными растениями, цветами и деревьями в райском саду325.
Если применить периодизацию К. Леонтьева к этносоциологии, то окажется, что «первичной простоте» соответствует этнос; цветущей сложности — народ/лаос, а всесмешению — гражданское общество и глобальное общество (намеки на которые можно усмотреть уже в буржуазных нациях).
В.И. Ламанский: греко-славянская цивилизация и средний мир
Выдающийся этнограф, историк и исследователь славянской культуры Владимир Иванович Ламанский (1833–1914) принадлежал к поколению поздних славянофилов. Ему принадлежат серьезные работы по культуре славян Восточной Европы, а также одно из первых сочинений по этнографической и социологической компаративистике «Национальности итальянская и славянская в политическом и культурном отношениях»326, где он сравнивал этнокультурные особенности славянских этносов и итальянцев.
Ламанский в своей книге «Три мира Азийско-Европейского материка»327 делил пространство Евразии на три части: романо-германский мир, азиатский мир и греко-славянский мир. Романо-германский соответствовал Западной Европе, азиатский — странам Востока за пределами России, греко-славянский мир он называл «средним миром», предвосхищая тем самым концепцию евразийства.
Русская этнография
Среди русских этнографов, которые внесли вклад в описание, систематизацию и классификацию знаний об обычаях русского народа и других этносов России, следует выделить несколько наиболее выдающихся имен. Таковы И.П. Сахаров (1807–1863), перу которого принадлежит одно из первых собраний русских сказаний328; А.Н. Пыпин (1833–1904), автор объемного труда в четырех томах «Истории русской этнографии»329; знаменитый собиратель, издатель и толкователь русских сказок А.Н. Афанасьев (1826–1871)330; выдающийся фольклорист и этнограф В.Ф. Миллер (1848–1913), специалист по осетинскому языку и культуре осетин331; один из создателей Русского географического общества и автор программы этнографических исследований философ и критик Н. И. Надеждин332 (1804–1856); специалист по русскому фольклору Ф.И. Буслаев (1818–1897)333; И. М. Снегирев (1797–1868), собравший огромный материал о русских праздниках334; один из первых систематизаторов этнографических знаний и провозвестник этнологии Д.К. Зеленин (1878–1954)335; славист, тюрколог и историк П.В. Голубовский (1857–1907)336; выдающийся тюрколог и археолог В.В. Радлов (1837–1918)337, выдающийся славяновед А.Л. Погодин (1872–1947)338; фольклорист Н.Ф. Сумцов (1854–1922)339; специалист по героическому эпосу А.М. Лобода (1871–1931)340; собиратель фольклора и составитель знаменитого словаря В.И. Даль (1801–1872)341; византолог и этнограф М.Н. Сперанский (1863–1938)342; философ А.А. Потебня (1835–1891)343, приоритетно занимавшийся связью языка, мысли и мифа; специалист по русскому язычеству Е.В. Аничков (1866–1937)344; видный историк и филолог А.А. Шахматов (1864–1920)345; лингвист и славист А.И. Соболевский (1806–1908)346; этнограф и палеограф, специалист по белорусскому народу Е.Ф. Карский (1860–1931)347.
Все эти авторы и их работы не утратили ценности. Дело в том, что советская этнография, преобладавшая в ХХ в., хотя сама по себе и продолжала накапливать ценный материал по этнической и исторической проблематике, была построена на догматических идеологических началах и поспешно отказалась от всех тех идей, которые не вписывались в марксистский материалистический подход в объяснении происхождения этносов и культур. Поэтому все наследие досоветской этнографической мысли было подвергнуто «классовой» ревизии и переосмыслено. Результаты такого переосмысления и «прогресса» в науке далеко не всегда были адекватными и приемлемыми. Но естественный научный процесс был искусственно прерван и искажен. Поэтому сегодня только еще предстоит осмыслить ценность того или иного этнографического метода, той или иной классификации, того или иного толкования, свойственного различным авторам и школам. Было бы совершенно непродуктивно довериться тому прочтению русских этнографов, фольклористов и лингвистов, которое осуществили специалисты соответствующих специальностей в советское время. Поэтому для конституирования полноценной этносоциологической дисциплины желательно обратиться к источникам русской этнографии напрямую, соотнести их с основными направлениями западной этнографии и этнологии и без каких-либо предубеждений выделить ценное, актуальное и важное для полноценного восстановления отечественной научной традиции.
Русские народники и их роль в становлении этносоциологии
Тему народа и народной культуры поставили в центре своего внимания ученые, писатели и общественные деятели «народнической» ориентации. Среди них были социологи, экономисты, историки и политические активисты, создавшие в начале ХХ в. партию социалистов-революционеров (эсеры).
Народники, их творчество, их исторические теории важны для этносоциологии тем, что они попытались придать категории «народ» особое концептуальное теоретическое значение и построить на нем свои исторические и социальные учения, предваряя в некотором смысле задачи этносоциологии. Кроме того, многие народники живо интересовались социологией, и первое определение социологии как таковой на русском языке было дано народником и социологом П. Лавровым (1823–1900).
Одним из теоретиков и идейных вождей русского народничества был А.И. Герцен (1812–1870), который, начав с западничества, в конце жизни на основе эмигрантского опыта существенно пересмотрел свои взгляды и пришел к убеждению о самобытности и самоценности русского народа и особенно крестьянского уклада жизни348.
Другим видным идеологом народничества был экономист и социолог В. П. Воронцов (1847–1918), идейный вдохновитель группы, вращавшейся вокруг журнала «Новое слово». Воронцов специализировался на истории русской крестьянской общины и ее экономическом, социальном и этическом устройстве349. Воронцов убедительно показал в своих работах, что в России не сформировалось капитализма и что экономический и социальный строй, оптимально присущий русскому обществу, является аграрным и крестьянским. Работы Воронцова досконально описывают хозяйственный уклад русского крестьянства. Развитие и «прогресс» России Воронцов видел в освобождении крестьянского труда и в создании самобытной версии русского крестьянского социализма.
Такой же позиции в отношении капитализма придерживался известный народник социолог и публицист Н.К. Михайловский (1842–1904). Он жестко противостоял в своих статьях копированию Россией европейского опыта. Ему принадлежит важнейшее замечание о том, что теория Маркса о трех фазисах экономической жизни представляет собой исторический вывод, построенный на основе наблюдений над европейской жизнью, и ее применимость ограничена западным обществом, тогда как Россия, благодаря специфике общинного духа русского, способна миновать капиталистическую фазу и развиваться по своему особому сценарию350. Для этносоциологии идеи Михайловского важны тем, что он старается применять к изучению народа социологические методы.
Пионером этнографических исследований в форме «включенного наблюдения» стал в России собиратель народных песен и преданий, писатель и знаток крестьянского мировоззрения Павел Иванович Якушкин (1822–1872)351, представитель раннего народничества, отправившийся с коробом бродячего торговца-офени по русским деревням с целью глубокого изучения и описания русских народных традиций, легенд, социальных особенностей, религиозных и мифологических представлений.
К народническому направлению тесно примыкали выдающиеся русские этнографы Петр Савич Ефименко (1835–1908) и его супруга, первая женщина — почетный доктор русской истории Александра Яковлевна Ефименко352 (1848–1918). В трудах А.Я. Ефименко дается анализ социальных форм жизни и хозяйственного уклада великорусского и украинского этносов, изучаются черты характера, психологические особенности русских и украинских крестьян. Ефименко подчеркивала в своих работах, «исключительную наклонность великорусского племени к коллективизму, его способность к творчеству в сфере общественных форм»353.
В изучение общинного землевладения и простейших и древнейших форм русского крестьянского быта существенный вклад внесли близкие к народникам экономисты и историки А.С. Посников (1846–1922)354, П.А. Соколовский (1842–1906)355, С.Я. Капустин (1828–1891)356.
Связь религиозных представлений с особыми формами народного быта изучал другой народник, специалист по этнографическим и социологическим аспектам русского старообрядчества А.С. Пругавин (1850–1920)357.
Систематическое изучение социальных, религиозных, хозяйственных аспектов жизни этносов Сибири и быта русских поселенцев положили ссыльные за революционную деятельность народники, занимавшиеся в годы ссылки, а часто и после нее, собирательской, описательной и систематизаторской этнографической деятельностью. Таковы специалисты по якутам, шаманизму и якутским обычаям этнографы И.А. Худяков (1842–1876)358 и В.Л. Серошевский (1858–1945)359, исследователь архаических культов у сахалинских нивхов (гиляков) Л.Я. Штернберг (1861–1927)360, первооткрыватели языка и обычаев юкагиров В.И. Иохельсон (1855–1937)361 и чукчей В.Г. Богораз-Тан (1865–1936)362.
Народники своими теориями и этнографическими исследованиями подготовили плодотворную идейную и методологическую базу для того, чтобы рассмотреть именно этнос как основу социологического анализа, в отличие от марксистов, которые оперировали в своем историческом анализе преимущественно с понятием класса. Именно из-за этого принципиального методологического противоречия большинство их работ были подвергнуты искусственному забвению и замалчиванию в советский период. По той же самой причине следует обратить на них особое внимание при должном развитии этносоциологической дисциплины в наше время.
Русские социологи-классики об этносах
Важным источником для конституирования российской этносоциологии являются работы основателей русской социологии как полноценной академической науки. Мы уже видели, что к этнографии проявляли повышенное внимание русские народники, занимавшиеся социологией (в частности, Воронцов и Михайловский). Другие российские социологи — М.М. Кавалевский, П.А. Сорокин — также уделяли этническим исследованиям в разные периоды своего творчества повышенное внимание.
Крупнейший российский социолог Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) участвовал лично в этнографических экспедициях на Кавказ и тесно сотрудничал с этнографом В.М. Миллером. По результатам своих полевых исследований этносов Кавказа он написал ряд этносоциологических работ, связанных с изучением законов и обычаев и соотношения между ними в обществах Кавказа363, проблемами родства и особенностями родового быта364, структурой кланов у некоторых малых российских этносов365.
Ковалевский впервые поставил в российский науке вопрос о соотношении методов социологии и этнографии, о соотношении этих дисциплин между собой и определении их приоритетных объектов изучения366.
С изучения этнической проблематики начинал свои занятия социологией ученик Ковалевского, крупнейший социолог ХХ в., увлеченный в юности идеями народников (и примкнувший к партии эсеров) Питирим Александрович Сорокин (1889–1968).
Сорокин этнически был русифицированным коми-зырянином, и закономерно, что особенности этноса зырян вызвали его живой интерес.
Сорокину принадлежит ряд этнографических работ по религиозным представлениям у коми-зырян367, выдержанным в духе эволюционистского подхода, от которого позднее этот великий социолог откажется. В анализе пережитков тотемизма368 Сорокин, в духе Дюркгейма, выделяет два особых пространства — «профанное» и «сакральное», на анализе которых он строит свои концепции.
Но для нас важно, что интерес к этнической проблематике лежит в основании его влечения к социологии.
Сорокин посвятил этносу зырян и другие работы, касающиеся их культурного уклада369 и брачных установлений370.
Евразийство как гуманитарная парадигма: множественность этносов и культур
Проблема этноса стояла в центре внимания философского учения евразийства (Н.С. Трубецкой (1890–1938), П.Н. Савицкий (1895–1965), Г.В. Вернадский (1877–1973), Н.Н. Алексеев (1879–1964) и т. д.)371.
Евразийцы основывали свои теории на выводах поздних славянофилов (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.И. Ламанский) и доводили до логического предела их тезис о «множественности цивилизаций», об отсутствии универсального пути развития для всех обществ и культур, на отвержении «романо-германского» колониализма, империализма и расизма. Как альтернативу они выдвигали утверждение особой евразийской самобытной русской цивилизации, у которой и скорость развития, и цель и направление этого развития вытекают из внутренней структуры евразийских цивилизационных ценностей и имеют свою автономную историю и содержание.
Важнейшей чертой евразийского учения была идея о том, что российскую евразийскую цивилизацию строили не только славяне, но и другие этнические группы, каждая из которых внесла своей вклад в этот процесс, который должен быть оценен по заслугам. Особенно евразийцы подчеркивали роль степных этносов — алан, тюрок, монголов, которые придали российский цивилизации дополнительное социальное и пространственное измерение, интегрировав лесных славян и этносы великой степи в единую мировую державу, в то, что сами евразийцы называли «государство-мир».
В контексте евразийского мировоззрения идея самобытности этнических культур как безусловной и первичной ценности, утверждение множественности обществ и цивилизаций сочетались с выявлением социологических особенностей различных политических и идеологических систем и повышенным вниманием к этносам, этническим ценностям и структурам. Евразийский метод в его научном и систематическом выражении может быть рассмотрен как явление, самое близкое к этносоциологии. Евразийство рассматривает общество как форму развития этноса, и множественность этносов признает как основу разнообразия социальных общественных систем.
Евразийцы были жесткими противниками всех форм расизма — как биологического, так и технологического, культурного, эволюционистского и т. д., и последовательно проводили идею полного равноправия культур.
Существенным отличием евразийцев от прежних славянофилов было их благожелательное отношение к культурам малых этносов России и призыв возрождать и защищать их духовные и социальные особенности. Князь Н.С. Трубецкой выдвинул идею «общеевразийского национализма»372, в основе которой лежит идея осознанной солидарности российских этносов в укреплении и развитии единого «большого пространства» России-Евразии.
В другом качестве, в области структурной лингвистики, тот же князь Трубецкой был основателем фонологии и создателем совместно с Романом Якобсоном Пражского лингвистического кружка, где были заложены теоретические основания для всего направления структурализма в лингвистике. Якобсон же, в свою очередь, разделявший многие идеи евразийства, но не участвовавший в нем как оформленном социально-политическом движении, оказал решающее влияние на методологию Клода Леви-Стросса и на появление структурной антропологии (как французской школы этносоциологии).
Две стороны творчества Н.С. Трубецкого — евразийство и структурная лингвистика — редко рассматриваются вместе (одни знают Трубецкого как евразийца, философа, идеолога и общественного деятеля, другие как крупнейшего ученого — филолога и лингвиста), но, на самом деле, и то и другое является следствием его цельного мировоззрения. Культура, цивилизация, этнос, с одной стороны, и язык, с другой, мыслятся Трубецким как структура, заведомо предопределяющая смысловые нагрузки всех производных форм. Язык несет в себе смысл высказываний. Этнос несет в себе смысл общества, его явлений, институтов и процессов.
Можно рассматривать евразийство узко и широко. Если узко, то речь идет о политическом течении в русской белой эмиграции первой половины ХХ в., достигшем апогея к концу 1920-х гг., пошедшем на спад в 1930-е (под воздействием внутренних противоречий) и исчезнувшем к 1940 гг. Но можно понять евразийство и широко — как общую мировоззренческую и научную парадигмальную установку на понимание мира как культурной и этнической множественности, не имеющей единой универсальной меры, где мерой вещей в каждом конкретном случае является не индивидуум, не класс, не раса, но культура и этнос. В широком понимании евразийства структурная лингвистика есть лишь одна из многочисленных возможностей применения евразийского метода к научной сфере. В таком широком понимании этносоциология также может быть рассмотрена как научное направление в рамках евразийской гуманитарной парадигмы.
На пороге российской этносоциологии
Обобщая наш обзор, мы можем проследить, из каких элементов складывалась российская этносоциология и этнология в ХХ в.
В основании лежит гуманитарная парадигма, утверждающая равенство и равное достоинство этносов и культур. Она является общей для самых разных идеологических направлений — консервативных (славянофилы), революционных (народники) и консервативно-революционных (евразийцы). Эта парадигма является по основным своим характеристикам тождественной той парадигме, которая лежит в основании широко понятой этносоциологии на Западе (включая собственно этносоциологию, культурную антропологию, социальную антропологию, структурную антропологию и т. д.). Ф. Боас, Р. Турнвальд, Б. Малиновский, М. Мосс, К. Леви-Стросс исходили именно из равенства и множественности культур и отвержении расизма во всех его формах (включая, эволюционистский или технологический расизм ранних антропологов). На этом же принципе так или иначе настаивали первые славянофилы (в частном случае русской культуры), Н. Данилевский и К. Леонтьев, русские народники и, наконец, в самом концептуализированном и обобщенном виде — евразийцы. Именно на уровне этой общей парадигмы и следует искать глубинные связи этих традиций, которые дали множество направлений, школ, теорий и концепций.
Через применение гуманитарной парадигмы «равенства культур» следует рассматривать и классифицировать богатейший и частично систематизированный этнографический материал, собранный несколькими поколениями российских исследователей на материале как славянских этнических групп (великороссы, малороссы, белорусы, а также древние славянские племена Восточной Европы), так и иных этносов России. Но при систематизации этого моря этнографических данных следует тщательно проверять качество всех имеющихся систематизаций и таксономий. С этого, кстати, началась научная деятельность Франца Боаса в США. Он возмутился тому, что экспозиции Смитсонианского этнографического музея была выстроена по логике вульгарного эволюционистского подхода, что создавало у посетителей ложное представление о смысле, значении и содержании выставленных предметов. В этнографии, как, впрочем, и в других гуманитарных и исторических науках, позиция наблюдателя (собирателя, систематизатора, организатора музейных экспозиций и т. д.) играет решающую роль. Если этнограф совершенно не понимает значения какого-то предмета или явления, едва ли он упомянет его в своих отчетах или выставит в качестве экспозиции. То же самое касается ситуации, когда он что-то понимает неправильно. Но с точки зрения этносоциологии всякий, кто руководствуется эволюционистской теорией или проецирует штампы и стереотипы своей культуры на ту культуру, которую он исследует, скорее всего, неправильно понимает в ней заведомо все.
Поэтому этнографический массив данных, собранных за более чем два столетия в России, требует в рамках этносоциологии фундаментального переосмысления, реклассификации и критического переосмысления — не на основании идеологических догматов, но исходя из признания за каждым этносом, простым или сложным, большим или малым, фундаментального права на обладание уникальным культурным смыслом, собственной структурой и следование собственным путем.
Именно такой подход и стал началом российской этносоциологии, которая оформляется в научную дисциплину только сейчас. При этом первые серьезные шаги ее научного оформления мы видим в этнологии и серии структуралистских исследований, развивавшихся на периферии советского общества, в центре научной сферы которого догматически доминировал эволюционистский (ортогенетический), классовый и прогрессистский подход, несовместимый с гуманитарной парадигмой равенства культур и, соответственно, исключавший саму возможность этносоциологии как науки.
§ 2. Создание в России систематизированной этнологии как науки
Роль С.М. Широкогорова в создании этнологии
Разработка первых теоретических положений этнологии как самостоятельной науки, которую можно рассматривать как начало собственно этносоциологии, была делом выдающегося русского ученого, социолога, этнографа и этнолога Сергея Михайловича Широкогорова (1887–1939)373. Именно Широкогоров ввел впервые в научный оборот понятие «этнос», который был принят как в русскоязычной науке, так и на Западе. Показательно, что выдающийся немецкий этносоциолог Вильгельм Эмиль Мюльманн указывает в качестве основателя «этносоциологии» именно Широкогорова, которого он считает своим учителем и вдохновителем374. Идеи Широкогорова оказали также решающее влияние на другого выдающегося этнолога — Льва Николаевича Гумилева, и хотя формально Гумилев дал Широкогорову критическую оценку375, основные подходы к этносу (и само понятие «этнос») как к системе у Гумилева принципиально заимствованы именно у Широкогорова.
Сергей Михайлович Широкогоров получил филологическое образование во Франции, в Сорбонне. Вернувшись в Россию, он отправился в этнографическую экспедицию на Дальний Восток для изучения одного из самых архаических этносов Евразии — тунгусов (эвенков). В 1922 г. он был отправлен в научную командировку в Китай, откуда больше не вернулся из-за установления на Дальнем Востоке Советской Власти. С этого момента до своей смерти он проживал в Китае, продолжая заниматься научной деятельностью и публикуя свои труды на иностранных языках, в том числе на китайском.
В Китае он исследовал местные этнические группы и оставил о них обстоятельные и документированные научные исследования376.
В течение всей жизни Широкогорову помогала в этнографических экспедициях его жена Елизавета Николаевна, которая разделяла научные интересы мужа и активно помогала ему в установлении контактов с исследуемыми этническими группами.
Введение понятия «этнос» и этнология как наука
Главной заслугой Широкогорова является введение понятия «этнос» как самостоятельной социологической и научной категории, на которой он предлагал в качестве широкой научной программы строить новую дисциплину — «этнологию». Мы неоднократно воспроизводили определение, данное Широкогоровым этносу, но напомним его еще раз: «Этнос есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение и обладающих комплексом обычаев, укладов жизни, хранимых и освещенных традицией, и отличаемых от обычаев других групп»377.
Важно, что Широкгоров выделяет в качестве еще одного фундаментального признака этноса эндогамию, т. е. легитимную возможность заключать брак внутри этой группы. Мы видели у К. Леви-Стросса, какое огромное значение имеет принцип межродовых отношений для структуры общества.
В принципе эндогамии заложено то, что этнос состоит как минимум из двух экзогамных групп (родов), что качественно отличает его от расширенного представления о роде.
Широкогоров, по его словам, столкнулся с идеей «этноса» в 1912 г., обратив внимание в своих полевых исследованиях среди различных племен Дальнего Востока (тунгусов, маньчжуров, орочонов, ульчей, нивхов и т. д.), что все общества, с которыми он сталкивался, несмотря на свои культурные и языковые отличия, обладали рядом устойчивых и постоянно повторяющихся признаков, встречающихся в любом обществе — как архаическом, так и современном. Так и возникла идея «этноса» как научного концепта, обобщающего определенные антропологические, культурные и социальные черты.
«Социальная организация» у Широкогорова
При рассмотрении проблемы этноса принципиально то, как Широкогоров понимает «социальную организацию», которая представляет собой «… комплекс этнографических элементов, регулирующих функционирование общества как постоянного конгломерата людей, образующих, в свою очередь, комплекс с определенным внутренним равновесием, дающим возможность этнической единице воспроизводить себя, сохранять экономическую систему, материальную культуру, умственную и психическую деятельность, т. е. обеспечивать непрерывность существования этнической единицы в ее целостности»378
Данное определение образует ядро этносоциологии. Главное в нем — определение общества («социальной организации») через этнос. При этом Широкогоров намеренно говорит не об «этнической», но о «социальной организации» и описывает ее в терминах «этнографических элементов», «этнических единиц» и т. п. Общество, по Широкогорову, есть в первую очередь этнос. Мы назвали такое отождествление «койнемой». По сути, это не что иное, как развитие мысли Широкогорова и его понимания «социальной организации». В контексте культурной антропологии аналогичную функцию отводят понятию «культура», а в структурной антропологии — «структура».
Социальная организация (койнема) отличается рядом характеристик.
Она состоит из «комплекса этнографических элементов» (комплекс-1); которые регулируют «функционирование общества»; общество определяется как «постоянный конгломерат людей», который, в свою очередь, образует (вторичный) комплекс (комплекс 2), основной смысл которого — сохранять «внутреннее равновесие», которое в свою очередь, обеспечивает «этнической единице» (этносу, обществу) возможность
• воспроизводить себя;
• сохранять (=обеспечивать непрерывность и целостность) себя как
– экономическую систему
– материальную культуру
– умственную психическую деятельность.
Эту сложную дефиниционную конструкцию схематически представить следующим образом:

Схема 12. Общество по Широкогорову
Анализ этой схемы показывает, что первичным является «этнографический комплекс» как инстанция предшествующая всем последующим моментам и этапам и, следовательно, составляющая сущность этноса. Этот первый комплекс и есть этнос в его фундаментальном смысле. Он предшествует конкретному «конгломерату людей», существует принципиально и логически «до» него. Этот «этнографический комплекс» можно назвать структурой этностатики, этнос как постоянное и неизменное (регулирующее) явление. В этот «этнографический комплекс» включаются и природные и культурные факторы как нечто неразрывное целое.
Общество как «конгломерат людей» (т. е. группа людей, проживающая в данное время и в данном пространстве) находится под определяющим регулирующим воздействием «этнографического комплекса». Это воздействие и делает «конгломерат людей» (общество) этносом. Результатом этого воздействия (содержание которого строго неизменно) является выработка второго комплекса (комплекс равновесия). Этот комплекс является, в определенном смысле, реакцией «конгломерата людей» на свою этничность. В нормативном (нормальном) случае эта реакция состоит в прямом воссоздании равновесия и его инструментов, которые в свою очередь будут выступать для следующего (поколенческого и исторического) конгломерата людей уже как «этнографический комплекс» (комплекс 1).
Социальная организация может быть рассмотрена в разных ситуациях. В том случае, когда этнос пребывает в устойчивом и сбалансированном состоянии, комплекс 2 в нем практически полностью совпадает с комплексом 1. Воспринятые по традиции принципы и установки и выработанные на их основе решения и действия полностью совпадают и находятся между собой в строгой гармонии. Люди и группы поступают так, как этого требует этническая культура («этнографический комплекс») и передают следующему поколению — не только через образование или обучение, но через системы мелких и крупных действий, решений, поступков — ту же самую этническую культуру. В таком случае зазор между комплексом 1 и комплексом 2 минимален. Статика «этнографического комплекса» совпадает с постоянством вторичного комплекса равновесия, который эффективно сохраняет и воспроизводит основные моменты общества, обеспечивая непрерывность.
Но этот процесс при определенных обстоятельствах может быть нарушен. И тогда вторичный комплекс (равновесия) может отличаться от первичного (этнографического) с соответствующим изменением модели равновесия и трансформациями традиций и обычаев. Это и есть структурное объяснение социальных и исторических изменений, происходящих в этносах и, соответственно, обществах.
Позднее мы покажем, как работает эта модель и какое значение она имеет для исследования трансформаций этносов и иных, производных типов общества.
Теория равновесия культур — коэффициент этнического равновесия
Широкогоров формулирует важный закон равновесия культур. Основная идея состоит в наблюдении на основе полевых исследования этносов за связью между собой трех факторов:
– количеством членов этнической единицы;
– территории, которую она занимает и
– уровнем культурного и технологического развития.
Широкогоров предлагает для исследования этих закономерностей следующую формулу379:
q / ST = ω
В этой формуле: q — количество населения этнической группы, S — условный уровень культуры (по степени сложности и технологической развитости), T — площадь территории, которую занимает этнос, а ω — постоянная величина, которую Широкогоров называет «коэффициентом этнического равновесия»380.
В левой части этой формулы находятся переменные, способные принимать различные значения. Если считать, что количественный состав этноса остается постоянным (этнос не вымирает), то две остальные переменные оказываются обратно пропорциональными друг другу: уменьшение этнической территории влечет за собой (провоцирует, требует) увеличение уровня культурно-технологического развития; расширение пространства расселения может привести к снижению культурно-технологического уровня. Действие этой закономерности легко проследить на примере городских и сельских пространств.
Если принять, что территория расселения этноса фиксирована внешними условиями (географическими, политическими и т. д.), то рост количества населения прямо пропорционален росту культурно-технологического уровня. Чтобы прокормить большее число людей на той же ресурсной базе, необходимо усовершенствовать технику и научиться извлекать из одной и той же природной среды больше необходимых продуктов и с меньшими затратами.
И, наконец, в случае сохранения постоянного культурного уровня, рост населения прямо пропорционален росту территорий.
Широкогоров считает этот закон универсальным. На самом деле он полностью применим в том случае, если мы имеем дело с этносом в чистом виде, а не с его производными (народом, нацией, гражданским обществом и т. д.). Основные закономерности в изменении жизни этноса он описывает вполне адекватно.
Применяя закон к конкретным случаям, Широкогоров замечает, что вопреки мнениям эволюционистов, уровень культуры является обратимым и подлежит как росту, так и упадку. В доказательство он приводит пример тунгусских племен, которые в эпохи компактного расселения в Манчжурии владели обработкой железа и меди, а также зачатками разведения скота и сельского хозяйства, а впоследствии, будучи оттесненными в таежные северные зоны, оказавшись на больших открытых пространствах, утратили эти навыки и перешли к хозяйственным техникам охотников и собирателей. Тем самым формула этнического равновесия является наглядным подтверждением более общего закона реверсивности (обратимости) социального развития.
Этнос и циклы
Одной из разновидностей общего принципа реверсивности в этносоциологии является идея о циклическом развитии этносов. Она сформулирована у Широкогорова, который интерпретирует этнос как живой организм. И как живой организм этнос проходит периоды роста, расцвета и упадка. Разные фазы зависят от многих факторов, внутренних и внешних, но простое наблюдение за этническими процессами показывает, что мы можем зафиксировать у этноса принципиально различные состояния, соответствующие тому или иному уровню «жизненных сил». Это чаще всего проявляется в количественном показателе — увеличении числа членов этноса. Исходя из закона этнического равновесия, этот процесс автоматически должен сопровождаться либо ростом контролируемой территории, либо повышением культурно-технологического уровня. Так формула этнического равновесия получает дополнительное измерение. Количество этноса зависит от качественного параметра «жизненной силы». Расширение территории или взрыв культурных инноваций (если расширение территории по каким-то соображениям затруднено или невозможно) может произойти только, если жизненные силы прибывают и нарастают. Тогда идет количественный рост этноса и связанные с ним процессы. При этом рост населения может сопровождаться либо пространственным, либо культурным ростом (либо и тем и другим, но в меньших пропорциях, если в обеих сферах есть для этого равная возможность).
Упадок этноса выражается в сокращении населения, но может также проявляться в понижении культурно-технического уровня, если количество населения остается фиксированным.
Циклический характер жизни этноса является одним из ключевых моментов этнологии Широкогорова и станет впоследствии основой теории Гумилева об этногенезе.
Этносы и среда
С.М. Широкогоров выделяет три типа среды, в которой живет этнос. Каждая из этих сред оказывает на него большое влияния. Этнос выстраивает свои стратегии, свое бытие на ассимиляции одних элементов этих сред, на отвержении других, особым образом реагируя на третьи и т. д.
Первичной средой является природная среда381. Она воплощена в переменной T в формуле этнического равновесия и может быть синтезирована в представлении о качественном пространстве382. Взаимодействие со средой — с климатом, географией, флорой и фауной — составляет важнейшее измерение этнического бытия и формирует содержание «этнографического комплекса».
Вторичная среда383 состоит из социальных институтов, культуры, техники, экономических механизмов и находится в гармонии с первичной средой. Структурное единство и гармонизация первой и второй среды, экологическая ориентация культуры являются характерным отличием этнических обществ в их наиболее архаическом и простом состоянии. В формуле этнического равновесия вторичной среде соответствует переменная S.
Третичной средой384 является межэтническая среда, т. е. поле, в котором осуществляется взаимодействие между этносами. Различие этнических культур («этнографического комплекса») порождает зазор, дифференциал в этой этнической среде, который является причиной ряда социальных явлений.
Типы межэтнических взаимодействий
Широкогоров предложил рассматривать три типа взаимодействия этносов между собой:
– комменсализм (от французского «commensal», «сотрапезник») — форма симбиоза (сожительства) двух этносов, которые взаимодействуют друг с другом, но это взаимодействие и обмен не принципиальны ни для того, ни для другого, и в случае отсутствия не причинят никому из них серьезного ущерба;
– кооперация (когда каждый из двух этносов жизненно заинтересован в другом, и в случае разрыва связей оба серьезно пострадают);
– паразитизм (когда один из этносов существует за счет другого, и если разорвать их альянс, то паразитирующий погибнет, а тот, на котором паразитирует другой, выздоровеет).
Широкогоров так описывает комменсализм. Он пишет:
«Наиболее слабою связью двух этносов является форма комменсализма, т. е. когда один и другой этнос могут жить на одной территории, не мешая друг другу и будучи так или иначе друг другу полезны, и когда отсутствие одного нисколько не мешает благополучной жизни другого. Так, например, существование земледельца, занимающего ограниченный район, не заселенный дикими животными, с охотником, питающимся продуктами охоты, вполне возможно. Хотя каждый из комменсалистов может быть независим один от другого, но они могут видеть и взаимную выгоду, — охотник может быть обеспечен продуктами земледелия в случае временной голодовки, а земледелец может иметь некоторые продукты охоты — мясо, меха, кожи и т. д. Примером таких отношений могут быть русские поселенцы Сибири и местные аборигены, а также этносы Южной Америки, уживающиеся на одной территории — земледельцы и охотники Бразилии»385.
О других формах межэтнических связей Широкогоров пишет так:
«Кооперация — это такая форма отношений двух этносов, которая предполагает, что один этнос без другого жить не могут и оба одинаково заинтересованы в существовании друг друга. Такие отношения существуют, например, между индийскими кастами или между завоевателями, выделившимися в сословия дворянства или рыцарства (например, германцы), и местным населением (галлы, славяне). В случае подобной кооперации этносов они избирают такую форму общественной организации, которая оказывается одинаково удобной для обеих сторон. В зависимости от этнической устойчивости далее может произойти биологическое или культурное поглощение одного этноса другим, причем социальная организация продолжает существовать, как это можно наблюдать, например, в некоторых кастах Индии и др., но с переходом к другой форме общественной организации путем слияния или поглощения может произойти полная утеря этнических особенностей386».
«Этнические отношения могут принять и третью форму междуэтнических отношений на одной территории, а именно, форму паразитизма. В этой форме отношений страдательным элементом является одна сторона, а другая остается в выигрыше, причем паразитируемый этнос без всякого для себя ущерба, но даже с большой выгодой, может освободиться от паразитирующего этноса, но паразитирующий после этого рискует погибнуть совершенно»387.
Широкогоров подчеркивает, что все перечисленные типы отношений могут динамически меняться в процессе развития межэтнических связей — комменсализм может переходить в кооперацию, кооперация в паразитизм и т. д.
Этносы и война
Еще одной формой межэтнических взаимодействий является, по Широкогорову, война. Это экстремальный, но постоянный формат межэтнических отношений. Этнос на подъеме подминает под себя этнос в состоянии стабильности или пребывающий в упадке. Так как этносы в целом постоянно динамически пульсируют, перемещаются в пространстве, видоизменяются, транслируют и адаптируют культурные коды, осваивают различные виды хозяйствования, приобретают новые технологические навыки и утрачивают прежние, то, наряду с тремя формами мирного сосуществования, между ними сплошь и рядом вспыхивают войны.
При описании войны как этнического процесса Широкогоров (неудачно, на наш взгляд) прибегает к понятию «биологический» в духе «социал-дарвинизма», хотя вся структура его этнологии в целом более соответствует социологическому подходу. Широкогоров пишет:
«Война есть естественное стремление (психически) растущего этноса, проявляющего таким образом свою биологическую мощь, — война есть чисто биологическая функция этноса, облекаемая им в различные идеологические формы, в зависимости от общего культурного состояния.
Наконец, т. к. территория имеет свой абсолютный предел, как и плотность населения (…). Безграничный рост культуры возможен только за счет территории и, таким образом, рост культуры за предел, когда достигнута абсолютная плотность населения и использована вся территория, неминуемо должен привести человечество к гибели путем утери территории и, вероятно, занятию ее другим животным видом»388.
Психоментальный комплекс и шаманизм
Особое внимание следует уделить поздним исследованиям Широкогорова в области того, что он назвал «психоментальным» комплексом389 — устойчивой надындивидуальной структуры, составляющей парадигму этнического бытия в его духовных и интеллектуальных измерениях. «Психоментальный комплекс» напоминает «пандеуму» Л. Фробениуса или «категории воображения» А. Юбера и М. Мосса. Можно сравнивать его также с «коллективным бессознательным» К.Г. Юнга с той лишь разницей, что для Широкогорова эта категория у каждого этноса сконфигурирована совершенно особым образом. В этом смысле Широкогоров полностью вписывается в общую программу этносоциологии и культурной антропологии, настаивающей на том, что ненаучно и некорректно оценивать одну культуру с позиции другой культуры. Так, Широкогоров пишет: «Применение терминов одного культурного комплекса для интерпретации другого культурного комплекса не всегда способствуют пониманию действительно существующих функций последнего»390.
Основные теоретические обобщения относительно «психо-ментального комплекса» как одной из главных категорий при исследовании этноса Широкогоров сделал в своей последней книге «Психоментальный комплекс у тунгусов». В ней он представляет монументальное описание этнической картины мира тунгусов, включая обстоятельное изложении обрядов, мифов, хозяйственных практик, производственных техник, взаимодействия со всеми тремя средами — природной, культурной и межэтнической.
Особое внимание он уделяет феномену шаманизма как центральному моменту этнического бытия. Именно Широкогоров привлек внимание этнологов и антропологов к фундаментальной социальный функции шамана в архаических обществах, в которых он выполняет ключевые жизненные операции, необходимые для поддержания этнического бытия и трансляции «этнографического комплекса». Эта книга Широкогорова в Европе была воспринята как настоящий прорыв, о котором, например, В. Мюльман писал так: «Как только в 1935 г. вышла книга «Психоментальный комплекс у тунгусов», мне стало ясно, что этим трудом Широкогоров разрушил рамки этнографии (в прежнем значении этого термина) и поставил себя в первые ряды теоретиков этнологии»391. В ней Широкогоров утверждает, в частности, что транс шамана нельзя рассматривать как психическое заболевание, во-первых, потому что в культуре тунгусов и других архаических племен вообще нет строгого эквивалента понятию «психическое заболевание». Во-вторых, шаман характеризуется тем, что контролирует себя, свои действия и состояния даже в состоянии транса, т. е., будучи отличным от обычного, его психическое состояние составляет особую разновидность нормы. В-третьих, среди представителей архаических народов встречаются явления, которые действительно напоминают психические расстройства людей комплексных обществ, но такие люди как раз очень редко становятся шаманами.
Именно вслед за Широкогоровым и во многом опираясь на его исследования шаманизма у народов Сибири и Дальнего Востока, историк религии Мирча Элиаде написал свой классический труд «Шаманизм. Архаические практики экстаза»392.
Формулировка Широкогоровым основных моментов учения об этносе
Приведем окончание программной книги С.М. Широкогорова393, где впервые системно излагаются принципы этнологии.
«Развитие этноса происходит не по пути усложнения каждого явления, но по пути приспособления всего комплекса явлений, — этнографических, психических (физиологических) и т. д. в целях сохранения этноса и, таким образом, наряду с развитием (усложнением) некоторых явлений может происходить редукция (…)»394.
Этот тезис является чрезвычайно важным, т. к. в нем отчетливо формулируется закон социальной реверсивности, на котором строится этносоциология.
«Этносы приспосабливаются к среде двояким образом, во-первых: изменением своих потребностей или изменением своих органов и особенностей, во-вторых: изменением самой среды»395.
Здесь предвосхищаются концепции социальных антропологов и социологов (в частности, Леруа-Гурана) о двойственном коде отношения общества к окружающему пространству и о «производстве пространства» (теория А. Лефевра396).
«Движение этноса при расселении и бытии его всегда протекает по линии наименьшего сопротивления, причем одною из сил является сам этнос, который при принятии решений (а это каждый раз бывает факт осознанный им в части или в целом) связан внешними условиями (среда), суммою знаний (культура) и характером (биологическая мощность)»397.
Здесь важно обратить внимание на то, что именно этносу приписывается инициатива в историческом решении, что контрастирует с классовым или технологическим подходом иных научных парадигм.
«Осознание этносом отношения его к среде, как и осознание процесса движения при расселении и бытии, составляет содержание духовной культуры этноса, развитие которой зависит прежде всего от количества полученного для наблюдения материала, что в свою очередь обусловлено степенью сложности отношений и интенсивности процесса движения»398.
Этот пункт предлагает рассматривать этнос как подвижное динамическое единство, формирующее свой «этнографический комплекс» исторически, в процессе движения.
Далее, Широкогоров строит на основании этнологического метода футурологический прогноз.
«Будущее человека, поскольку его можно видеть в движении этносов, имеет некоторый предел, с приближением к которому либо должно приостановиться дальнейшее развитие (усложнение) культуры, либо должно произойти сокращение территории, что равносильно и в том и в другом случае гибели этносов, а вместе с тем и современного вида человека. По аналогии с видами других животных можно предположить, что:
1) современный вид человека должен иметь меньшую длительность существования, чем другие виды, и
2) конец его должен наступить вследствие невозможности приспособления к имеющим тенденцию изменяться условиям первичной среды;
3) непосредственное выражение конца человека, вероятно, будет проявлено в гипертрофическом развитии культуры и интеллекта человека, подавляющего естественное отправление биологических функций его;
4) формою, в которую уложится это подавление, можно думать, будет вмешательство человека в регулирование самовоспроизведения, т. е. зачатия и рождения потомства.
Между тем, физическое приспособление к изменяющимся органам протекает, видимо, медленнее, чем изменение самих органов, и человечество не будет иметь времени, чтобы приспособиться физически (…)»399.
Этот фрагмент из текста 1925 г. поразителен с точки зрения его актуальности. Пункт первый в этом прогнозе строится на аналогии с биологическими видами, что представляется сомнительным. Зато второй пункт точно воспроизводит позицию современных экологических движений и групп, которые так же, как и Широкогоров почти сто лет назад, предрекают человечеству гибель от экологических катастроф как следствия неспособности адаптации к первичной среде. Третий момент представляет собой предсказание относительно наступления информационного общества, в котором цифровые технологии и виртуальные сети будут постепенно вытеснять органические проявления человека, заменяя их симулякрами. Фигура киборга, описанная в некоторых постмодернистских манифестах (в частности, у Донны Харауэй) — яркий пример того, что этот прогноз сбывается на наших глазах. И, наконец, четвертый пункт реалистично описывает как «контроль за рождаемостью», введенный в Китае, так и прогресс генной инженерии.
Этнология Широкогорова и этносоциология
Большинство моментов теории Широкогорова ложатся в основу этносоциологии как дисциплины, напрямую вытекающей из собственно этнологии. Однако есть несколько моментов, которые требуется прояснить.
1. Широкогоров рассматривает человека как существо биосоциальное, выделяя в нем природную и культурную составляющие в духе классического западного дуализма, введенного Декартом, где все основывается на дихотомии «субъект–объект». Отсюда ряд моментов в работе Широкогорова, которые можно истолковать в биологическом ключе. Эти моменты не затрагивают и тем более не составляют сути учения Широкогорова: как мы видели, в определении этноса он не упоминает общности происхождения, но говорит о «вере в общность происхождения», т. е. о социальном или символическом отношении. Тем не менее апелляции к биологии или зоологии для этносоциологии неприемлемы, и те высказывания или теоретические конструкции, которые у Широкогорова можно истолковать в этом ключе, нуждаются в коррекции, более адекватном истолковании или (если они не поддаются коррекции или перетолкованию) отбрасыванию. Именно здесь проходит граница между этнологией и этносоциологией: этносоциология рассматривает человека исходя из антропологической системы координат, а общества — из социальной. Биология как самостоятельная инстанция для объяснения человеческих, культурных и социальных феноменов не привлекается, а сравнение человеческого и животного сообществ может являться лишь метафорой.
2. Широкогоров не признает особого концептуального значения за термином «народ» («лаос»), считая его излишним. Таким образом, он упускает важнейший момент этносоциологии — переход от этнического общества к его производным, с соответствующими трансформациями социальных структур. В результате сам Широкогоров подчас использует термин «этнос» там, где может идти речь только о народе, нации или даже гражданском обществе. Этнос и нация для него подчас видятся как синонимы. Тем самым Широкогоров применяет метод «примордиализма» там, где он не уместен или уместен частично. Этот терминологический и методологический момент также следует учитывать при рассмотрении его работ. И здесь требуется коррекция. В некоторых случаях то, что он называет «этносом», следует отнести к «народу», а иногда и к «нации». В этом состоит еще одно существенное отличие между этнологией и этносоциологией.
3. Некоторые формы этнических явлений Широкогоров трактует материалистически, полагая, что множество процессов в этносе можно объяснить изменением окружающей среды как совершенно самостоятельного природного явлени. Кроме того, по умолчанию предполагается, что главной движущей силой человека является поиск ресурсов материального выживания. Здесь мы вновь сталкиваемся с представлением об объекте и объективных биологических нуждах как самостоятельных факторах, влияющих на этнос.
Этносоциология откладывает эту «аксиому» материалистического мировоззрения, доминировавшую в науке XIX в., как всего лишь гипотезу, положительное содержание которой почти исчерпано. Если мы готовы признать правомочность архаического общества и его «этнографического комплекса» как равной с другими и достоверной социологической парадигмы, то мы должны признать, что этническая единица (простое общество) не знает ни объекта, ни материи, ни материальной зависимости вообще и даже приблизительных эквивалентов этим реалиям ни в языках, ни в культурах этносов нет. Если мы заведомо считаем, что причиной миграции тех или иных этносов является, например, опустынивание ранее плодородных пастбищ, а объяснения самих этих племен (например, что злой дух — Эрликхан — разгневался на них за их жертвы небесному богу Тэнгри) отбрасываем как «иррелевантный бред», мы ведем себя ничуть не лучше колонизаторов, расистов и империалистов, убежденных в своем бесконечном превосходстве над «дикарями» и «примитивами». Вместо того чтобы объяснять изучаемым этносам, кто такие Аристотель и Дарвин, этносоциолог должен прежде узнать, кто такой Эрликхан. Только полная и равноправная взаимность способна быть основой полноценного диалога культур, которым и является научное поле этносоциологии.
Лев Гумилев: новый этап этнологии
Знаменитый русский историк Лев Николаевич Гумилев внес в развитие этнологии, обозначенной и конституированной Широкогоровым, ряд совершенно новых моментов, разработав собственное оригинальное учение. Сегодня ведутся споры, в какой степени Гумилев наследовал идеи и подходы Широкогорова, а в какой он их отбрасывал и критиковал. Не подлежит сомнению, что Гумилев, работавший в условиях СССР, был знаком с книгами Широкогорова, которые были недоступны для большинства советских историков и практически не упоминались и не учитывались. Гумилев не только упоминал о Широкогорове, но целый ряд его важнейших моментов его собственной доктрины, начиная с базового термина «этнос», теории этнических циклов, идеи о симбиозе этноса с окружающей средой и заканчивая концепцией межэтнических процессов, является развитием или усовершенствованием этнологических принципов, заявленных именно Широкогоровым — как в контексте русскоязычных исследований, так и в мировом масштабе. Мы видели, что один из главных теоретиков германской этносоциологической школы, в свою очередь, признавал Широкогорова своим вдохновителем и учителем.
Теории Гумилева представляют собой развитие идей Широкогорова, хотя многие аспекты Гумилев воспринял критически и попытался преодолеть и превзойти.
Можно считать, что учение Гумилева есть надстройка над учением Широкогорова. При этом надо учитывать также влияние, которое оказала на Гумилева евразийская мировоззренческая школа, также полностью закрытая и недоступная для остальных советских ученых.
Определения этноса у Гумилева и их двусмысленность
Главной теоретической программной книгой Льва Гумилева является «Этногенез и биосфера земли»400. В ней Гумилев излагает свою концепцию становления, возникновения и деградации этносов. В этом смысле она представляет собой развитую научную модель, которую сам Гумилев считал следующей ступенью развития этнологии.
Надо сразу заметить, что определение, даваемое Гумилевым этносу, следует признать сомнительным, противоречивым и отличающимся в худшую сторону от той ясной картины, которую дает формула Широкогорова. В нескольких местах Гумилев говорит, что «этнос явление не социальное, потому что может существовать в нескольких формациях»401. Сама эта идея абсолютно верна, т. к. показывает, что этническое измерение присутствует не только в простых обществах, но и в сложных. Но если воспринимать ее слишком буквально и отказывать этносу в том, что это одна из форм общества, мы утратим научную строгость и придем к противоречию. Правда, в другом месте Гумилев говорит об этносе как о «форме коллективного бытия, присущей лишь человеку»402. Это совершенно верно: ведь форма коллективного бытия и есть общество и социальное явление.
Еще в одном месте Гумилев определяет этнос как «устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам и отличающийся своеобразным стереотипом поведения, который закономерно меняется в историческом времени.403» Здесь мы видим явное влияние Самнера («мы-группа» и «они-группа»), указание на «естественность» (примордиалистский подход) и закономерность (т. е. упорядоченность) исторических изменений (это последнее составляет особенность именно гумилевского подхода).
Вместе с тем Гумилев явно склонен рассматривать человека как биологический вид. Так, он утверждает, что человек «как крупный хищник (…) подвластен эволюции природы»404. Многие этнические процессы Гумилев рассматривает через призму эволюции и биологического материализма. С точки зрения этносоциологии это несколько умаляет значение теорий Гумилева, в которых можно легко узнать эволюционизм и биосоциальный подход, свойственный теориям XIX в. и преодоленный в немецкой этносоциологии, культурной антропологии школы Ф. Боаса, социальной антропологии Б. Малиновского и Рэклифф-Брауна, французской социологии М. Мосса и структурализме К. Леви-Стросса. Однако не стоит относиться к подобным формулировкам слишком строго. Гумилев писал свои научные труды в советское время, когда в науке доминировали материалистические и эволюционистские догмы, и он был вынужден с ними считаться, хотя все острие его теории было направлено совсем в ином направлении. Поэтому теорию этногенеза Льва Гумилева следует рассматривать в историческом контексте, в котором он ее создавал, и пытаться выделить в ней наиболее ценные и значимые интуиции и прозрения, оставляя в стороне некоторые определения, формулировки и методы, которые могут показаться сомнительными или противоречащими основным положениям этносоциологии. Гораздо важнее включить Гумилева в этносоциологический корпус знаний на основании того, что в его теориях есть достоверного и содержательно обогащающего, нежели исключить его, ссылаясь на те или иные высказывания, не вписывающиеся в этносоциологический контекст.
Пассионарность и ее вариации
Основная мысль теории этногенеза у Гумилева в общих чертах такова.
В основе всех этнических процессов лежит «пассионарнасть». Этот термин принадлежит «Гумилеву», образован он от латинского слова «passio», которое означает «страсть», а также «аффект», «страдание» и т. д. Сам Гумилев подчеркивает первое значение. «Пассионарность» — это страсть, страстность, изобилие внутренней энергии, наличие которой превосходит тот необходимый минимум, который необходим человеку для поддержания своего существования в обычных условиях. Гумилев делит всех людей на три типа — пассионарии, гармоничные личности и субпассионарии, и на этом основании объясняет логику развития этнических процессов, которые он обобщает в категории «этногенеза», т. е. процесса возникновения и исчезновения этноса.
«Пассионарий», по Гумилеву, — это человек с повышенной пассинарностью, его внутренняя энергия, его «страстность» избыточна по отношению к тем затратам, которые необходимы для ведения обычной для коллектива образа жизни. Пассионарий может быть героем, вождем, первооткрывателем, проповедником, но может быть разбойником, грабителем, маньяком, разрушителем. Пассионарность — это жизненная энергия, взятая по модулю; она может быть потрачена как на благие, так и на злые цели. При этом важно, что пассионарий способен бросить вызов смерти, он не боится ее, т. к. его жизненная энергия избыточна, и сам он готов спроецировать ее и по ту сторону земного существования. Поэтому пассионарий легко становится фанатиком и первый идет в бой, не только не уклоняется от войны и риска, но, наоборот, ищет их, стремится к ним. От того, какой процент пассионариев накапливается в обществе, зависит, по Гумилеву, стадия этногенеза.
Гармоничный человек также обладает пассинарностью, но в ограниченном объеме. Он не бросает вызов смерти и не готов идти на подвиг, но наделен достаточной энергией, чтобы поддерживать существование на одном и том же уровне. Общество, где преобладает тип гармоничной личности, находится в устойчивом состоянии, оно не развивается, но и не деградирует, существуя в стационарном, статичном режиме.
Субпассинарий, по Гумилеву, это девиантный тип, обладающий пониженной пассинарностью, которой не хватает даже для поддержания обычного жизненного цикла. Но этот дефицит жизненной энергии толкает субпассинария к тем источникам энергии, которые обладают избытком, т. е. к пассионариям. Субпассинарии часто составляют «свиту» пассионариев, питаясь заимствованной жизненной силой. Их число увеличивается в периоды упадка и разложения этноса. Субпассионарии трусливы, но подлы и изворотливы. Часто им удается установить контроль над гармоничными людьми «от имени» пассионариев. Они питаются энергиями распада и умирания. Преобладание в обществе субпассионариев является признаком его разрушения и ухода из истории.
Гумилев в своих работах приводит множество исторических примеров этих типов, из которых состоит в разных пропорциях любой этнос.
Фазы этногенеза
Важнейшим вкладом Гумилева в этнологию является теория о циклах этногенеза. Гумилев считал этнос живым существом, которое имеет всю гамму жизненных циклов — от рождения до взросления, старения и умирания. Это чрезвычайно важный момент, т. к. прямо противостоит прогрессу и ортогенезу, и нюансирует гимилевское представление об эволюции. В истории этносов, по Гумилеву, нет эволюции, но есть циклы. Подъем сменяется упадком, и эти фазы чередуются между собой.
При этом Гумилев считает, что полный жизненный цикл этноса совершается приблизительно за период 1200 лет, хотя многие этносы (как и люди) гибнут под воздействием внешних обстоятельств раньше. Гибнущие этносы рассыпаются на составляющие, которые позже становятся новыми элементами в процессе этногенеза. Этот процесс повторяется бесконечно.
Гумилев выделяет следующие фазы этногенеза: гомеостаз — толчок — подъем — перегрев или акматическая фаза — надлом или инерционная фаза — обскурация — мемориальная стадия.
Процесс этногенеза начинается из состояния гомеостаза, т. е. полного и устойчивого баланса этноса с окружающей средой. В таком состоянии доминирует гармоничный тип, обладающей ровно таким запасом жизненных сил, какой необходим для жизнеобеспечения в данной природной среде.

Схема 13. Фазы этногенеза по Гумилеву405
Толчок провоцируется взрывом пассионарности в этносе. В этот период в этническом коллективе, находящемся в равновесии с окружающей средой, происходит резкое увеличение числа пассионариев. Причину этого загадочного явления Гумилев объяснял довольно экстравагантными гипотезами, в частности, изменениями в циклах солнечной активности. Его также удивляла геометрическая стройность синхронных вспышек пассионарности у разных этносов в одно и то же время и на одной и той же пространственной оси. Толчок дает старт процессу этногенеза, когда этнос приходит в движение, количество пассионариев растет, и именно они задают всему этносу героический импульс, поталкивая к военным завоеваниям, миграциям, интенсивному и активному образу жизни.
Так достигается следующая акматическая фаза, представляющая собой пик этногенеза, когда этнос достигает вершины своих исторических деяний — завоеваний, освоений новых земель, создания империй.
В какой-то момент наступает перегрев, т. к. количество пассионариев и диктуемый ими стиль этнического бытия начинает расшатывать устойчивость социальной системы. Происходит надлом и начинается спад.
Некоторое время этнос еще сохраняет жизнеспособность, которая реализуется в более мирных сферах искусства, культуры, технического развития. Это инерционная фаза. В этот период в обществе начинают преобладать субпассинарии, активно разлагающие этническую систему. Скольжение по нисходящей линии этой фазы приводит к распаду этноса и его возврату к гомеостатической фазе. Это Гумилев называет «обскурацией». Далее, память о выдающихся достижениях этноса остается только на уровне культуры. Это мемориальная стадия. В некоторых случаях этнос исчезает совсем, если вместо новой доминации гармоничного типа в нем сохранится от предыдущих фаз критическое количество субпассионариев.
Масштабирование этноса
Гумилев предлагает собственное членение этноса, оригинальную таксономию.
Она состоит из:
консорции — конвиксии — субэтноса — этноса — суперэтноса
«Консорция — группа людей, объединенных одной исторической судьбой; либо распадается, либо переходит в конвиксию»406.
«Конвиксия — группа людей, объединенных однохарактерным бытом и семейными связями. Иногда переходит в субъэтнос. Фиксируется не историей, но этнографией»407.
«Субъэтнос — элемент структуры этноса, взаимодействующий с прочими. При упрощении этносистемы в финальной фазе число субъэтносов сокращается до одного, который становится реликтом»408.
«Суперэтнос — группа этносов, возникших одновременно в одном регионе, и проявляющая себя в истории как мозаичная целостность»409.
Гумилев рассматривает эти таксономические единицы как пошаговые этапы в становлении этноса. В истоке лежит консорция, простая группа людей, объединившихся во имя решения какой-то задачи. Большинство консорций распадаются без следа. И лишь некоторые оказываются стойкими и постепенно превращаются в конвиксии, где к общему групповому проекту добавляются семейные отношения. Далее конвиксии могут оставаться на одном уровне, сочетаясь с другими конвиксиями. Но в определенных случаях они складываются в более органичную и устойчивую общность, называемую «субъэтносом». Субъэтносы могут объединяться между собой и без создания нового этноса. В этом случае несколько субъэтносов, сохраняющих свои отличия, образуют форму сожительства, которую Гумилев называет «симбиозом».
Из субъэтносов складывается этнос. Несколько этносов могут жить друг с другом в относительной близости и взаимозависимости, но не переходить в суперэтнос. Это Гумилев называет «ксенией» (от греческого слова «гость», «чужой»). Они остаются «чужими» друг другу.
В определенных случаях образуется особая форма сочетания нескольких этносов, которые объединяются в суперэтнос. Если сочетание гармонично и этносы комплиментарны друг другу (то есть взаимодополнительны), то суперэтнос может быть устойчив; если же этносы слабо комплиментарны, то они образуют «химеру», полиэтническую структуру, тяготеющую к распаду и деградации.
Неизвестная история Евразии
Огромной заслугой Гумилева является историческая реконструкция многих забытых и слабо изученных эпизодов из истории этносов Евразии. Если этнический мир Средиземноморя, Ближнего Востока, Европы, Китая, Индии, Ирана и т. п. досконально изучен, то народы Великой Степи долгое время оставались на периферии этнографического и исторического интереса, обобщенно классифицировались как варварские общества или кочевые империи. В своих многочисленных трудах, посвященных этим этносам410, Гумилев показывает, что в Евразии мы имеем богатейший материал по истории самых разнообразных этнических групп, которые демонстрировали эпохи величия и заката, увлекались мировыми религиями и возвращались к формам архаического политеизма и шаманизма, развивали оригинальные политические и социальные системы, создавали разнообразные формы государственности, воевали друг с другом, переживали династические перевороты, проявляли чудеса героизма и жертвенности и вместе с тем бездны падения и предательства. Иными словами, этническая история Евразии, которым мировая история уделяет пару-другую параграфов, не менее содержательна, разнообразна и насыщена историческими событиями, неожиданными поворотами, взлетами и падениями, драмами и волнениями, нежели история всех остальных, намного более изученных, культур и этносов Земли.
Гумилев в своих этнографических и исторических трудах изменил образ Евразии, вернув человечеству огромный и практически неизвестный фрагмент этнической истории. В этом состоит фундаментальный вклад Гумилева в этнологию.
Вместе с тем, будучи последователем первых евразийцев, Лев Гумилев сознательно стремился продемонстрировать пристрастный и избирательный подход западной исторической науки, которая считает достойным упоминания только те события, социальные формации и экономические системы, которые напоминают историю самого Запада и согласуются с ней. Западная историческая наука является «этноцентрической» и расистской в своих основаниях. И работы Льва Гумилева, знакомя читателей с гигантским полем совершенно неизвестной Западу этнологической и культурной истории, демонстрируют наглядно это обстоятельство. Тем самым официальная (западническая) версия истории релятивизируется, и незаслуженно забытые незападные культуры и этносы получают право на полноценные историческое бытие в общем контексте истории человечества.
Терминология Гумилева и таксономия этносоциологии: коррекции и соответствия
Этнология Льва Гумилева многообразна, многомерна и чрезвычайно важна для этносоциологии. Вместе с тем его методы, термины, толкования определенных понятий, систематизации и классификации являются в высшей степени оригинальными и существенно отличаются от соответствующих терминов и классификаций этносоциологии и культурной антропологии. Обращение к Гумилеву напрямую и безальтернативно грозит запутать, а не прояснить многие этносоциологические модели.
Поэтому следует установить некоторые связи и выявить отличия между терминологией Гумилева и таксономией этносоциологии. В этом случае теории Гумилева смогут существенно и качественно обогатить этносоциологические знания, ее методологию и инструментарий.
В высшей степени проблематичной является таксономия Гумилева «консорция–конвиксия–субъэтнос–этнос–суперэтнос». Переход от консорции как группы граждан к конвиксии как общине, связанной семейными узами и обычаями, не поддается фиксации, т. к. любая группа уже заведомо создается на основании какого-то этноса. Консорция, равно как и конвиксия и субъэтносы, могут быть выделенными социальными единицами внутри этноса или в ходе этнических трансформаций, например, взаимодействия нескольких этносов или в результате определенных этносоциологических процессов (например, эксклюзии из этноса группы девиантов, автономизации определенной профессиональной группы и т. д.). Но ни субъэтноса, ни этноса из групп не складывается. Любая группа вынуждена общаться на каком-то языке, а не придумывать свой собственный, а значит, любая группа уровня консорции и конвиксии уже имеет заведомо этническую природу. Этнос предшествует ей, а не складывается из нее.
Сомнительно также и дробление этноса на таксоны субъэтносов, конвиксий и консорций как апостериорное масштабирование этноса, т. к. конвиксия как группа индивидуумов не является базовой социальной группой этноса. Этой минимальной внутренней составляющей этноса является семья и род (генос). Консорция представляет собой весьма специфическое явление, которое ни в коем случае не может быть рассмотрено как базовый таксон этноса. А причина того, почему Гумилев выделяет именно консорцию в этом качестве, будет понятна нам позднее. Пока лишь следует отметить неприемлемость общей структуры масштабирования этноса Гумилевым как общей и верной для всех случаев модели. Она применима лишь для отдельных исторических ситуаций, которые мы будем рассматривать отдельно.
Второй важнейший момент. То, что понимает под этносом этносоциология (койнема, простейшая форма общества), в терминологии Гумилева соответствует лишь одной фазе, рассматриваемой Гумилевым — фазе гомеостаза. Этносоциология понимает этнос как минимальную форму общества, находящуюся в статическом состоянии и в балансе с окружающей средой. Этнос, таким образом, как его понимает этносоциология, исключает этногенез, скачок пассионарности и процесс усложнения и кинетической экспансии. Начало этногенеза, пассионарный толчок, в этносоциологии есть переход от этноса к его первой производной — народу, лаосу. Поэтому то, что сам Гумилев называет «этногенезом» следует назвать «лаогенезом», т. е. процессом образования народа из этноса. Сам Гумилев не делает этого различия, поскольку его подход является обобщенно примордиалистским и биосоциальным, и фундаментальные социологические различия между этносом и народом ускользают от его внимания. Народ и этнос для Гумилева — две разные фазы исторического существования одного и того же субъекта, который он называет «этносом». Это и делает его теорию уязвимой для критики со стороны социологов. Этнос (в понимании Гумилева) в акматической стадии и этнос в гомеостазе (т. е. собственно этнос как простейшее общество) — это совершенно разные социологические явления. Между ними есть связь, но такая же, как между аргументом и функцией от него.
Явление пассионарности есть четко идентифицированный самим Гумилевым момент трансформации этноса в лаос. Это чрезвычайно важный фактор, но его значение откроется нам в полной мере, если мы уточним его в строгих этносоциологических терминах. Наличие критической массы пассионариев является характерным признаком народа (лаоса) и, соответственно, движущей силой лаогенеза. Тогда как собственно этносом следует считать минимальное сообщество людей гармоничного типа, т. е. гомеостаз.
Что же касается суперэтноса, то он по многим параметрам напоминает «большой народ», создающий грандиозные империи, цивилизации и религиозные культуры, т. е. является не качественно новой производной от этноса, но максимальным масштабом исторической конструкции, созданной народом. Народ по определению всегда в той или иной степени полиэтничен.
Нация же является совершенно особым историческим случаем, которой надо отличать, как мы неоднократно подчеркивали, и от народа, и тем более от этноса.
Поэтому пользоваться моделями Гумилева в этносоциологии следует с большой осторожностью, всякий раз сверяя его терминологические и концептуальные конструкции с соответствующим рядом этносоциологических понятий и теорий.
Структурализм в СССР: В.Я. Пропп
Еще одним важным источником этносоциологических знаний в контексте русскоязычной науки являются труды структуралистской школы, основателем который был выдающийся русский ученый, историк и специалист по русской фольклорной традиции Владимир Яковлевич Пропп (1895–1970). На Проппа повлияли идеи французского этнографа и издателя Эмиля Нурри (1870–1935), писавшего под псевдонимом «Поль Сэнтив». Нурри предлагал расшифровку волшебных сказок как древних ритуалов инициации, переживаемых в воображении. Пропп, вслед за Нурри411, рассматривал волшебные сказки как повествование о древних архаических культурных и хозяйственных практиках и предложил для их анализа использовать структурный метод412.
Этот метод сводится к тому, чтобы из множества сюжетов и персонажей сказок выделить ограниченное количество функциональных комплексов, которые отражают историческое содержание соответствующих хозяйственных и магических ритуалов, зашифрованных в напластованиях более поздних эпох.
Пропп считал, что древнейшим ядром волшебной сказки является комплекс тем, сюжетов и ситуаций, связанных с охотой, собирательством и сопряженных с ними обрядов. Он тщательно анализирует огромные фольклорные пласты для выявления этого функционального древнейшего ядра.
Сюжеты, связанные с этим самым архаическим пластом, основаны на принципиальном обряде смерти и воскрешения героя и обмене со зверем (чудовищем, сказочным антагонистов) жизненно важными атрибутами. По Проппу, чудовище должно проглотить героя, чтобы дать ему новую жизнь и восстановить баланс между охотниками, убивающими зверей, и зверьми, символически убивающими охотников.
Пропп также прослеживает и другие архаические социальные институты, память о которых запечатлена в сказках — мужские союзы и дома, пубертатные инициации, особые ритуалы, которые проходили дети вождя племени, структуры и обряды брачного цикла и т. д.
Другим более поздним слоем волшебных сказок являются аграрные сюжеты, характерные для обществ, менее зависящих от охоты и собирательства и производящих продукты питания в ходе сельскохозяйственных работа и разведения скота. В аграрном контексте многие архаические охотничьи обряды и магические ритуалы утрачивают свой смысл и меняют свое значение. Сюжеты, функции и персонажи интерпретируются в ином контексте, отражающем новый — аграрный — социальный уклад. Например, обмен между культурой (человеком) и природой в форме пожирания посвящаемого охотника символическим зверем (рыбой, драконом, чудовищем) и последующего его воскресения, где зверь выступает как комплиментарный партнер, превращается в аграрной фазе в битву с чудовищем (змеем, драконом), утрачивающим свое комплиментарное измерение и становящимся радикальным антагонистом, которого требуется победить и уничтожить.
И, наконец, самым поздним пластом является героический эпос, который описывает социальные модели и процессы ранней государственности с ярко выраженной социальной стратификацией, подчеркиванием сословных взаимоотношений и центральным положением типа индивидуального героя-богатыря413.
Если оставить в стороне эволюционизм и материализм Проппа в его объяснении эволюции экономических структур архаических обществ, его метод может быть полностью интегрирован в этносоциологию. Большую ценность представляет структурный и функциональный анализ фольклора и особенно волшебных сказок, т. к. он проливает свет на структуру архаического общества, т. е. собственно этноса, и позволяет воспроизвести его основные социологические параметры.
Волшебные сказки в своих архаических ядрах (охотничьем и аграрном) относятся к дописьменной культуре этноса.
Героический эпос — к первой производной от этноса, народу/лаосу.
Продолжателем дела Проппа, как мы уже говорили, был структуралист Альгирдас Греймас.
В.В. Иванов, В.Н. Топоров: структуралистские исследования филологии и антропологии
Два крупнейших русско-советских филолога, лингвиста и культуролога, часто писавшие совместные монографии, Вячеслав Всеволодович Иванов и Владимир Николаевич Топоров (1928–2005) являются выдающимися представителями отечественного структурализма, развивавшими методологии Романа Якобсона, Николая Трубецкого, Клода Леви-Стросса и Владимира Проппа применительно к исследованию мифологий, сакральных текстов и различных языковых и филологических традиций. В частности, Вяч.В. Иванову и Т.В. Гамкрелидзе принадлежит фундаментальный труд по реконструкции индоевропейского языка и деревней индоевропейской культуры, мифологии, социальной системы414.
Иванов и Топоров написали совместно ряд важнейших работ по древнеславянским мифологическим представлениям и языковым особенностям415, позволяющих реконструировать основные параметры древнеславянских обществ, т. е. описать первичные формы славянских этнических групп. Важнейшей работой на эту же тему является книга В.Н. Топорова «Предистория литературы у славян»416. Для российской этносоциологии эти работы имеют основополагающее значение, т. к. позволяют на их основе реконструировать структуры этноса, т. е. выяснять параметры койнемы применительно к истории трансформации русского общества.
Иванов и Топоров выступили инициаторами составления и издания, а также авторами многих статей двухтомного издания «Мифы Народов Мира»417, который до сих пор является самым полной и авторитетной энциклопедией по вопросам мифологии, когда-либо издававшейся на русском языке.
Огромным значением для понимания структуры этноса как дуального явления (дуальность родов, как главное условие эндогамного общества) обладает курс лекций Вяч.В. Иванова «Дуальные структуры в антропологии»418. Этот труд имеет особое значение для этносоциологии, т. к. подробно описывает дуальные формы в структуре этносов и других, более дифференцированных социальных организаций. В частности, Вяч. Иванов останаливается на идеях английского этнолога Артура Хокарта, касающихся чисто ритуальных функций королевской власти в некоторых архаических обществах419. Иванов развивает дальше идею о том, что наиболее гармоничные типы древних обществ разводят по разные стороны статус и прямую политическую власть, основанную на насилии и предполагающую прямое подчинение. Король в таких обществах пользуется максимальным престижем и высшим статусом, но его властные полномочия ничем особенно не отличаются от остальных членов. Ритуальный характер королевской власти, по Иванову, предшествует ее становлению властью прямой и деспотической. Такое представление опрокидывает привычные гипотезы эволюционистов относительно того, что примитивные общества основаны на принципы прямой доминации вожака, сильнейшего. Иванов, вслед за Хокартом, показывает, что в ряде случаев имеет место прямо противоположная картина: статуарное превосходство и престиж короля переходят в легитимацию насилия вследствии вырождения и деградации первичных социальных систем, представлят собой своего рода узурпацию и девиацию420.
Иванов отдает должное советскому этнологу и антропологу А.М. Золотареву421, который на основании исследования дуальных систем (близнечных мифов, бинарных опозиций и т. д.) в культуре архаических обществ построил развитую теорию, имеющую огромное значение для социологии в целом. Иванов ссылается при этом на неопубликованную рукопись Золотарева422, в которой и содержатся наиболее значимые выводы относительно дуальных структур и их определеяющего значения для устройства общества в целом.
Классическим является труд Иванова по антропологии «Наука о человеке»423, где обобщенно изложены наиболее релевантные темы, методы и теории современной антропологии, рассматриваемой в структуралистской оптике.
Иванов является главой Русской антропологической школы РГГУ.
В советское время Вяч.В. Иванов и В.Н. Топоров (равно как и Л.Н. Гумилев) находились на периферии официальной науки, т. к. исповедовали структуралистский подход, фундаментально отличавшийся по своим идеологическим предпосылкам и методологически от марксизма. Идеям этих выдающихся ученых в наше время следует воздать должное. Вклад их в этносоциологию бесценен.
Советская этнография и история этносов
Среди советских этнографов следует выделить несколько выдающихся исследователей, которые собрали и классифицировали огромный массив этнографического и этнологического материала.
Выдающейся фигурой советской этнографии, сохранившей традиции русской этнографической школы в советское время и обеспечившей тем самым частичную преемственность в условиях жесткого идеологического диктата, был Сергей Александрович Токарев (1899–1985). Он начинал свои полевые этнографические и антропологические исследования среди народов Сибири424, но потом расширил круг своих интересов, включив в него и народы Европы, и индийские этносы, и аборигенов Австралии. Токарев способствовал знакомству советских ученых с работами и идеями западных антропологов и этнографов425 и написал обобщающие труды по истории отечественной этнографии426. Большое внимание он уделял религиозным представлениям архаических этносов427. Под его руководством вышла монументальная энциклопедия «Этнография народов СССР»428.
Древнерусскому обществу, его социальному укладу и религиозным представлениям посвятил свою научную деятельность выдающийся историк и этнограф академик Борис Александрович Рыбаков (1908–2001), бывший директором Института Археологии АН СССР. Рыбакову принадлежат классические работы по исследованию славянского этноса «Древняя Русь: Сказания, Былины, Летописи»429, «Язычество древних славян»430, «Язычество древней Руси»431 и т. д. Работы Рыбакова являются основополагающими для изучения структуры архаических корней русского общества.
Ценнейшие реконструкции древнейших этапов русской истории и ее этнических, социальных и этнографических особенностей мы находим у современных историков И.Я. Фроянова и Ю.И. Юдина432, получивших известность еще в советский период и внесших значительный вклад в исследование русского этноса. Юрий Иванович Юдин (1938--l995) был учеником и последователем Проппа и продолжателем структуралистского подхода к русской истории. Ему принадлежат глубокие труды по реконструкции функционального значения центральных фигур русского фольклора433. Игорь Яковлевич Фроянов — автор таких произведений по истории восточнославянских этносов, как «Киевская Русь. Очерки социально-политической истории»434, «Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и политической борьбы»435, «Рабство и данничество у восточных славян»436 и т. д.
Следует упомянуть выдающегося антрополога и этнолога Аркадия Федоровича Анисимова (1910–1968), исследовавшего народы Восточной Сибири и собравший огромную базу данных о социальном устройстве якутского и эвенкийского этносов437. Анисимову также принадлежат обобщающие теоретические работы по религиозным формам и представлениям архаических народов, проблемам «первобытного мышления»438 и т. д.
Огромный вклад в отечественную этнографию внесла Екатерина Дмитриевна Прокофьева (1902–1978), исследовавшая социальную организацию у якутов, тувинцев и селькупов439. Ею собран и классифицирован обширный материал по шаманизму этносов Сибири.
Якутами и их социальными и религиозными представлениями440 занимался Гавриил Васильевич Ксенофонтов (1888–1938).
Советская этнология: Ю.В. Бромлей
Фигура академика Юлиана Владимировича Бромлея (1921–1990), директора Института этнографии АН СССР, интересна тем, что он был практически единственным признанным официально в СССР специалистом по этносам и этнологии. Бромлей написал ряд посвященных этносам научных монографий, среди которых выделются: «Этнос и этнография»441, «Очерки теории этноса»442, «Современные проблемы этнографии»443, «Этносоциальные процессы»444, а также учебник по этнографии445, долгое время бывший единственным пособием по данной теме.
Бромлей был противником теории этноса Гумилева и его главным оппонентом. Но статусы Бромлея и Гумилева был несопоставимыми, т. к. в советский период свободомыслящий Гумилев, сын «врагов народа», считался маргиналом и «чудаком», а Бромлей был плотно интегрирован в советский научный истеблишмент. Поэтому с моральной точки зрения критика Бромлеем Гумилева и его идей, даже если в ней и содержалось рациональное зерно (в частности, указание на неправомочный биологизм и недостаток социологического подхода), скорее напоминала не научную дискуссию, а доносительство или разновидность репрессий. В таких условиях содержательной аспект критики едва ли стоит рассматривать.
С другой стороны, Бромлей уже в силу своего статуса был вынужден согласовывать этнологические и антропологические теории с жесткими догматами марксизма. А т. к. идеи Маркса и Энгельса в области древнего человечества и архаических обществ основывались преимущественно на эволюционистской концепции Л. Моргана, то это в значительной степени предопределило догматизм подхода Бромлея и его школы. Вне советского идеологического контекста его идеи едва ли можно рассматривать всерьез, т. к. самостоятельной ценности они не представляют.
Бромлей разработал причудливую терминологию, в которой он различал «этникосы» (собственно этносы) и этносоциальные организмы, т. е. этносы, привязанные к политико-экономическим формациям (в марксистской доктрине). Формами этно-социальных организмов Бромлей считал племена (первобытнообщинный строй), народности (рабовладельческий и феодальный строй) и нации (капиталистический и социалистический строй).
Большой проблемой для Бромлея было увязать определение «нации» и «национальности» в советской действительности, где эти понятия отражали сложный клубок попытки адаптации марксистской теории, начатой Лениным и продолженной Сталиным, к российской истории.
Согласно Марксу и обычному употреблению термина, «нация» — это форма буржуазной организации населения классового государства, т. е. политическое явление. Эту позицию в свое время отстаивал немецкий марксист Карл Каутский в споре с австрийским марксистом Отто Бауэром. Бауэр возражал Каутскому, что под «нацией» можно понимать также этнические группы. Бауэр описывал реальность распадающейся Австро-Венгерской империи, где отдельные этнические группы — венгры, славяне, румыны — готовились создать свои национальные государства, но еще не получили их. А Каутский исходил из относительно моноэтнической Германии, где нация мыслилась только как гражданство общего государства.
Ситуация с Российской Империей при Ленине была больше похожа на австро-венгерскую, поэтому в русскую терминологию большевиков перекочевало использованное Бауэром выражение «национальность», обозначавшее и те нации, которые уже конституированы как государства, и те этносы, которые только еще стремятся к этому. Для Ленина и, похоже, для Сталина понятие «национальность» стало способом говорить о том, что буржуазные отношения в России сложились, нации появились, но вскоре были преодолены в социалистическом обществе и превратились в национальности. Поэтому термины «нация» и «национальность» в СССР были чрезвычайно размыты. Они означали частично этнокультурную, а частично — политическую и административную (национальные республики) общность. Эта двусмысленность блокировала свободное научное исследования этносов и наций в СССР, что сказалось на половинчатых и подстроенных под официальный догматизм теориях Бромлея.
Институционализация этносоциологии в наше время
На современном этапе в российской науке интерес к этносоциологии пробуждается с новой силой, свидетельством чего является включение ее в реестр общеобразовательных дисциплин и в общефедеральный компонент (ОПД.Ф. 21) по специальности «социология» (020300).
Сегодня существует несколько учебников и учебных пособий по этносоциологии.
Учебником, послужившим образцом для дальнейших разработок научного преподавания этносоциологии, стал учебник Ю.В. Арутюняна, Л.М. Дробижевой, А.А. Сусоколова446, написанный с разных позиций и представляющий собой первый подход к изучению этой дисциплины. В силу того, что авторы придерживались различных взглядов на этнос, он несет на себе печать эклектичности. Тем не менее заслуга этого учебника в том, что он послужил основой для разработки Федерального стандарта и вместе с ним изучение этносоциологии вошло в Высшую школу современной России, что само по себе стало важным научным событием.
В более узком ключе, с упором на исследование межэтнических и межнациональных конфликтов, построено учебное пособие М.О. Мнацаканяна447.
Следует также упомянуть учебные пособия Т.А. Татунц448 (МГУ), Л.С. Перепелкина, С.В. Соколовского449 (Новосибирский Государственный Университет) и Г.С. Денисовой, М.Р. Радовель450 (ЮФУ, Ростов-на Дону).
Следует констатировать, что должным образом этносоциология в современной России не конституирована, хотя ее присутствие в числе общеобязательных дисциплин является подтверждением ее важности. В данном случае факт институционализации предваряет полноценное и окончательное формирование научной дисциплины, что является стимулом к ее развитию и творческому осмыслению.
РАЗДЕЛ 2
ЭТНОС И ЕГО СТРУКТУРЫ
Глава 6
ЭТНОСТАТИКА. ЭТНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
§ 1. Феноменология этноса
Общая социология как подраздел этносоциологии
В этом разделе мы будем исследовать структуру этноса как простейшую форму общества — койнему. Этноc является изначальной формой общества как такового, поэтому его структуры могут выступать «мерой вещей» для анализа более сложных социальных форм. Если мы корректно опишем и интерпретируем базовую структуру этноса, то получим концептуальную матрицу, с помощью которой можно изучать как постоянные (то есть собственно этнические) элементы любого общества, так и формы, полученные в результате отклонения от этих элементов или надстраиваемые над ними. Этнос, понятый как койнема, сам по себе есть неизменная структура более сложных и изменяющихся обществ (как атом в веществе). Если нам удастся корректно описать этнос в его основополагающих моментах, то мы приобретем надежный методологический инструмент анализа для всего веера существующих или только возможных социологических моделей.
Этнос и есть структура общества. Будучи структурой, он сам неизменен, постоянен и «вечен». И даже там, где эта структура усложняется, трансформируется и преодолевается, она остается как стартовый алгоритм, влияющий (как начальные условия) на все фазы развертывающегося процесса изменений. Это очевидно: чтобы говорить об изменениях, надо иметь субъект изменений, т. е. знания о той изначальной структуре, которая подвергается изменениям. Только в этом случае мы можем сказать: нечто меняется (нам есть с чем сравнить), а нечто остается неизменным.
Эта логика подводит нас к интересному выводу, точнее, гипотезе: не есть ли социология в целом лишь одна из версий этносоциологии, а не наоборот, как это принято считать? Тогда, если этнос есть койнема, то социология имеет дело только с ее производными. Нечто подобное имел в виду Клод Леви-Стросс, когда говорил о том, что настоящий социолог должен с необходимостью быть антропологом, т. е. изучать культуры архаических бесписьменных народов (как это делали Дюркгейм, Мосс, Юбер, Леви-Брюль и т. д.), чтобы потом на основании этнографических знаний выносить суждения о более сложных обществах.
Даже если не принимать такую крайнюю позицию, значение этноса и изучение его структуры является важнейшим моментом социологических знаний.
Формы изучения этноса как койнемы
Рассматривать этнос (как койнему) можно с различных точек зрения. Можно свести их к трем основным подходам: этностатике, этнодинамике и этнокинетике.
Этностатика изучает этнос в его неизменной основе, как «идеальный тип» (М. Вебер) или «нормальный тип» (В. Зомбарт). Этностатика рассматривает этнос как социологическую парадигму, неизменную в своих основных параметрах и постоянную. В реальности строго статического этноса не существует, это концептуальная абстракция, но ее введение позволяет получить действенную модель, с помощью которой можно изучать реальные этносы.
Этностатика опирается на компаративистский метод изучения архаических обществ и на основании выявления общих для всех черт, свойств, признаков и характеристик, выстраивает идеальный объект — этнос как таковой. Именно такой путь и привел С.М. Широкогорова к конституированию «этноса» как фундаментальной антропологической категории, на котором была построена этнология, а позже этносоциология. Этностатика важна для того, чтобы описать постоянную и неизменную часть койнемы, с идеовариациями которой историческая социология имеет дело, рассматривая различные сложные типы обществ.
Этнодинамика привносит в изучение этноса фактор изменений, но эти изменения рассматриваются как флуктуации или осцилляции этнических процессов, не изменяющих основную структуру общества. Этнодинамика — это колебания и силовые процессы, протекающие в этносе, но остающиеся в границах его устойчивого и неизменного структурного постоянства. Этнодинамика развертывается только в пределах этностатики, т. е. этноса как «идеального» типа, и не приводит к его качественным изменениям.
Этнокинетика — это особая область этнических процессов, которые, в отличие от этностатики, изменяют нормативную структуру этноса, заставляют этнос меняться необратимо и качественно, т. е. описывают фазовый переход от этноса к его производным (чаще всего к народу).
Этностатика рассматривает этнос как неподвижную структуру, этнодинамика — как структуру вибрирующую, флуктуирующую и осциллирующую вокруг неподвижной оси, этнокинетика — как структуру, меняющую свои фундаментальные пропорции, как структуру в движении, в изменении, в трансформациях.
Все три подхода — этностатика, этнодинамика и этнокинетика — в равной степени необходимы для полноценного анализа этноса и протекающих в нем процессов и должны применяться одновременно, чтобы получить достоверное научное знание об этносе как многомерном и живом, экзистенциальном и историческом явлении.
Этноструктура и проблема этнокомпаративистики
Этностатика описывает этнос в его неизменной синхронической форме. Объектом этностатики являются базовые и неизменные структуры этноса или обобщенно взятая этноструктура. Этноструктура представляет собой совокупность основных характеристик этноса как койнемы, которые можно разделить на следующие слои:
– этническое мышление (сознание) и этническая феноменология;
– этнический «жизненный мир»;
– этнический нарратив (язык и миф как синтез этнического мировоззрения);
– этническое пространство (этноспатиальность);
– этническое время (этнотемпоральность);
– этническая сакральность (этнонуминозность);
– этническая антропология (этноантропология);
– этническая система распределения половых ролей (этногендер);
– этническая модель хозяйственной деятельности (этноэкономика и включенная в нее этнотехника).
Из этих базовых элементов складывается этноструктура. У всех этносов мы легко можем обнаружить все эти элементы, но их форма, тип, содержание, смысл, пропорции и связи между собой могут существенно варьироваться. Это позволяет, в свою очередь, составить структурную типологию этносов, основанную на сравнении между собой конкретных этноструктур.
При этом надо строго выдерживать правило «простейшего общества». Этноструктуры при переходе к более сложным формам общества качественно меняются. Но если мы начнем сравнивать между собой структуры этноса (собственно, этноструктуры) и структуры более сложных обществ (например, лаоструктуры, структуры народа), то мы нарушим логику нашего анализа. Конечно, можно и нужно сравнивать между собой структуры этноса и структуры более сложных обществ (ранее мы назвали это «постэтническим анализом»). Но в этом случае, необходимо обязательно держаться в рамках того или тех этносов, которые непосредственно и достоверно принимали участие в лаогенезе. Тогда как структуры иных этносов, отстоящих от этого процесса на непреодолимое историческое или географическое расстояние, должны рассматриваться как локальные структуры, относящиеся к совершенно иной социологической категории.
Иными словами, нельзя путать два типа анализа: «горизонтальный» и «вертикальный». Горизонтальным анализом является компативистское сопоставление этносов (как койнем) между собой. И в этом случае анализ остается правомочным, пока мы не выходим за границу койнемы (которой является зона этнокинетики как процесса, в котором этнос становится чем-то иным, нежели он сам). Вертикальный анализ сравнивает этнос или группу этносов с той более сложной постэтнокинетической формой, которая сложилась на их основании. Этот анализ также легитимен и полезен, но может затрагивать только ограниченный круг этносов, имевших непосредственное временное (историческое) и пространственное (географическое) отношение к возникшему народу (позже, нации, гражданскому обществу и т. д.)
Этнофеноменология и этническое мышление
Приступим теперь к рассмотрению этноструктуры как фундаментальной и общей модели этноса, составляющей его сущность, делающей его тем, что он есть. Начнем с «этнического мышления».
Для того, чтобы описать особенность мышления этноса, следует обратиться к философии Гуссерля (1859–1938), крупнейшего философа ХХ в., основоположника феноменологического направления в философии. Гуссерль с его методом интересен тем, что тщательно описывает структуру действий сознания, предшествующих всей сфере корректного логического, рационального мышления, ставшего нормативом в европейских обществах Нового времени, но ясно различимого уже в античности, в частности, у греческих философов Платона и Аристотеля. Гуссерль развивает идеи своего учителя Франца Брентано (1838–1917), который ввел в современную философию (схоластическое, но заново переосмысленное) понятие интенциональности, на котором Гуссерль строит свою феноменологию.
Термин «интенциональность» образован от латинского слова «intentio» (дословно «намерение», «напряжение», «пожелание»). Интенциональность есть форма восприятия мира не таким, каким он есть, но таким, каким он желателен для воспринимающего, каким его хочется видеть.
Философский метод феноменологии оптимально подходит к описанию структур этнического мышления. Интенциональность представляет собой форму дологического или пралогического мышления, особенностью которого является то, что мыслящий не делает различия между представлением о предмете мысли (то есть психическим образом, находящимся внутри его психического мира) и самим предметом (находящимся вне его). Только рациональное, логическое, рефлектирующее мышление способно осуществить эту процедуру и провести границу между представлением и самой вещью. Интенциальное мышление не способно и не склонно к этому и оперирует с представлениями так, как если бы речь шла о самих вещах.
Этническое мышление интенционально. И в этом состоит его главное свойство. Этнос мыслит мир в рамках интенциональных структур. Гегель (1770–1831) называет это «естественным сознанием»451, которое воспринимает образ мира и вещей мира за сам мир и сами вещи мира.
Реверсивность этнической интенциональности
В этносе и его структурах нет той инстанции, которая могла бы вынести суждение о соотношении представления и мира самого по себе, поскольку в этносе нет ни мира самого по себе, ни мышления самого по себе, т. е. нет ни субъекта, ни объекта. Этнос мыслит себя как «целое», в котором нет разрыва.
Это этническое мышление, процесс этноинтенциональности, имеет ориентацию. Оно направлено «от» «к». Это вектор. Но вектор, не между одним и другим как строго определенными инстанциями, но вектор просто, сам по себе, как самостоятельная структура неравновесного интенционального акта. Направление «от» «к» есть, но от чего и к чему, остается в рамках этноса неясным, обобщенным, условным.
Более того, интенциональный вектор этнического сознания является (относительно) реверсивным. Он допускает, хотя и не обязательно, свое опрокидывание. И тогда мыслящая инстанция становится мыслимой инстанцией, «от» и «к» меняются местами. Этнос не настаивает на реверсивности интенционального акта, но допускает ее. Это находит выражение во множестве ритуалов инициации, когда, например, охотник, регулярно убивающий лесных зверей в целях пропитания, в обряде становится сам жертвой этих зверей. Убивающий становится убиенным; понимающий — понимаемым, мыслящий — мыслимым.
Такая реверсивность становится возможной по той причине, что интенциональность как явление развертывается внутри психики. Человека уничтожает (снимает) не объект, а «содержание интенционального акта», т. е. оживленное, действенное представление, укоренное в самом человеке. В структуре этноса нет различия между представлением о вещи, символом вещи, называнием вещи и самой вещью. Все это аспекты интенционального акта.
Это объясняет проблемы антропологов, часто становящихся в тупик в ситуации, когда изучаемые ими туземцы не способны ясно объяснить им, идет ли речь о мифе, духе, представлении, символе или о реальном объекте окружающего мира. Для людей современной рациональной цивилизации между ними гигантское расстояние. А для этнического мышления этой дистанции нет вообще. Мир этноса, окружающая среда являются эндопсихическими явлениями. Они располагаются внутри этноса, а не во вне его, т. к. гносеологической дистанции для того, чтобы было онтологическое место у этого «вне», просто не существует.
Этнос не просто верит в то, что символ, представление и образ совпадают с вещью, которую они репрезентируют. Он не знает ни символа, ни вещи, т. к. различие между обозначаемым и обозначающим принадлежит совершенно иным структурам сознания, которые можно определить как «постэтнические». Символ, образ и представление и есть вещь, а вещь, в свою очередь, есть символ, образ и представление.
Эта реверсивная интенциональность может быть взята в качестве главной черты этноса. Такое утверждение имеет колоссальное философское значение, т. к. показывает, что интенциальный уровень мышления (даже в сложных обществах) является этничным.
Этнос и ноэзис
Структура интенциональности описывается Гуссерлем через греческий термин «νοῦς» («ум») и его производные. Гуссерль определяет νοῦς как интенциональное, нерефлектирующее мышление, не выносящее суждение о соотношении представления и объекта (то есть как до — или предрациональное мышление). Рациональное мышление, свойственное сложным обществам, он предлагает называть «δίανοια». Смысл пары «νοῦς/δίάνοια» можно передать терминами «ум/разум». Ум — простое мышление, его можно назвать «этническим». Разум — сложное, рефлексивное, лежащее в основании философии, теологии, науки, логики и, соответственно, тех обществ, которые выстраивают свои структуры на рациональных дифференцированных началах.
Интенциональное мышление является мышлением ноэтическим. Гуссерль выделяет в ноэтическом мышлении два аспекта: активный и пассивный. Активный он называет «νόησις» («ноэзис», активное свойство ума), пассивный — «νόημα» («ноэма», т. е. «помысленное», тот предмет, который в простом мышлении соответствует объекту внешнего мира и воспринимается как такой объект).
В применении к этносу это дает нам ключевой инструмент к расшифровке функционирования его основных структур. Мир этноса — мир ноэтический, он состоит из процесса этноноэзиса, который конструирует системы ноэм, этноноэм. Эти этноноэмы, т. е. собственно мир, каким его воспринимает этнос, часто интерпретируются антропологами и социологами как «символы» или «магические объекты», наделенные особой силой. На этом строит свои теории, в частности, Клиффорд Гиртц (разработавший «символическую антропологию»). Но это может ввести нас в заблуждение, будто этнос разделяет свое представление (символ) и объект «реального мира», который он призван символизировать. Такое разделение принадлежит к области рефлекторного логического мышления, разума, «дианойи», и не может быть присуще этническим структурам. Поэтому намного точнее будет использовать термин «этноноэмы» как представления о мире, которые переживаются этносом как сам мир.
Оперативная магия языка и миф
Отсюда значение в этносе языка и имен. Язык, его структуры и его имена составляют не систему знаков, но структуру этноноэм. Называя вещь, человек простого общества ее вызывает. Не указывает, но ноэтически конструирует. Между именем рыбы, медведя, растения, любого природного явления и самими рыбами, медведями и природными явлениями существует не просто магическая связь, но прямое тождество, т. к. имя зверя или вещи — это ноэма, но и сами зверь и вещь — ноэмы. Неназванного не существует. Названное существует в факте названия как называния-призывания.
Отсюда центральное значение мифа как рассказа, повествования. Этнос живет мифом, благодаря которому конструируется мир, язык, общество. Рассказывая миф (греческое слово «μῦθος», «миф», образовано от глагола «µυθέιν», «рассказывать», «повествовать»), человек простого общества развертывает ноэтическую структуру, выстраивая ноэмы таким образом, что они складываются в парадигмальные цепи, конституирующие мир. Упоминаемые в мифе персонажи, ситуации и предметы точно так же «реальны», как предметы окружающего мира; они суть такие же этноноэмы. Отсюда вытекает магическая сила языка, который воспринимается как опасная, активная и могущественная сила. Язык и есть мир. Не знаки мира, но именно сам мир как совокупность структурированных ноэм.
Мыслить-говорить-вызывать (к бытию) — производить в этническом обществе есть одно и то же действие.
Этнос и жизненный мир
«Поздний» Гуссерль452 описывал структуры интенционального мышления, взятые в их совокупности через особую концепцию «жизненного мира». «Жизненный мир» — это область ноэм и ноэтических актов, не проверяемых рассудком, но переживаемых так, как если бы мы имели дело с объективной реальностью, не подлежащей сомнению. Гуссерль обнаруживает «жизненный мир» и его структуры и в сложных, в частности, современных европейских, обществах– там, где человек покидает зону научных высокодифференцированных практик и погружается в стихию обывательского существования. В обычной жизни даже ученый руководствуется правилами «жизненного мира», тогда как в профессиональной и научной деятельности он исходит из рациональных стратегий, основанных на диайнойе.
Этнос знает только один мир, который вполне можно соотнести с «жизненным миром» Гуссерля. Этнический мир и есть жизненный мир. Этот мир не столько осмысляется, сколько проживается, и этим проживанием, в котором центральную роль играет ноэтическое мышление, конституируется.
Поэтому неверно рассматривать миф как совокупность символов и символических ситуаций; миф есть ноэтические маршруты проживания; миф и есть проживание, концентрация жизненных энергий в их активной и насыщенной форме. Миф ни на что не указывает, он не призван играть какой-то прикладной роли. Его функция — это жизненная функция. Через миф и язы, на котором этот миф излагается, этническое общество живет, проживает мир. Миф есть мир как жизнь.
Этнос и ноэзис
Конституируя мир через проживание мифа, развертывая поле ноэм, этнос на обратном полюсе конституирует самого себя как активный центр. Можно назвать эту активную сторону ноэтического процесса этноноэзисом. Антропологи, изучающие простейшие общества, описывают это измерение как «человека», «культуру», «общество», противопоставляемые «среде», «природе», «естеству», подразумевая под этим привычную для современной философии картезианскую дуальность «субъект/объект». Но этнос не знает операции, придающей вещи или мыслящему самостоятельную автономную реальностб. Интенциональное мышление развертывается внутри поля, у которого нет границ — ни внешних, ни внутренних. Оно всегда находится между, но не между этим и тем, а просто между453. И эта инстанция «между» конституирует не столько свои пределы, сколько направления «от» «к», которые, как мы показали, еще и относительно обратимы.
Если направление интенционального акта «к» создает ноэму, этноноэму, то обращение к инстанции «от», т. е. к самому ноэзису и его истоку, гипотетически конституирует этноноэзис в его центре. Этот центр ноэтического процесса есть священное или нуминозное (по Р. Отто) и вместе с тем сам этнос в его наиболее концентрированном выражении.
Этноцентрум и сакральное пространство
Теперь мы можем описать более конкретные параметры этноса через основные моменты его структуры. Все они представляют собой различные аспекты этнической интенциональности, воплощенные в конкретные пространственные, временные, антропологические и религиозные представления. Можно рассматривать их как несколько слоев этноса.
Начнем с пространства. Представления этноса о пространстве являются синхроническим выражением структур этнического мышления. Поэтому эти представления есть синхроническая карта этнического сознания, веер ноэтических процессов, запечатленных одновременно в цельной картине. Это пространство есть пространство мифа, священное пространство.
Вильгельм Мюльман ввел для описания этого пространства специальный термин — «этноцентрум»454.
Этноцентрум есть этническая мысль в ее синхронической форме. Она является доминантой для всей структуры этноса. Пространственное выражение этнического мышления является главенствующим и определяющим для структуры этноса как такового. Можно считать с определенной долей приближения, что этноцентрум и есть структура этноса в статике. Поэтому корректное описание этноса может быть сведено к описанию этноцентрума, т. е. его пространственных представлений. Центральное значение фактора пространства для структуры общества исследовал (правда, преимущественно на примере более сложных обществ) французский социолог и философ Анри Лефевр (1901–1991)455.
Структура этноцентрума может быть представлена в форме круга (см. схему 14).
В этом круге нет четко выделенного полюса и нет четко выделенной периферии, хотя есть пучок векторов, указывающих «от» «к», благодаря которым этноцентрум приобретает упорядоченность и определенную симметричность.
Этноцентрум включает в свой горизонт все, что видит человек этноса, весь «окружающий мир». Все, что «есть» (а мы знаем, что в этносе все, что есть, это совокупность этноноэм), находится внутри этноцентрума. Поэтому у него нет границы, но, с другой стороны, эта бесконечность укладывается в зоне видимости или разведанности вполне конкретного ландшафта, в котором живет этнос. Этноцентрум включает «мировое все» в конкретные рамки ясно определенной зоны, где развертывается жизнь этноса. Это этно-Вселенная. Внутри этноцентрума помещаются солнце, луна, звезды, ветра, горы, реки, леса, а также души, предки, боги, духи, потомки и т. д. Это возможно только в том случае, если понимать, что само пространство этноцентрума есть пространство ноэтическое, мыслительное, мифологическое и сакральное. Дистанции и связи между всеми вещами, расположенными в этноцентруме, определяются не их размером или масштабом, но их формой, функцией и ноэтическими характеристиками. Такое пространство есть карта мышления и языка, а не аналог (даже отдаленный) физической географии.
Этноцентрум совершенно самодостаточен и устойчив. В его границах царит статическая включенность мира в этнос, мир понимается как этнос, и этнос понимается как мир. Это тождество в этностатическом анализе является строгим. Структура этноцентрума есть структура мира (космоса). Это значит, что этнос есть мир, а мир есть этнос. Не этнос пребывает в мире или проецирует на мир свои представления о нем, но этнос и мир нераздельны и едины, и представляют собой нерасчленимый и общий процесс этнического мышления, цельный «жизненный мир».
Люди, животные, растения, светила, погодные условия, климат, почвы, техника, социальные установления, мертвые, еще не рожденные, мифологические персонажи, духи — все они имеют равный онтологический статус, все они «есть», коль скоро для них есть имя, о них повествует миф, на них направлено интенциональное мышление. Если рациональное мышление выносит суждение о том, что есть на самом деле, а чего нет (что только кажется, воображается, придумывается), то этническое мышление не делает и не хочет производить такую операцию. Поэтому при изучении этноса практически невозможно четко отделить то, что видят, чувствуют и переживают люди, а во что они верят и на что надеятся. Все, во что этнос верит, он видит и переживает. Все, что переживает и видит, в то и верит и на это же и надеется.
Поэтому этноцентрум есть не абстракция или «символ», но проживаемое пространство, «жизненное пространство», «живое пространство», пространство как жизнь.
Лефевр, рассматривая преимущественно более сложные общества, говорит, что общество вначале «производит» пространство, а потом его переживает как данность456 (и для сложных обществ это вполне справедливо). Но в случае этноса общество проживает пространство и тем самым его создает. Это не два момента, а один.
Структура этноцентрума у эвенков
В качестве типичного примера этноцентрума можно взять модель мира у эвенков. Это чрезвычайно архаическая модель в определенном смысле близка к тому общему «идеальному типу» этноса, который в той или иной форме и с множеством вариаций встречается у большинства этносов как самый глубинный и базовый пласт видения мира.
Немецкий этносоциолог Адольф Фридрих (1873–1969) описал эту картину в обобщающей статье «Осознание одним природным этносом домашнего хозяйства и истоков жизни»457, опираясь на материалы русских и советских этнографов и этнологов С.М. Широкогорова, А.Ф. Анисимова458, Г.В. Ксенофонтова459, Е.Д. Прокофьевой460 и т. д.
Картина этноцентрума у эвенков такова.
В центре карты мира протекает река. Посредине течения этой реки находится племя, этнос. Здесь же располагается территория для охоты (эвенки принадлежат к самой архаической модели общества, чья хозяйственная деятельность сводится к охоте и собирательству).
В середине реки располагается лагерь живых. В низовьях реки стоит точно такой же лагерь, с таким же расположением жилищ, но только там живут мертвые эвенки. В верховьях реки расположен еще один аналогичный лагерь, но в нем живут «новые души» тех эвенков, которым еще только предстоит родиться.
Этносом, т. е. эвенками, считается одновременно все три лагеря, расположенные в трех точках реки. Умершие, живущие и те, кому только предстоит родиться, оказываются расположенными в синхроническом порядке по отношению друг к другу. Они сосуществуют. Здесь мы видим, что этноцентрум включает в свое пространство миры мертвых и миры нерожденных, которые оказываются частями единого и непрерывного целого.
Эвенки различают в человеке три души (или трех двойников): 1) хэян (душа-тень, душа отражение), 2) бэен (душа-тело) и 3) маин (душа-судьба). Эти три души соответствуют трем слоям пространства.
Душа хэян способна покидать тело, охотиться и гулять по лесу. Это происходит во сне или в состоянии транса.
Душа бэен неразрывно связана с телом и выражает себя через тело. Все проявления тела сопряжены с действиями души-бэен.
Душа-маин пребывает у истоков реки в идеальных условиях. Там всегда много дичи и стоит прекрасная погода. От того, как живет душа-маин в мире истока (который мыслится синхронически, т. е. одновременно с жизнью людей), зависит судьба человека. Душа-маин соединена невидимой нитью с человеком.
После смерти душа-бэен отплывает по реке в мир умерших, а душа-хэян отправляется к верховьям реки, чтобы там превратиться в «новую душу», «оми». Эта «оми» вползает в тело женщины племени и появляется в виде ребенка.
Так осуществляется круговорот. Река и этапы жизни зациклены в замкнутый круг, чья структура и есть этноцентрум.
Эвенки почитают священное дерево, называемое ими « бугады», которое также воплощает в себе три лагеря этноса. Корни — лагерь мертвых, ствол — лагерь живых, ветви — лагерь будущих рождений.
Круговорот идет по реке (горизонтальная проекция этноцентрума) и по священному дереву (вертикальная проекция этноцентрума). В обоих случаях структура энцентрума включает в себя видимые и невидимые объекты: видимая река пересекается с невидимой рекой, видимое священное дерево — с невидимым. Видимое и невидимое не находятся в состоянии оппозиции или иерархического соподчинения: видимое и невидимое сливаются как две стороны одной и той же этноноэмы.
Есть основания полагать, что изначальные структуры этноцентрума у самых различных этносов напоминали в общих чертах образ мира у эвенков. Река и дерево являются сюжетами, которые составляют ядра мифологического комплекса у большинства известных архаических культур, хотя иногда функционально им соответствуют иные фигуры. Но то, что мертвые/живые/грядущие мыслятся пространственно, как синхронные зоны этноцентрума, и именно их совокупность составляет этнос, является общим свойством всех культур. Этнос мыслит себя пространственным образом, при этом пространство многомерно, включает видимые и невидимые слои (переплетающиеся друг с другом). В этом пространстве предки и потомки присутствуют не последовательно, а одновременно, составляя совокупно священное ядро этноса, его идентичность.
Мировое древо описывается у эвенков так. Корни его уходят в нижний мир, ветви — в верхний мир, ствол размещается в среднем мире. У корней пребывает зверо-мать и рогатые и животные духи. На стволе дерева живут люди. На ветвях — в форме птиц будущие души.
Этнос и время: этнотемпоральность
Пространственность этноса как этноцентрума предопределяет структуру этнического времени, или этнотемпоральность. В этносе время имеет второстепенный характер, подчиненный пространственной одновременности. Есть архаические этносы, в частности, некоторые племена австралийских аборигенов, которые вообще не умеют измерять время. Они не ведут никакого счета времени и, постоянно наблюдая лунные фазы, не имеют ни малейшего представления о том, сколько в лунном месяце дней. Такое «отсутствие времени» характерно для ряда этносов охотников и собирателей, которые живут в широтах, где смена сезонов не сильно влияет на климатические условия. Чаще всего эти зоны расположены в определенной близости к экватору.
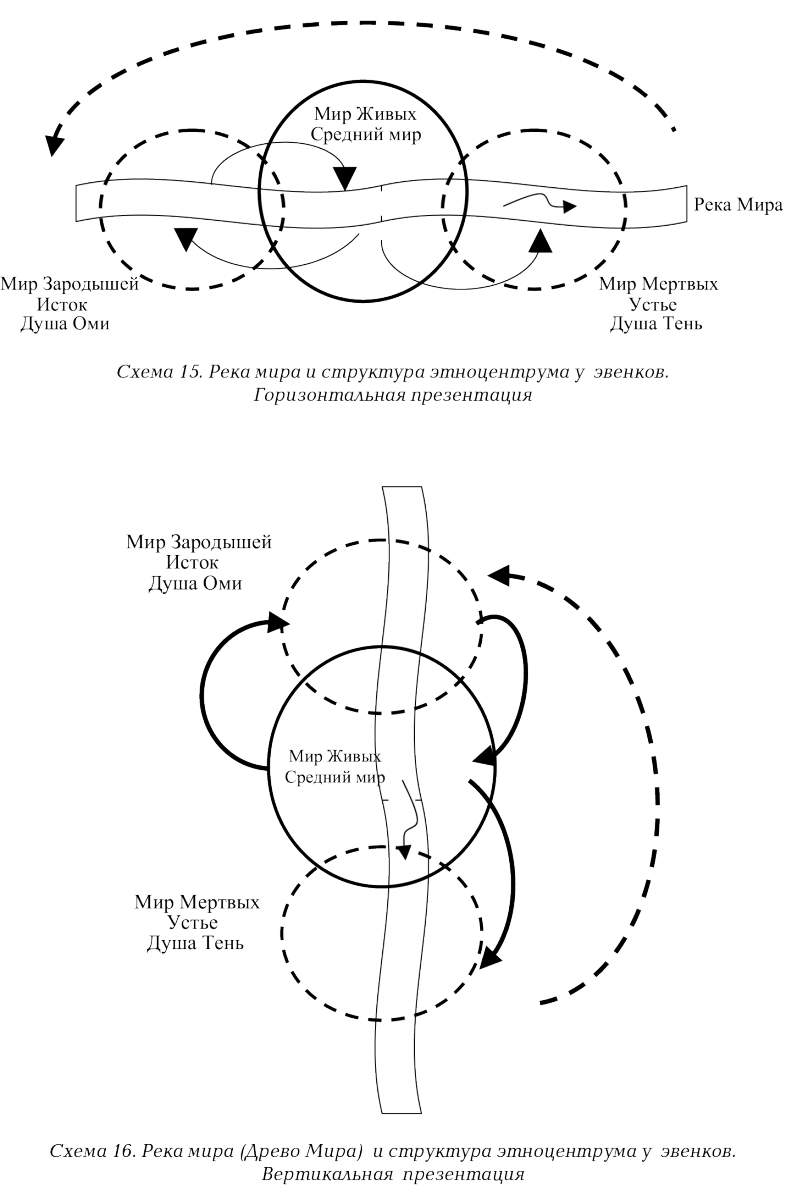
В этом случае у этноса вообще нет никакого представления о времени или темпоральности; этнос вполне может обходиться без времени. На все необходимые вопросы отвечает пространство. Этноцентрум и его структура оказываются достаточными для того, чтобы койнема могла существовать. Не существует этносов без запрета на инцест и без танцев. А без времени отдельные этносы обходятся достаточно свободно.
В этом заключается важный момент этноса как такового. Этническое время может быть, а может и не быть, а этноцентрум как пространство есть всегда и практически совпадает с ноэтической структурой этноса, с его мышлением и проживанием осмысляемого мира. В этносе пространство фундаментально и первично, а время — производно, инструментально и вторично.
Преобладание пространства над временем выражается в том, что там, где у этноса есть представление о времени, оно циклично, т. е. подчинено пространственному признаку. Время замкнуто само на себе, вращается вокруг своей оси по закрытой орбите. Это круговое циклическое время есть не что иное, как диахронически описанное пространство.
Примером этого являются архаические типы календарей. Чаще всего они изображаются в виде круга или дерева, т. е. в форме этноцентрума.
Этнотемпоральность даже там, где она присутствует, мыслится по аналогии с пространством. Время есть карта, каждый сегмент которой, повторяясь, приобретает постоянство и пространственные свойства. Этнотемпоральность всегда обратима, реверсивна. В нем все повторяется практически так, как если бы оно было неизменным. Отличия деталей в сезонных явлениях не влияет на общую фиксированность темпоральности.
Этнотемпоральность и этноцентрум в аграрных и охотничьих обществах
Мы уже говорили, что в область простого общества (этноса) мы можем занести два типа архаических культур — охотников и собирателей, с одной стороны, и крестьян и огородников, с другой. Как показывает Р. Турнвальд461, практически все аграрные общества имеют циклическую темпоральность, что связано, в определенной мере, со спецификой их основополагающей экономической практики. Сезонное замкнутое групповое время является отличительной чертой именно таких аграрных этносов.
У охотников и собирателей, в свою очередь, циклическая темпоральность может наличествовать, а может и отсутствовать. Это зависит от самых разнообразных причин — окружающей среды, контраста сезонов, климата и т. д.
Различие наблюдается и в отношении обоих типов этносов к этноцентруму. Общества охотников и собирателей имеют отношение к окружающему миру непосредственно, поэтому их эноцентрум является наиболее связным, целостным, реверсивным и континуальным. Они живут в мире как в мысли, как в пространственно выраженном ноэзисе. Поэтому их пространство наиболее жизненно и интегрально.
Аграрные этносы нюансируют структуру пространства этноцентрума тем, что выделяют между обществом и природой промежуточную инстанцию, которой становятся поле, сад, огород, хлев, которые выступают как особое пространство — плоды и злаки растут там не сами по себе, а животных не обязательно выслеживать и охотиться на них, но их можно разводить. В аграрном обществе качественно меняется структура этноцентрума: вектор ноэзис, идущий «от» «к», постепенно начинает конституировать в направлении «к» — природу, в направлении «от» — само общество как «не-природу», а местом их встречи становится особая среда, где человеческий ноэзис выступает как инструмент производства, что позволяет перейти от реверсивной модели этнического мышления к ирреверсивной.
Кочевые этносы и особенность их этноцентрума
Совершенно особым феноменом являются кочевые этносы и культуры. Они построены на одностороннем развитии ряда тенденций, каждая из которых в гармоничном состоянии с другими тенденциями, наличествует в оседлых аграрных обществах. Р. Турнвальд462 показывает, что кочевые народы создаются из ядра пастухов, которые занимаются разведением скота в оседлых обществах, но постепенно смещают акцент только на скотоводство и отделяются от стационарных поселений в поисках новых пастбищ.
Кочевники формируют совершенно особые кочевые этносы, для которых характерны особый этноцентрум и специфическое понимание этнотемпоральности.
Эти этносы подвижны и постоянно перемещаются в пространстве (это сближает их с охотниками и собирателями), но при этом они имеют в структуре своего этноцентрума промежуточный слой — стадо, который отделяет их от окружающей среды (это сближает их с оседлыми аграрными культурами). Но если промежуточная зона в этноцентруме аграрных этносов статична и неподвижна, у кочевых этносов она сама по себе динамична и подвижна. Перемещаясь в окружении своих стад, кочевник конституирует особый тип этноцентрума, где «от» и «к» этнического процесса ноэзиса тяготеют к большей фиксации и автономии, нежели у иных этнических обществ. Кочевой пастушеский этнос в своем ядре имеет уже прообраз субъекта, а в том пространстве, сквозь которое он движется — прообраз «объекта».
Кочевой этнос представляет собой самую дифференцированную форму этнической структуры, где реверсивность ограничена и дифференциация общества и окружающей среды достигает максимума.
Серьезные трансформации происходят и с темпоральнстью. У кочевых этносов она циклична, равно как и у аграрных, но эта цикличность тяготеет к тому, чтобы быть разомкнутой. Перемещение кочевого этноса в пространстве не позволяет с такой же наглядностью увидеть совпадение конца и начала цикла, как в оседлых культурах. Миграции нарушают наглядность статической картины и поражают особые явления, которые мы будем рассматривать в разделе «этнокинетика».
Кочевые этносы можно рассматривать как самый предельный случай этносов; далее мы переходим уже к первой производной от этноса, т. е. к народу. В образовании народа именно кочевые этносы будут играть ключевую роль, как мы увидим, и причины этого лежат, в частности, в структуре этнического пространства и этнического времени, присущей исключительно кочевым скотоводческим культурам.
Этнорелигиозные структуры
В самых простых обществах религиозные структуры не выделяются в особый социальный институт или даже особую зону и в принципе совпадают со структурой этноцентрума. Сам этнос и этноцентрум являются священными, сакральными. Священное разлито в мире как в мыслящем переживании многослойного интегрального наличия и не требует каких-то особых фиксаций. Лишь те предметы, явления и существа, которые наиболее концентрированно выражают собой структуру этноса, самим этносом как таковым наделяются дополнительными значениями и становятся выделенными зонами. Таковы реки, деревья, холмы (горы, скалы), некоторые звери, растения, камни и духи (невидимые пласты этноцентрума), которые могут выступать как образы всего этноса в целом, выражая собой все его явленное наличие.
Само мышление является священным и в этом смысле «религиозным» или пра-религиозным. Именно этот момент подчеркивал Л. Леви-Брюль, говоря о «мистическом соучастии» как о главном свойстве пралогического мышления463. Человек соучаствует в этноцентруме как неотъемлемая часть целого, каждый отдельный член общества растворяется в этносе, становясь с ним одним и тем же. Это состояние и есть источник религиозного чувства интеграции части в целое, которое обладает атрибутами вечности, бесконечности, полноты, неизменности. Не обладая ни теологией, ни четко оформленными религиозными культами, самые простые общества насквозь «религиозны» в том смысле, что само их бытие — включая профанные хозяйственные практики — интегрировано в контекст единого и абсолютного целого. И лишь по мере усложнения общества эта разлитая религиозность концентрируется в более конкретных и выделенных обрядах, инстанциях, функциях и т. д.
Нуменозность и сакральность
Для описания структуры религиозности этноса следует обратиться к работам немецкого историка религии и протестантского теолога Рудольфа Отто (1869–1937), сформулировавшего и развившего, вслед за Дюркгеймом, важнейшую для социологии концепцию «сакрального» — «das Heilige»464. Р. Отто утверждает, что в религии существует два момента: рациональный и иррациональный. Рациональный момент религии заключается в богословии, в иерархиях богов, духов, ангелов, демонов и прочих сущностей, которыми оперирует религиозная доктрина, в учении о спасении, в религиозной морали, в священной истории, в обосновании тех или иных религиозных институтов, обычаев и обрядов. Несмотря на то, что предпосылки религии подчас бывают нерациональными, сам корпус религиозных идей представляет собой, как правило, философски продуманную логическую систему.
Одновременно существует другое — иррациональное — измерение религии. Его Р. Отто преимущественно и исследует, называя «сакральным», «священным» («das Heilige»).
Для описания сущности сакрального Отто вводит ряд параметров и, в первую очередь, понятие «нуменозности», от латинского «numen», что на латыни означает «бог». Но какой «бог»? Не «Deus», бог светлого неба, «большой бог» теологии, бог фундаментального пантеона. Numen — это божество, как правило, среднего уровня. Однако, как часто бывает, сам термин предполагает различные толкования: «нуменом» можно назвать и «большого бога», и духа реки или священной рощи, камня, ларов, пенатов или стрейгов. Как правило, нумен — это божество в заниженном, конкретном, приближенном к людям смысле.
От понятия «нумен» Отто производит понятие «нуменозности» как свойства нуменов. Нуменозность — это своеобразные чувства, эмоции, установки, опыт, на основании которых древние люди отличали сакральный объект от профанного.
Нуменозный опыт провоцирует в отношении себя особую гамму очень сильных эмоций. Это не рассудочная установка, не идея, а именно глубокое, затрагивающее все уровни человеческой психики чувство, которое Р. Отто описывает феноменологически.
Чтобы охарактеризовать его, Отто приводит античное латинское выражение «mysterium tremendum». «Tremendum», от латинского слова «tremor» (дословно, «дрожание», «трепет»), означает «панический ужас». Misterium tremendum — это ощущение панического беспричинного ужаса, которое охватывает человека, например, в темноте, в незнакомом пустом доме, в диком лесу, и которое не имеет видимого повода. Присутствие нуменозности, столкновение с «нуменом» дает о себе знать через опыт тотального бессмысленного первичного ужаса, заставляющего человека впадать в ступор, тремор, панический страх.
В нуменозности как в самостоятельном свойстве этноса испытывать внезапный потрясающий основы психики страх следует искать истоки более сложных и развитых религиозных институтов.
Идею нуменозности как главного свойства сакрального у Отто заимствовали историк религии Мирча Элиаде и психоаналитик Карл Густав Юнг. Элиаде построил на исследовании нуменозности у архаических этносов и культур (в частности, африканских и австралийских) целую серию своих поздних работ465. Карл Густав Юнг опирался на нее для того, чтобы обосновать свою теорию коллективного бессознательного, где в определенных точках расположены зоны, ответственные за особые экстатические состояния.
§ 2. Антропология этноса. Шаман, пол, идентичность
Статус, персона, маска
Теперь рассмотрим антропологическую проблему в этносе, взятом как статическое явление.
Отношение к индивидууму в этносе определяется основной установкой на минимализацию или вообще отрицание индивидуальной идентичности. Эта тема была досконально изучена антропологами на примере множества архаических обществ. Практически все они отличается тем, что не знают социального статуса индивидуума. Антропологический кружок американских антропологов Рут Бенедикт и Абрама Кардинера предложил использовать для описания статуса человека в простейшем обществе специальный термин «личность». «Личность» понимается ими как чисто социальное явление, состоящее из набора статусов и ролей (Р. Линтон), которые, в свою очередь, обладают коллективной сверхиндивидуальной природой.
Общество содержит в себе набор возможных статусов. Он воспринимается настолько наглядно и «объективно», что служит, как правило, основой для универсальной таксономии, которая включает в себя не только общество, но и внешний мир. Статуарный набор этноса космичен, т. к. связывает в себе структуру культуры и природы в неразрывный узел. Социальным статусом обладают не только люди, но и звери, растения, духи, души мертвых, природные явления. Точно так же на людей распространяются особые свойства и признаки нечеловеческого мира как разновидности статуса. Примерами этого является тотемизм, т. е. признание какого-то животного предком племени или рода (в случае тотемного характера родовых цепочек, фратрий или кланов), «танцы духов», шаманские трансы и обряды, в которых используются маски, символизирующие животных.
Маски могут служить в целом основным таксоном статуарности в этносе. Клод Леви-Стросс подробно изучил эту тему в отдельной работе «Пусть масок»466. Показательно, что греческое слово «περσονα», «персона», «личность», означает дословно «маску».
В этносе все есть маска. Структура этнического бытия персонифицирована. Этническое мышление не ставит перед собой вопроса о том, кто скрыт под маской или на кого маска указывает. «Личность» есть момент этнического ноэзиса и обладает свойствами, но не обладает субстанцией. Кардинер называл это «базовой персональностью», которая отличается от «личности» более сложных обществ тем, что рассматривается в отрыве от ее носителя, т. е. является не уникальной, но типовой — «базовой».
Поэтому в большинстве архаических языков нет даже приблизительного аналога термина «человек» и тем более «индивидуум». Даже племя не имеет собственного названия и определяется как статус — тотеметический, экономический, визуальный и т. д.
Р. Рэдфилд определял folk-society (синоним этноса) как общину, все отношения внутри которой персонализированы. Он имел в виду не только то, что все члены общества знают друг друга персонально, но и то, что отношения между ними, а также с моментами внешнего природного мира строятся на основании статуса и статусов. Отношения между людьми и отношения людей с окружающей средой есть круговращение масок, единый танец, в котором ритмически сходятся и расходятся статуарные и ролевые ряды.
Принцип личности-маски гарантирует этносу постоянство и неизменность. Для индивидуальности, оригинальности и необычности в этносе нет места. Если этнос, пребывающий в статическом, равновесном состоянии (гомеостазе), сталкивается с яркой индивидуальностью, он воспринимает это угрозу и опасность и классифицирует это явление как девиацию, аномию, вызов, требующий вытеснения и иных репрессивных мер. Все, что выходит за рамки статуарного набора, кодифицированного структурой конкретного этноса, либо игнорируется, либо репрессируется, подавляется.
Именно поэтому объяснение социальных закономерностей на основе взаимодействия отдельных членов общества, на котором построены многие социологические теории (в первую очередь, американских социологов Чикагской школы и «понимающая социология» М. Вебера), неприемлемо для исследования этноса. Индивидуум появляется как социальное явление лишь в обществах, производных от этноса, и только там, в более сложных системах, начинает играть хоть какую-то роль. В этническом обществе нет ни индивидуума, ни коллектива (как собрания индивидуумов), нет даже отдельно общества и отдельно природы. Есть только мир масок, складывающихся и раскладывающихся в самостоятельные семантические ряды.
Люди, духи, звери, растения, светила могут быть отнесены к полю одной из двух этих масок — «базовых личностей». Человек становится человеком (личностью) через ношение маски — обрядовой в определенных случаях или менее заметной в случае всех остальных ситуаций, в которых он оказывается в структуре этноса. Но, становясь человеком, человек в этносе становится чем-то большим, чем человек: он присоединяется к обобщающей совокупности космических значений, заключенных в статусе, т. е. становится личностью космической. Статус интегрирует человека в социально-космические ряды, и маски показывают наглядно, как это происходит.
Дуальность масок: swaihwe и dzonokwa
В той же книге «Путь масок»467 Леви-Стросс наглядно иллюстрирует дуальный характер обрядовых масок у некоторых племен североамериканских индейцев — кауан, квакиутль и т. д., входящих в лингвистическую семью сэлиш. Дуальность масок предопределяет некоторый антропологический дуализм самого этноса. Это дуализм, являясь основой конкретизации статуарной модели, не ограничен только человеческим обществом, но простирается на всю окружающую среду — включая природные явления и мифы.
Леви-Стросс описывает два типа масок и два ряда, связанных с ними мифами, обрядами, поверьями и табу. Первый тип называется на языке сэлиш «swaihwe» и изображает лицо с выпученными глазами, выдающимся носом, торчащими зубами, рогами и перьями, обрамляющими его со всех сторон.
Второй тип называется dzonokwa, имеет впавшие пустые глазницы, открытое отверстие рта, волосы или перья в верхней половине.
Эти маски представляют собой два обобщающих статуарных набора этноса, две версии «базовой персональности».
Версии маски swaihwe функционально, ритуально и семантически связаны с полнотой и вытекающим за свои пределы изобилием. Танцоры, носящие эту маску, считаются способными вызвать землетрясения, бурю и страшные катастрофы, если их вовремя не остановить. Это полюс насыщенности и полноты мира.
Маска dzonokwa, напротив, описывает недостаток, убыток, провалы в поле существования. Она так же опасна, как и первая маска, но не от силы, а от ее гнетущей слабости.
Два статуарных набора, воплощенные в двух масках и связанных с ними мифологических и ритуальных комплексах, обобщают сложные цепочки статусов, сводя их к парадигме изобилия и недостатка, жизненной энергии и умирания (энтропии), движения изнутри-наружу и извне-вовнутрь и т. д. Это своего рода основа грамматики общества, проявляющейся в социальных парах, так или иначе сопряженных с масками.
Этнические дихотомии
Дуальность масок как резюме базовых статуарных наборов раскладывается на ряд внутренние вторичных дихотомий, сквозь которые реализуется в этносе человеческое (точнее, космо-человеческое) начало. Эти вторичные дихотомии так или иначе сопрягаются с гендером. Поэтому этнос и его структуры в значительной степени строятся вокруг гендера.
Гендерный дуализм и связанная с ним статуарность имеет также космическое измерение. Звери, светила, растения, камни, природные явления, а также предметы, обряды и социальные институты в этносе обязательно имеют пол. Этот пол является статуарным и «персональным»; пол — как место, зарезервированное в рядах, из которых складывается мир и общества. В этносе пол есть статус.
В исследуемых Леви-Строссом масках swaihwe — это мужская маска, а dzonokwa — женская. Но важно заметить, что неверно говорить, что swaihwe «изображает мужчину», а dzonokwa — «женщину». Семантика этноса рассматривает вначале общее, а затем только частное. Это мужчина «изображает» swaihwe, играет его роль, несет на себе его статус, а женщина совершает то же самое в отношении dzonokwa. «Личность» как социокосмическое явление более широко, нежели пол в чисто человеческом смысле.
Поэтому этнический гендер является социокомическим таксоном.
Эта базовая дуальная статуарность проявляется:
• в экзогамной структуре рода (геноса), предполагающей простую или более сложную структуру свойства;
• вытекающем из этого районировании социального пространство обитания этноса, в котором так или иначе выделаются родовые территории (часто организованные дихотомически или в соответствии с более сложной симметрией, возводимой к дихотомии);
• функциональном осмыслении статусов мужчин и женщины;
• гендерном разделении труда;
• гендерной организации пространства.
Homo exogamus
Этнический человек есть человек экзогамный. Об этом в своей публичной лекции «Дуальные структуры в обществах» красочно рассказывал академик Вяч. В. Иванов. Приведем выдержки оттуда.
«Со своими друзьями и своим соавтором Владимиром Николаевичем Топоровым я устроил в 1962 году экспедицию для изучения кетов, несколько загадочного сибирского народа. Они и сейчас живут на Енисее. (…)
Мы приехали в одну из деревенек, куда свезли этих в прошлом кочевников (…).
В эту школу к нам пришло несколько человек, в их числе одна старушка и один молодой человек, двадцати с чем-то лет, вполне уже советский. Он был членом комсомола, прилично говорил по-русски. И вот целый вечер мы с ними сидим, они переводят мне какие-то фразы, которые я им говорю по-русски, но потом мне надоедает, и я понимаю, что все время говорю им что-то свое. И я говорю молодому человеку: «Знаете, вы лучше что-нибудь мне скажите на своем языке, но такое, что по содержанию вам кажется существенным. Вот первое, что приходит в голову, но свое». И первое, что он, не задумываясь, мне сказал: «Всегда бери жену из другой половины племени». И это лозунг, на котором строится то, что мы называем дуальной организацией общества древних и первобытных народов»468.
Здесь Вяч.В. Иванов описывает основу этнической антропологии, управляющейся главным законом — экзогамии («Всегда бери жену из другой половины племени»). «Другая половина племени» означает «другой род», который не является родным и позволяет браку быть легитимным.
В этом мы можем увидеть очень важный момент. Дуальности анатомического пола — мужчина/женщина — недостаточно для того, чтобы мы получили брак. Эта дуальность не является базовой и не может рассматриваться как ядро статуса. Ядром статуса является, по словам кета, приводимым Вяч.В. Ивановым, «половина племени», которая выступает как «другая» в отношении первой половины469. Только женщина «другой половины племени» является социальной женщиной (невестой, женой) в этносе. Женщина «этой половины племени» не является социальной женщиной в полном смысле. Она может ею стать только в процессе ее выдачи замуж в другую половину и только для представителей той другой половины.
Вяч.В. Иванов развивает эту мысль в продолжении своей лекции:
«Общество делилось на две половины, каждый знал про свою половину. Что касается этих кетов, я могу сказать, что они и некоторых животных также относили к людям. В частности, у медведя несколько душ, как и у людей, поэтому, когда медведя убивают, после охоты устраивается медвежий праздник, во время которого гадают. Подбрасывают медвежью кость и определяют таким образом, к какой половине племени он принадлежал. Часть животного мира тоже делится на эти половины. И вообще весь мир делится на две половины. Это то, что мы называем дуалистической мифологией. Все мифологические существа и стихии — небо, земля и т. д. — тоже делятся на две группы, которые соответствуют одной из половин племени».470
Конкретизация статуса в этносе, таким образом, представляла собой обязательную принадлежность к одной из двух половин. И в определенных случаях именно этот статус оказывался решающим. Важно было не то, идет ли речь о человеке или о медведе, но о том, к какой половине племени данная «личность» принадлежит.
«Человек играющий» в этнической дуальности
Антропологический дуализм экзогамных родов предопределяет дуальную структуру поселений, где различие между экзогамными группами подчеркивается пространственно. Это предопределяет локализацию рода и, соответственно, структуры матрилокальности и патрилокальности, о которых шла речь при рассмотрении идей Леви-Стросса.
Бинарная организация социального пространства сводится к тому же дуализму масок. Очень часто это подчеркивалось определенной иерархизацией в тотемических символах родов, в местных локальных легендах и обрядах. Важнейшей задачей этноса было четко прочертить границу между двумя статуарными комплексами, в том числе и через локализацию родовых поселений. Эта физическая граница сопровождалась множеством способов прочертить ее и на уровне межродовых отношений.
Здесь чрезвычайно важно привлечь работы голландского культуролога и историка Йозефа Хейзинги (1872–1945), который в своей книге «Homo Ludens»471 («Человек играющий»), исследовал значение игры для становления человеческой культуры. Хейзинга показывает, что игра лежит в основе многих социальных и культурных институтов, включая философию, музыку, театр, религию и т. д. Базовый алгоритм игры сводится, по Хейзенге, к игровому противостоянию двух экзогамных групп этноса, которые через соревнование, соперничество, оппозицию и даже конкуренцию и вражду организуют социальное поле таким образом, что единство этноса сохраняется, а внутри него жестко прочерчивается водораздел между двумя (и более) частями. Это сочетание модерируемой оппозиции, которая не переходит в прямую вражду и не нарушает целостную гармонию этноса, и лежит в основе культуры как явления.
Это прекрасно объясняет структуры дуальной антропологии этноса, воплощенной в дуальности базовых статуарных наборов. Группа одной маски (личности) соревнуется с группой другой маски, чтобы подчеркнуть их различие внутри обобщающего единства. Только благодаря этой игре реализуется возможность полноценной экзогамии. Но здесь самое важное — пропорции игры, т. е. сама игра, которая призвана провести различие, но так, чтобы не вызвать разрыв и переход к прямой вражде и агрессии, т. е. к расколу этноса. Ведь вторая (противоположная) группа/маска представляет собой «свояков» и источник женихов и невест для данной группы/маски. Вражда и состязания между фратриями неразрывно связываются, таким образом, с брачным символизмом.
Если использовать выражение Хейзинги, можно сказать, что «человек этнический есть человек играющий», «homo ludens», который в ходе игры реализует все основные «персональные» функции. Этнос есть пространство межфратрийной и одновременно брачной игры.
Гендер и труд
Гендерное разделение труда прослеживается в самых простых и архаических обществах. Мужчины преимущественно занимаются охотой, а женщины собирательством. При этом считается, что наиболее древними формами охоты является ловля диких животных с помощью силков, капканов и ловушек. Сюда же относится и ловля рыбы. Лук и стрелы, а также копья появляются под воздействием внешних для самых архаических обществ импульсов.
Женщины же в таких обществах собирают плоды или откапывают съедобные коренья (в частности, ямс). Будучи привязанными к детям и часто беременными, женщины архаических этносов недалеко отходят от жилища. Мужчины же удаляются на большее расстояние.
Забота о детях и поддержание очага, а также приготовление пищи считается женским трудом даже там, где для жилища используются легкие навесы или природные укрытия — ямы, пещеры, расщелины. «Домом» в архаических селениях считается очаг, и забота о нем практически всегда без исключения является прерогативой женщины.
Эти гендерные функции также являются интегральной частью генедреного статуса. Фигура «выкапывающего», «собирающего», «поддерживающего огонь», «ухаживающего за детьми», «готовящего пищу» есть женский гендерный ряд. «Уходящий далеко от жилища», «охотящийся на зверей», «имеющий силки» — мужской гендерный ряд.
В аграрных обществах гендерное разделение труда качественно меняется. Значение и ценность женщины возрастает, т. к. аграрные этносы жизненно зависят от огородов, полей и садов, которыми преимущественно занимаются именно женщины. Они обеспечивают стабильное обеспечение продуктами, развивая свой гендерный труд (собирательство недалеко от жилища) в сторону искусственной организации вокруг селения возделываемого, обрабатываемого пространства. В архаических обществах обработка почвы мотыгами — дело женщин. Мужчины привлекаются, как правило, для посадки садовых деревьев, которые они опускают в ямку, вырываемую женщинами.
Если женщина в аграрных обществах занимается огородом, полем и садом, то мужчина разводит мелкий скот. В целом же в аграрных обществах статус женщины качественно возрастает, что может дать как матриархальный, так и патриархальный результат. В первом случае статуарный набор «женских масок» приобретает дополнительные степени свободы, что, в частности, проявляется в повышенной эротической свободе девушек до замужества и в наделении женщин (как правило, пожилых матрон) публичными функциями. Во-втором, мужчины начинают относиться к женщине как к «инструментальной ценности», что провоцирует полигамию и ярко выраженный патриархат.
И наконец, в обществах пастухов-скотоводов окончательно происходит структурирование жесткого и ассиметричного патриархата, мужской статус ставится в четкое вертикальное положение над женским, что порождает особую социальность кочевых этносов, без исключения полигамных, где утверждается отношение к женщине как к собственности, складываются первые правовые и экономические кодексы, жестко закрепляющие маскулинистскую статуарность в нормативном социальном укладе.
В кочевом обществе роль женщины становится впервые полностью подчиненной и однозначно второстепенной, чего нет ни в охотничьих, ни в аграрных этносах, где в той или иной степени сохраняется гендерный баланс статусов. Мужские и женские маски там взаимодополняют друг друга. В кочевых пастушеских обществах генедерная дихотомия впервые приобретает необратимо иерархическую маскулинную форму.
Шаман — главная фигура этноса
С точки зрения антропологии этноса следует выделить ту фигуру, в которой концентрируются одновременно все основные статусы и которая, таким образом, может быть рассмотрена как прямое выражение «базовой персональности», как «личность» по преимуществу. Это фигура шамана.
Шаман стоит в центре этноса и является его главной «маской», «маской масок».
Шаман в этносе представляет собой его персонифицированный и функциональный синтез. Он выполняет главные работу этноса: следит за сохранением постоянства этнической структуры. Шаман выражает собой баланс, то, что делает этнос этносом — неизменность, непрерывность, трансляцию кода, передачу знаний (мифов, обрядов, традиций), исправление всех погрешностей социального и природного характера, с которыми сталкивается этнос. Шаман обеспечивает неизменность статики, он есть выражение этноса как статического явления.
Все частные функции — целительство, предсказания, обряды, вождение душ (функция психопомпа), транс, участие в брачных церемониях, религиозные культы, магические операции и т. д. — вытекают из главной функции: шаман должен быть. Его бытие-наличие обеспечивает то, что есть этнос. Этнос без шамана — столь хрупкое явление, что оно вот-вот грозит рассыпаться. С.М. Широкогоров в одной из своих работах о шаманизме у тунгусов говорит о том, что для тунгусов нет ничего страшнее периода, когда один шаман умирает, а другой еще не прошел посвящения и не приступил к своим обязанностям. Этот промежуток «бытия без шамана»472 считается самым страшным испытанием и катастрофой.
Шаман — водитель душ и защитник этноцентрума
Интегральное значение шамана как центра этнической антропологии можно проследить на примере тех же эвенков. Именно шаман, по мысли эвенков, заведует самыми главными процессами в циркуляции душ по силовым каналам этноцентрума.
Когда эвенк умирает, его тело кладут на особую платформу в удаленном месте в тайге473. Считается, что душа-бэен остается с ним, пока от трупа не останется один скелет. В этот момент шаман осуществляется обряд «анан». Он входит в транс и отводит душу-бэен умершего эвенка к устью реки, в лагерь предков. Там он передает ее в руки «древних людей», после чего, возвращаясь, тщательно заделывает проход с помощью духов-помощников.
Другая душа умершего, хэян, становится невидимой и превращается в нечто новое, в душу-оми. «Оми» означает «становление», «возникновение», «зародыш». Душа-оми движется к истокам реки этноса (в мир «омирук») и селится там.
Далее разыгрывается чрезвычайно важный момент посмертной драмы. Через некоторое время, глава селения предков, великий «манги» (предок-медведь) замечает, что ему шаман доставил не всего человека, а только его тень — душу-бэен, а души-хэян не хватает. Манги поднимается к истокам реки, находит недостающую душу и приказывает ей идти с ним. По пути душа-хэян обманывает «манги», превращается в птицу или зверя и возвращается в «омирук», к истокам реки. Оттуда душа-оми летит в среднее селение живых эвенков, проскальзывает в дымник юрты к алтарю женского духа «того мушу», которому постоянно приносятся жертвы, и оттуда скачет незаметно в тело женщины-хозяйки юрты. В результате та рождает ребенка, и все повторяется снова.
Шаман выполняет важнейшую функции — он проводит душу-бэен в обитель предков у дельты реки этноса и «обманывает» манги, чтобы другая душа — хэян, успела превратиться в оми и упорхнуть к истокам реки. Если кто-то умрет в период, когда у племени нет шамана, то процесс круговращения душ остановится. Все души отойдут в мир предков, и рождаться будет некому.
Шаман обеспечивает также защиту этноцентрума. Он обносит территорию, где живет этнос особой невидимой оградой, которая проходит по речкам, холмам, полянам и чащам. Эта ограда называется «марылья» и препятствует тому, чтобы злые духи проникли на территорию этноса и нарушили его равновесие. В этом шаману помогают духи-птицы, духи-звери, духи-рыбы, духи-земли. Они строят ограду этноцентрума сквозь все стихии, реорганизуя священные слои космоса474.
Шаман и реинтеграция
Очень содержателен с точки зрения антропологии этноса обряд шаманского посвящения.
Когда старый шаман умирает, его звериный двойник (харги) отправляется в низовья реки и сообщает первопредку-медведю (манги) об этом событии. Тогда манги приказывает одному из духов ранее умерших шаманов, идти в селенье живых и найти там подходящего юношу или девушку для того, чтобы воплотиться. Отыскав кандидата, дух нападает на него и приглашает или заставляет стать шаманом. Так для избранного начинается период испытаний. Это называется «шаманская болезнь»475. Молодой человек иди девушка перестают работать, убегают в лес, ничего не едят, ведут себя аномально с точки зрения всех установок племени. Эвенки считают, что душа-хэян этого человека вместе с духом старого шамана начинает свое путешествие по горам предков, пока они не достигают изначального центра — перво-горы этноса.
Там, у подножья шаманского дерева, в окружении звериных рогатых духов лежит великая зверо-мать, чаще всего описываемая как мать-олениха. Дух посвящаемого входит в зверо-мать, и та его рождает в виде четвероногого зверя, рыбы или птицы, изредка в форме человека. Это зависит от тотемной структуры рода, к которому принадлежит шаман.
Когда мать-олениха рождает нового шамана в зверином виде, гора превращается в дом, мать-олениха в старуху, духи — в человеческие фигуры. Все они расчленяют будущего шамана на части, вываривают его кости, закаляют их на огне, куют их и собирают в новую антропоморфную форму.
После этого собранный заново шаман вместе с полученными от зверо-матери духами-помощниками и зверями-помощниками возвращается к своему племени и там торжественно посвящается в шаманы. С этого момента он становится сердцем этноса.
В описании обряда шаманской инициации следует обратить внимание на чередование форм — человеческой, животной и духовной (духи). У многих архаических этносов есть предание, согласно которому «было время», когда люди, духи и звери представляли собой один и тот же вид и могли свободно становиться то тем, то другим в зависимости от ситуации. Но потом в результате какого-то трагического события, все они утратили эту способность. Кого это событие (его форму и значение довольно трудно корректно восстановить) застало в человеческом образе, тот остался человеком, кого в зверином — зверем, кого в виде духа — духом.
Шаман в своем посвящении возвращается к тому состоянию, когда этого разделения «еще» не произошло. Он интегрирует в себя все уровни мира — звериный, человеческий и духовный, восстанавливая через обряд посвящения изначальную природу. Но теперь его тройственная природа выражается через духов-помощников и зверей-помощников. Входя в транс, шаман снова интегрируется и в своих странствиях и битвах перевоплощается то в духа, то в животное, то снова в человека.
В этом ключ к нормативной антропологии этноса. Этнос полностью интегрален и включает в себя и человеческое и нечеловеческое (звериное, духовное). И только тот человек является в этносе полноценным, который одновременно является и живым и мертвым, и предком и потомком, и человеком и зверем. Это объединение противоположностей выражается в шамане, который часто носит одежду противоположного пола и в целом ведет себя по правилам, существенно отличающимся от правил остальных членов этноса. Шаман, восстановив себя в изначальном человеческом качестве, получает способность восстанавливать и других членов этноса. Это проявляется в лечении, в защите этноцентрума через магическую ограду, в борьбе со злыми духами, в провождении мертвых к устью великой реки и т. д. Шаман и есть концентрированная фигура этноцентрума, он есть этноцентрум.
Резюме
Статическая структура этноса складывается из нескольких основополагающих элементов:
– этническая интенциональность, парадигма мифологического мышления;
– этноцентрум, пространственная синхроническая модель мира, многослойная карта;
– этнотемпоральность, организация этнического времени — чаще всего в форме циклов и «вечного возвращения»;
– «базовая персональность» этноса как статуарный набор, «маска»;
– двоичная модель общества — в форме экзогамности, генедерного разделения труда и т. д.;
– этническая антропология, ярче всего выраженная в фигуре и функции шамана, нормативного космочеловека.
В чистом виде мы встречаемся с такой ясной структурой только в самых простых этносах. Как правило, реальная структура намного сложнее и нюансированней. Но если рассмотреть эту структуру как своего рода топику, концептуальную карту этнического анализа, то она существенно поможет нам в исследовании безграничного многообразия архаических этносов, которые можно классифицировать и изучать в соответствии с этой схемой, а также при разборе структуры более сложных обществ, производных от этноса.
Это легко проверить, если обратить внимание на то, что и современная социология свой анализ сложных обществ строит на схожих принципах, в которых:
– этнической интенциональности соответствует «коллективное сознание», «общественное мнение» или «ментальность»;
– этноцентруму — организация социального пространства, например городская и промышленная архитектура;
– этнотемпоральности — социология времени, исследовавшаяся, например, Ж. Гурвичем;
– «базовой персональности» — «социологический человек» (Р. Дарендорфа);
– двоичной модели — половая дифференциация в современном обществе и дуальный код в праве, философии, технологии, морали, религии и т. д.;
– этнической антропологии — фигура автономного индивидуума, столь же фантастическая» по своим нормативным признакам и онтологическим характеистикам, как и фигура шамана.
Разница состоит лишь в том, что классическая социология начинает с рассмотрения современного общества (т. е. с социологии) и проецирует его нормативы на общество архаическое (этнос), а этносоциология предлагает перевернуть эту процедуру и рассмотреть современное общество как версию архаического. Оба этих подхода не исключают, но взаимодополняют друг друга. Поэтому часто в ХХ в. тонкая грань между социологией и антропологией (т. е. этносоциологией) стиралась, и ряд фундаментальных авторов (Э. Дюкргейм, М. Мосс, К. Леви-Стросс, Б. Малиновский, Э. Эванс-Причард, М. Гране, Р. Линтон, А. Кардинер, Р. Турнвальд и т. д.) могут быть легко отнесены и к той и к другой ветви науки.
Глава 7
ЭТНОДИНАМИКА
§ 1. Смысл этнодинамики в сохранении неизменной структуры этноса
Воля к статике
Статическая картина этноса представляет собой нормативный образ, своего рода идеал, к которому стремится этническое общество. Этнос стремится быть самим собой, т. е. неизменной и константной, полноcтью равновесной структурой. Сущность этноса заключается в гармонии и постоянстве. Таким образом, статическая структура этноса может быть рассмотрена как его экзистенциальная цель. Смысл этноса состоит в том, чтобы быть статичным. В основе этноса лежит воля к статике.
Неизменность этноса и постоянство его структур нельзя рассматривать как социологическую фатальность. Измерение свободы присуще всем человеческим типам. Человек всегда может сказать «да» или «нет» тому, чем он является, среде, в которой он живет, общественному укладу, который его предопределяет, и т. д. Поэтому мы и можем говорить именно о воле к статике как об определенном ценностном выборе и о реализации человеческой свободы. Неизменность не является роком для этноса, но результатом своеобразной работы духа, утверждающего определенный норматив и стремящегося воплотить его в действительность, создав тем самым эту действительность.
Этнос создает неизменность и проживает ее. Поэтому в этносе всегда есть пространство для выбора: сказать неизменности «да» или «нет». Консерватизм, поддержание одного и того же порядка вещей, в отличие от обывательского понимания, требует огромного напряжения, волевого выбора, наделяющего постоянство ценностным свойством, интенсивного труда, усилий, социальной работы. Чтобы структура этноса была постоянной, этнос работает. Эта работа формирует особое измерение этноса, которое можно назвать «этнодинамикой».
Определение этнодинамики и феномен «опасности»
Этнодинамика представляет собой сферу процессов, которые:
– протекают в этносе как в его отношениях с окружающей средой, так и внутри его социальной структуры;
– направлены на сохранение этносоциальной структуры неизменной;
– противостоят появлению внутри этноса того, что можно назвать «новым», «событием» или «социальным изменением».
Этнодинамические процессы носят реактивный характер (чаще всего являются ответами на вызовы, а не самими вызовами) и являются флуктуациями, т. е. колебаниями вокруг строго заданной точки или оси. В динамике этноса участвуют силы и расходуется работа, энергия. Но эти силы и эта энергия призваны обеспечить сохранение неизменной статической картины этноса, константность структуры этноцентрума.
Греческое слово «δύναμις», от которого образован термин «динамика» и, соответственно, «этнодинамика», означает «силу». Русское слово «сила» восходит к индоевропейской основе, общей и для немецкого слова «die Seele» и английского «soul», «душа». Наличие силы мыслится этносом как одушевленность, действие души. По-гречески «душа» — «ψυχη», «псюхе», откуда «психика». Связав эти слова между собой, мы получаем представление о едином комплексе «силы-души» или о «психическом измерении» этноса. Область этнодинамики можно назвать зоной интенсивной психической деятельности этноса.
Этнос как койнема в определенной степени осознает то, что неизменности его структуры, осознанной как норматив и экзистенциальная цель, угрожает «опасность». Эта «опасность» в статике снята и мыслится как нечто «преодоленное». Поэтому этноцентрум есть зона безопасности. Все, что включено в этноцентрум, безопасно, а в этноцентрум теоретически включается все. Но так обстоит дело в случае норматива. В действительности «опасность» периодически возникает и дает о себе знать. Противодействие этой «опасности», ее снятие, преодоление составляет главный смысл этнодинамики. Этнос движется и меняется для того, чтобы преодолеть «опасность», заложенную в изменении и движении. Это движение на месте, удержаться на котором подчас не так просто.
Можно проследить это на примере круговращения душ в этноцентруме. Смерть и рождение человека мыслятся включенными в общую неизменную структуру цикла: новые души — старые души, а те и другие — вечные души. Пока этнос есть, нет смерти, и сохраняется постоянство вечного возвращения душ. Вечность души мыслится конкретно как вечность жизни и вечность этноса, как вечность этноцентрума. Внутри него нет опасности; все, что находится внутри этноцентурма, живет вечно и вечно остается самим собой, вечно проживается как оно само и как одно и то же.
Но для того, чтобы вечность была обеспечена, требуется приложить серьезные усилия, направленные на поддержание общей структуры этноцентрума неизменной. Это и есть область этнодинамики.
Шаман и его этнодинамические функции
Главную роль в этнодинамике играет шаман476. Именно он, как мы уже видели, обеспечивает замкнутость внутриэтнических процессов, помогает оградить этнос от внешних влияний, способствует круговращению душ и лечению заболеваний. Шаман представляет собой основу этноса, его экзистенциальное сосредоточение, его жизненную ось. Шаман в первую очередь ответственен за то, чтобы в этносе не произошло «социальных изменений», чтобы «новое» было исключено заведомо. Таким образом, его основная функция состоит в реализации динамического консерватизма.
Это ярче всего проявляется в шаманской инициации.
В начале этой инициации шаман заболевает «шаманской болезнью», т. е. демонстрирует признаки аномального, девиантного поведения. Он берет на себя «опасность», «риск». Это и есть «новое» как непредвиденное в нормативных структурах этноса. Шаман ведет себя «странно» (т. е. непривычно, необычно), и этот признак становится меткой его избранничества. Он заболевает, чтобы выздороветь и чтобы впоследствии лечить других.
Далее в процессе инициации шаман преодолевает «изначальную катастрофу», в ходе которой древние синтетические существа разделились на духов, людей и зверей. То есть шаман справляется с опасностью и чинит общую всевключающую структуру этноцентрума, которая подверглась «трансформации». Разделение изначальных существ на три вида было «новым», «событием», «социальным изменением», что стало первокатастрофой и расщеплением этноцентрума. Это была «опасность» в ее парадигмальном выражении, и любая «опасность», с которой сталкивается этнос, в той или иной степени повторяет этот трагический алгоритм разделения — отделение души от тела, потерю, утрату, расщепление социальных институтов и т. д. Дифференциация этноса как неразрывного, нерасчленимого единства мыслится как «зло». «Зло» порождает «опасность», и эту опасность снимает шаман.
В шаманской инициации шаман восстанавливает изначальное единство духов, людей и зверей через обретение помощников. Он проходит реинтеграцию, преодолевает угрозу и сам становится носителем целостности. Эта внутренняя, завоеванная в ходе инициации целостность и является гарантом его возможности исцелять (делать целыми) других. Латинская поговорка «medico cura te ipsum» (врач, излечи самого себя) в случае шамана в полной мере реализуется. Его инициация есть его излечение, реализация антропологического норматива, реставрация полноты и цельности этноцентрума. Став «здоровым», «целым», шаман способствует оздоровлению и исцелению всего остального.
В этом состоит сущность этнодинамики: преодоление «нового», которое мыслится только и всегда как «катастрофа» хотя бы потому, что «новое» отлично от старого и не сводимо к нему, а значит, является дифференциацией, расчленением целого и расщеплением единства.
§ 2. Этносоциализация
Этносоциализация как процесс
Психическая работа этноса может быть сведена к общему виду — к процессу этносоциализации. Любой институт, любой обряд, любое действие человека внутри этноса можно рассматривать как момент этносоциализации. У этносоциализации есть ключевые, кардинальные моменты, а есть и второстепенные. Но в любом случае этническое бытие развертывается как непрерывный и постоянный процесс этносоциализации.
В этом проявляется сущность этнодинамики. Чтобы быть, этнос должен стать. Поэтому этнос находится в постоянном становлении самим собой, в постоянном стремлении к своей собственной самотождественности и неизменности. На это и направлена этносоциализация, она непрерывно подтверждает идентичность этноса, его тождество самому себе. В этом процессе члены этноса постоянно говорят «да» этносу, подтверждают согласие и поддержку этнической структуры как нормативного, должного, «благого», а потому и реального. В рамках этнического интенционального мышления благое, нормативное и «реальное» (фактически существующее) совпадают.
Поэтому процесс этносоциализации означает не просто постоянное подключение индивидуума к этносу, но и постоянное утверждение — через это включение или включенность — самого этнического тождества.
Мы упоминали об изученном французским этносоциологом Морисом Леенгардтом феномене До Камо, как обобщенном и сверхиндивидуальном этническом «субъекте», включающим в себя также отдельные сакральные предметы и явления477. Этносоциализация может быть рассмотрена как постоянное подтверждение бытия До Камо, его конституирование через исполнение социальных предписаний этноса. До Камо есть фактически, но одновременно он должен быть, он есть благо, моральный императив. Поэтому, будучи свободным от каждого конкретного человека и несоизмеримо превосходя его, До Камо зависит от этнического сообщества в целом, которое и есть он сам. Индивидуум есть маска, знак, но это функциональный знак, который, осознавая и признавая себя таковым, укрепляет общий порядок вещей. Этнос исчезнет, если откажется в какой-то момент говорить До Камо «да», чтить его, приносить ему жертву, соблюдать его табу, следовать его установкам. Поэтому этнос в целом зависит от этносоциализации каждого своего члена в отдельности. Живя, этнос создает и поддерживает До Камо.
Имя и ситуация
Важнейшей формой этносоциализации является обретение «имени». Обладание «именем» в этносе является главным условием принадлежности к нему. Имя — это место индивидуума в этнической структуре. Каково имя — таков и индивидуум. Одно и то же имя может быть дано разным индивидуумам, но их статус в этническом сообществе в таком случае будет мыслиться как нечто тождественное. А т. к. статус в этносе и есть человек, эти два индивидуума будут считаться одним и тем же индивидуумом — со всеми вытекающими последствиями. Поэтому в этносе практически не бывает людей с одинаковыми именами; т. к. в противном случае они были бы одним и тем же человеком.
Это обстоятельство помогает понять трудность, связанную с теорией перевоплощения — душ или людей, элементы чего многие антропологии обнаруживают в разных архаических и религиозных культурах (в частности, в индуизме и буддизме, особенно тибетском, где на «перевоплощении» основана трансляция статуса далай-ламы и других высших иерархов ламаистской общины). Большинство архаических представлений не мыслят душу или человека как индивидуальную субстанцию. Душа есть функция, маска, означающее некий конкретный элемент в общей структуре этноцентрума. Так как этноцентрум является целостным, холистским, то этот элемент может находиться в соответствии с пространственными ориентациями, ландшафтом, зверьми, растениями, природными явлениями, а также с техническими инструментами, духами или временными циклическими инстанциями. Элемент этноцентрума, определенный по какому-то одному или нескольким параметрам (например, Черный Олень, Большой Ворон, Летящая Стрела, Огниво, Зимний Снег и т. д.), и есть имя. Но поскольку этноцентрум является всеобщим, то при именовании какого-то одного признака его элемента остальные признаки подразумеваются и легко опознаются в рамках этнической культуры. То есть имя всегда есть метонимический знак, эксплицитно называющий один или несколько признаков элемента этноцентурума, но подразумевающий имплицитно остальное неназванное множество, совершенно очевидное для членов этноса. Элементы этноцентрума постоянны в этностатической картине, но в этнодинамической картине они уходят и возращаются. Это иногда и может изображаться как «перевоплощение». Но т. к. индивидуальной субстанции в этносе нет, то нет и того, что бы перевоплощалось: речь идет о теоретической константности функций (ансамбля имен, совпадающим с языком), проявляющейся через их перманентную циркуляцию.
Поэтому у индивидуума в этносе нет отдельного бытия, отличного от имени (как знака, маски, функции). Человек есть только как функция и имя. Без имени его нет. Имя дается этносом, и в нем же заложен смысл и функция, четко указывающее место в этноцентруме. Есть только этноцетрум и его «места». Эти места суть имена. Индивидуум есть в той степени, в какой он занимает место в этноцентруме.
Отсюда можно сделать важный вывод. Человек мыслится в этносе как ситуация. Латинское слово «situatio» означает «расположение», «поставленность». Ситуацию в этом случае надо мыслить в рамках этноцентрума как место, фиксированное в его общей структуре. Именно место в этноцентурме есть бытие имени. А индивидуум начинает соучаствовать в бытии через наделенность именем как онтологическим местом.
Поэтому получение имени или его изменение представляет собой ключевой, поворотный момент этносоциализации. Обретая имя в этносе, индивидуум обретает бытие. Утрачивая имя, он теряет все. Это гораздо хуже, чем смерть. Так как физическая смерть мыслится как переход к новому статусу и к новому имени — к имени «предка», «духа». А утрата имени означает разрыв связи с этноцентрумом и полное исчезновение.
Табуирование зеркала
Понимание человека как имени и отсутствие бытия у индивидуальной субстанции является сущностной чертой этноса. Не верно было бы сказать, что этнос «еще пока» не знает индивидуума как явления. Он знает о нем, но сознательно отрицает его, перечеркивает, уничтожает как элемент «нового», что расщепляет единство и целостность этноцентрума. Этнос упраздняет индивидуума как возможность, он устроен так, чтобы индивидуум не смог появиться, чтобы маски не заподозрили, что существует их носитель, что может теоретически существовать «бытие без маски». Если «без маски», «без имени», то мы имеем дело с небытием. Знак имеет смысл только в контексте этноцентрума. Сам по себе вне контекста он не значит ничего.
С этим связаны различные табу на использование зеркала478 и демонизация отражения. Отражение представляло собой «опасность» по двум причинам: оно удваивало объект, т. е. расщепляло «маску», лишая ее целостности, и в то же время, выводило на первый план самого носителя маски. Обе эти операции нарушали понимание личности как имени и ситуации в этноцентруме и, следовательно, несли в себе угрозу для этноцентрума. Поэтому даже в Средневековье зеркало считалось инструментом колдовства, и обладание им могло быть приравнено к недозволенным ведьмовским практикам479.
Табуирование отражения было призвано предотвратить опредмечивание мира, придание ему самостоятельного бытия помимо его знакового смысла. Интенциональное мышление не допускало саморефлексии, т. е. процесса сознания, обращенного на само сознание. Поэтому процесс этносоциализации исключал саму возможность появления философского сомнения — утверждение себя в этносе гарантировало надежность и несомненность наделенности бытием, вопрос о подлинности которого не мог возникнуть даже чисто теоретически. Вопрос о вещи и образе (представлении) и их соотношении не вставал и не мог встать: и то и другое были строго тождественны.
Этносоциализация и язык
Главную функцию этносоциализации выполняет язык. Он представляет собой потенциальный упорядоченный набор имен и является эквивалентом этноцентрума и самим этноцентрумом (т. к. дуальности между означающим и означаемым в интенциональном мышлении нет). Любая речь — бытовая, техническая или церемониальная — в этносе представляет собой очерчивание маршрута внутри этноцентрума, новое и новое описание фрагмента его структуры. Каждое высказывание в этносе есть конституирование этноса как языка и говорящего, как его часть и его «место». Сам процесс говорения можно уподобить изображению на карте привычных объектов, их соотношений и соответствий между ними. Речь прочерчивает снова и снова общую карту языка и его цельного строения. Ритуальные и устойчивые обороты речи, сакральные формулы и наиболее распространенные фигуры призваны закрепить основные узлы карты этноцентрума, служащие системой координат. Постоянное их повторение служит именно закреплению постоянства и неизменности этнической статической структуры.
Языковое общение в этносе является важнейшим психическим явлением. В обмене словами, именами и речами происходит этническая работа души по постоянному уточнению ситуационирования имен в этноцентруме — включая тех, кто говорит, с кем говорят и о чем говорят. Любая беседа в этносе представляет собой расстановку этноноэм (этнических вещей) по своим местам в этноцентруме, проигрывание на разные лады церемониала упорядочивания мира. Индивидуальность говорящего и практическое значение (во внеязыковой сфере) разговора в этническом общении второстепенны и не имеют большой самостоятельной ценности. Речь представляет собой автономный обмен именами и их расстановку на карте этнического языка. Если эта расстановка имен по местам требовала действий от участников разговора или влияла на практическую область, то это было само собой разумеющимся следствием, уже заложенным в общении. Обмениваясь именами вещей и явлений, люди в этносе не «обозначают» их, но утверждают их бытие в факте самого произнесения, выводя из потенциальности языка в актуальность речи. Но поскольку потенциальность всегда шире, чем актуальность, то речи повторялись — в точности или с вариациями, как повторялись действия, жесты и поступки в этническом обществе. Общая структура представляла собой набор постоянно рассказываемых мифов, которые можно назвать «речами базовой личности». Говорящий на языке производит язык и самого себя в самом процессе говорения. Так как сам говорящий, нарратор, есть имя среди имен, то, произнося имена, он осуществляет онтогенез, т. е. производит бытие. Бытие этноса конституируется в ходе процесса говорения. Этнос есть, пока существует речь, построенная по законам языка, и пока она звучит.
Инициация
Важнейшей задачей этносоциализации является включение в этнос всего. Все должно получить в этносе имя и место. Этнос не допускает наличия другого. Все должно быть определено, названо, измерено, поставлено на свое место. Этнодинамика, таким образом, есть процесс непрерывного включения.
Важнейшим элементом этносоциализации является инициация, посвящение. Этот обряд существует практически во всех этносах за самым редким исключением (он отсутствует у отдельных групп эскимосов).
Инициация представляет обряд, которые проходят юноши племени по достижению пубертатного возраста (половой зрелости) 480. Инициация предваряет их вступление во взрослую жизнь и является необходимым условием их социальной полноценности. Для юношей почти всех известных нам этносов инициация является главным обрядом этносоциализации.
Типичный сценарий обряда инициации таков481. Юношу взрослые члены «мужского союза» уводят на определенное расстояние от жилища, тогда как родные прощаются с ним и оплакивают его, сопровождая это теми же обрядами, которые совершаются над умершими. Вся обстановка инициации символизирует смерть, мучение и погружение в потусторонний мир. В месте посвящения находится особая конструкция, часто в форме чудовища. Иногда посвящаемых закапывают, подвешивают на дерево, подвергают физическим мучениям. Почти всегда посвящаемые получают физические травмы — им делают надрезы, выбивают зубы, калечат пальцы и т. д. Иногда их избивают, душат, травят дымом, заливают водой, оставляют на холоде или на жаре. Смысл этой фазы инициации — в реалистичном переживании боли и смерти, в страдании и переходе в состояние беспомощности, пассивности, страдательности, ничтожности. Часто в этой фазе имитируют погребение — юношей закапывают в землю, сажают на костер, помещают на дерево, окрашивают охрой как покойника и т. д.
На следующей фазе инициации имитируется рождение или воскрешение. Юноша вылезает из могилы, выходит живым из чучела чудовища, его снимают с дерева, он смывает с себя похоронную краску и т. д. Часто могиле, чудовищу и иным инициатическим постройкам придается символическое сходство с материнской утробой. Поэтому инициация устойчиво называется «вторым рождением».
После этого «воскрешения» члены «мужского союза» принимают посвященного в свой круг. Ему рассказывают «тайные» мифы племени, которые он обязуется под страхом смерти скрывать от посторонних. Он обучается правилам и хитростям ремесла (охоты, разведению скота). Ему дается новое имя — как подтверждение статуса взрослого полноценного члена общества. Он обучается сакральным танцам и получает маску. Ему открывают смысл магических церемоний.
Только после инициации юноша получает право жениться, участвовать в советах племени, охотиться вместе со взрослыми, иметь равную часть добычи, обладать собственностью, исполнять религиозные церемонии, танцевать мужские танцы охотников и воинов, слушать и рассказывать для других членов «мужского союза» мифы племени.
Возвращаясь в свой род, посвященный часто получает отдельное жилище, его считают «предком», вернувшимся с того света, и окружают целым рядом табу — особенно для своих родных.
В инициации мы видим все аспекты социализации, соединенные в общую процедуру482. Прохождение инициации гарантирует молодому человеку престиж, образование, экономическую самостоятельность и полноправный статус во взрослом обществе. Посвящаемый рождается в самом прямом смысле — не как организм, а как социальное явление, как статус, как «личность», как полноценное «место» этноцентрума. Этнос и его структуры организуются вокруг момента инициации: в нем этноосоциализация достигает своего переломного кульминационного момента. До инициации юноша является потенциальным членом этноса, после нее он становится жесткой частью этноцентрума, его точкой, именем в веренице имен. Тем важнее сам образ инициации, в ходе которого посвящаемый проходит весь процесс творения этноса из «хаоса», боли и смерти. Умирая и воскресая, посвящаемый конституирует саму жизнь этноса как космоса.
Инициация есть сущность этнодинамики. В ней посвящаемый сталкивается с опасностью, с криком, с «небытием» как с небытием этноса, и преодолевает его, восстает с ним, утверждая тем самым этнос как неизменную структуру и себя в этносе как часть этой неизменной структуры. Можно назвать это работой инициации, являющейся конститутивной для этноса в целом.
В определенном смысле, инициация каждого юноши в племени повторяет в облегченной и редуцированной форме инициацию шамана, и, соответственно, его этнодинамическую семантику.
Женские инициации
В некоторых этносах существуют параллельно мужские и женские «тайные союзы», «сестринства» и, соответственно, женские инициации. Как правило, ритуалы в них носят смягченный характер, а формы символических смерти и воскрешения чаще всего сопряжены с водой, рекой и иными водными стихиями. Русские обряды «кукушкиных похорон» — воспоминание об этих «сестринствах». В ходе этого ритуала девушки накануне замужества одной из них собирались в укромном месте вдали от селения и устраивали обряды оплакивания девичества, кульминацией которых было бросание в воду реки или ручья особой куклы, называемой «кукушкой». Она символизировала саму девушку, прощавшуюся с девичьей жизнью и умирающей для нее. Современный «девишник» — далекий отголосок женской инициации в архаических обществах.
Однако женские инициации практиковались далеко не во всех этносах, и этносоциализация женщин была постепенной, непрерывной и растянутой во времени. Но, с другой стороны, почти во всех архаических культурах при достижении половой зрелости девушки подвергались временной изоляции, в период которой они должны были жить в особых условиях, не прикасаться к определенным предметам, находиться в удалении от остального племени и не вступать ни с кем из него (кроме предназначенных для этой цели пожилых женщин) в прямые контакты или разговоры. Часто это сопровождалось пребыванием в темном помещении (подвале, погребе, специальной хижине), что символизировало «могилу» и этап, предшествовавший новому рождению.
Брак
Другим важнейшим элементом этносоциализации является брак. Так как поддержание бытия этноса требует рождения новых его членов, а точнее, возможности для воплощения «предков», «старых-новых» душ, то брак имеет фундаментальное значение для этнодинамики. Чтобы этнос продолжал быть неизменным, необходимо выпускать все новых и новых его членов. Поэтому заключение брака и создание семьи мыслилось как основа этнодинамики, как важнейшая форма работы этноса по утверждению постоянного самотождества.
В брак могли вступить только те юноши, которые прошли инициацию, и можно рассмотреть брак как прямое следствие инициации. Мужчиной в этносе считается тот, кто прошел инициацию, она-то и была обрядом становления мужчиной. Став мужчиной, член племени реализовывал заложенные в этом статусе возможности.
При обзоре идей и теорий Клода Леви-Стросса мы останавливались на структурах родства в архаических этносах, а говоря об этностатике, обращали внимание на этнический дуализм, состоящий в бинарной модели общества, при которой предполагается обязательное наличие двух экзогамных фратрий или кланов — родных и своих. Здесь мы можем рассмотреть брак как важнейший инструмент включения родовых (субэтнических) групп, родов в этнос.
Заключая брак между индивидуумами двух экзогамных родов, эти роды (геносы) устанавливают между собой связи свойства483. Тем самым они становятся друг для друга своими. Свойство предполагает возможность консолидации усилий в охоте, труде, пользовании определенными предметами и инструментами труда, соучастие в общих этнических обрядах, танцах, церемониях и т. д. Становясь своими, рода конституируют этнос как эндогамное единство. Как мы видели, Й. Хейзинга видит в играх фратрий-свояков парадигму культуры как таковой484. Таким образом, брак интегрирует экзогамные роды в общую структуру, осуществляя действие динамической интеграции.
Производя потомство, семья комплектует им род в качестве потенциальных носителей имен и функций, приобретаемых после инициации и достижения половой зрелости. Таким образом, брак является действующей силой воспроизводства рода и одновременно воспроизводства этноса. Этнос регенерируется через свойство, а род — через родство. Так, именно к браку сводятся две фундаментальные линии в динамике этноса: постоянство рода и постоянство этноса как эндогамной структуры.
Социализация мертвых
Включение мертвых в этнос является одной из важнейших черт этносоциализации485. Этнос не знает смерти как не-жизни, он знает смерть как инвариант жизни, т. е. особую форму жизни. Поэтому умирающий мыслится как меняющий место, а заново рождающийся как возвращающийся на свое место. Отсюда идея циркуляции душ, теней, двойников, масок. То, откуда рождают люди, и то, куда уходят мертвые, представляют собой замкнутую область, замкнутую циклическую траекторию. Таким образом, мертвый — это тоже этнический статус, и «быть мертвым» в этносе достаточно почетно и престижно.
Часто слово «мертвец», «покойник» имеет в различных архаических языках то же значение, что и «предок». Умирая, человек становится «предком», приобретает статус «предка». Этот статус имеет большую нагрузку, т. к. предкам в этноцентруме отводится почетное и часто центральное место: в мир предков уходят корнями обычаи, обряды, мифы, легенды, институты и обычаи. «Мир предков», куда уходят мертвые, обладает сакральным значением, и его функции постоянно влияют на мир живых; эти миры переплетены друг с другом. «Предки» в обряде соучаствуют в определенных церемониях, обрядах, к ним обращаются за советом или решением через определенные процедуры. Им приносят жертвы и их упоминают в молитвах и призываниях.
В некоторых этносах, в частности, у древних славян, предков хоронили под порогом дома или в самом доме, т. к. они являлись «силой» рода, его «душой», призванной укрепить дом и его обитателей. Там, где мертвых хоронили в особо отведенном месте, это место, кладбище, погост часто становилось
местом собрания племени, центром социума. Поэтому люди этнического общества не боялись смерти, особенно в том случае, если похоронные обряды были совершены в соответствии с предписаниями. В этом случае покойнику был гарантирован должный статус в загробном бытии. Гораздо страшнее было изгнание за какой-то поступок из общества или иная форма десоциализации.
Похоронные обряды и формы обращения к мертвым, «предкам» играют в структуре этноса огромную роль.
Социализация природы
Мы видели, что этноцентрум не делает различия между социальным (культурным) и природным486. В отсутствии этого различия состоит интегральность этноцентрума как этностатики. На уровне этнодинамики можно наметить существующий зазор, т. е. определенное подозрение этноса о том, что культура и природа могут иметь различные онтологические статусы. Такое подозрение есть «новое» и «опасность», т. к. оно грозит расщепить единство этноцентрума. Поэтому этнос стремится этот зазор активно преодолеть. Это преодоление можно назвать «этносоциализацией природы».
Природа, звери, камни, светила, звезды, горы, леса, растения, реки и т. д. интегрируются через миф, становясь участниками языка, рассказа, и обретая тем самым персонифицированное место в общей структуре имен. Этнос не просто не видит различия между культурой и природой, он не хочет его видеть, он стремится это различие упразднить. Поэтому природа становится не просто социальной, но еще более социальной, чем общество. Звери в тотемизме не просто причисляются к этносу, но рассматриваются основателями этноса, «предками» (например, у эвенков манги первопредок — медведь или великая мать — олениха). Здесь можно увидеть именно динамическую работу этноса по социализации природы, которая интегрируется в самую сердцевину этноса, чтобы быть надежно включенной в структуру этноцентрума и избежать возможности выскользнуть за его внешние границы.
Этносоциализация природы осуществляется также через ритуалы, обряды, танцы, церемонии, маски животных, имена и клички, отсылающие к животным (многочисленные, даже современные фамилии имеют звериное происхождение — Волков, Зайцев, Медведев, Курицын, Свиньин, Кабанов, Воронин и т. д.).
В аграрных обществах этносоциализация природы выстроена через сезонные праздники, связанные с сельскохозяйственным циклом. Пахота, сев, урожай и т. п. становились социокосмическими событиями, в которых участвовали и люди, и духи, и силы природы.
С.М. Широкогоров приводит описание симбиоза между людьми и животными в формуле «таежное общество» на примере племен Северной Манчжурии.
«В Северной Манчжурии существуют два вида медведя, большой медведь темно-бурый и маленький бурый, там же существует тигр и, наконец, люди. В зависимости от времени года как медведь и тигр, так и человек меняют свои места, к чему их вынуждает передвижение дичи, которой они питаются. Большой медведь идет впереди и занимает лучшие места, за ним идет, оспаривая иногда у него территорию, тигр, на худших местах в отношении дичи, но достаточно хороших в других отношениях поселяется малый бурый медведь и, наконец, охотники-тунгусы. Такое передвижение с одного места на другое и в том же постоянном порядке происходит ежегодно. Но иногда происходят столкновения между молодыми особями тигра и медведя из-за территории (каждый из них занимает для себя небольшую речку). Тогда дело решается дуэлью, в результате которой слабейший уступает место сильнейшему. Эти дуэли иногда ведутся в течение трех лет, причем для соревнования медведь надгрызает одно дерево, а тигр его нацарапывает, и если ему удается нацарапать выше места, надгрызенного медведем, то либо медведь уходит, либо вопрос разрешается на будущий год тем же порядком. Если же ни тот, ни другой не уступают, то происходит ожесточенный бой. Местные охотники-тунгусы, изучив хорошо этот порядок деления территории между молодыми индивидуумами, охотно принимают участие в боях, зная их дату (это бывает ежегодно в конце апреля) и место (обгрызенное и нацарапанное дерево в предыдущем году). Охотник обычно убивает обоих бойцов. Известны случаи, когда человеку приходится уступить занятое место, если оно им отнято у тигра или медведя, вследствие яростных и систематических нападений этих животных на домашних животных и даже на жилище человека. Вполне понятно поэтому, что многие тунгусы считают некоторые речки для себя недоступными (для охоты), т. к. они заняты тиграми или большими медведями.
Таким образом, в силу того, что медведь не может не кочевать, т. к. он приспособлен к существованию именно таким образом, но приспособлен точно так же и другой вид медведя, и тигр, и человек, между ними всеми создается соревнование и, наконец, они входят в некоторые отношения, становятся в зависимость друг от друга и создают своеобразную организацию — «таежное общество», управляющееся своими нормами, обычаями и т. д., позволяющее человеку жить рядом с медведем, когда медведь не трогает человека, если не видит с его стороны признаков нападения, и когда люди с медведем одновременно собирают ягоды, не причиняя друг другу вреда»487.
Другие формы этносоцилизации
Практически все стороны жизни этноса могут быть интерпретированы как процессы этносоциализации. Этносоциализация осуществляется через:
– трудовую практику;
– отправление религиозных культов;
– совместные племенные праздники;
– участие в военных походах;
– обряды врачевания, в которых часто принимало участие все племя;
– проведение советов племени;
– принадлежность к «тайным обществам»;
– коллективные игры, соревнования между фратриями и т. д.
Во всех этих случаях речь идет о постоянном укреплении этнической идентичности.
Кроме того, для внешних по отношению к этносу индивидуумов существовали особые формы включения, о которых мы уже упоминали ранее — адопция, «кровное братство», предоставление убежища в племени («азилиум») и т. д.
Изгнание «нового»
Самым страшным наказанием в этносе являлся отказ в этносоциализации, т. е. обратный процесс. Случаи исключения из этноса или лишения индивидуума этнического статуса довольно редки и представляют собой чрезвычайное происшествие. Процедура лишения статуса (как имени) предусматривалась как наказание за самые серьезные преступления, к ней прибегали в самом крайнем случае. Казнь преступника или принесение его в жертву считалось намного более мягким решением.
Лишение статуса практиковалось в том случае, если этнос сталкивался с чем-то, что он не мог интегрировать. Мы видели, что в случае шаманской болезни даже девиантное поведение шамана мыслилось как вполне естественное и органичное, более того, сама «странность», как и «странность» поведения шамана после инициации, выступала главной осью поддержания нормы и исцеления всех возможных от нее отклонений в масштабах этноса.
Количество неинтегрируемых девиаций было относительно невелико. И слабоумные, калеки, психически неполноценные люди имели в этносе свое место на его периферии, что означало слабый, но все же статус. Лишь нечто совершенно не вмещающееся в нормативы этического бытия, собственно «новое», никогда не бывшее, то, что не имело имени и ситуации в этноцентруме, подвергалось исключению и постановку за пределы этноса. Этнос репрессирует только то, что вызывающе не укладывается в его структуру. Это этнос считает «излишним», «опасным», «злым».
Показательно, что часто в архаических этносах практиковали убийство близнецов (которые считались аномалией, т. к. удваивали «маску», несли в себе принцип зеркала и рефлексии), а также детей, появляющихся на свет вперед ногами или высовывающих вначале руку, а также имеющих явные анатомические аномалии. Такие дети считались «подмененными», т. е. «духами», и могли навлечь беду на все племя.
В этом упорном отрицании всего «нового», которое не может быть интерпретировано как старое, т. е. вечное, проявляет себя обратная сторона этносоциализации.
§ 3. Экономика дара: этнодинамика и обмен
Хозяйственный баланс архаической экономики
Социолог Марсель Мосс, исследуя архаическое общество, пришел к чрезвычайно важному выводу о характере архаической экономики, которую сам Мосс назвал «экономикой дара»488.
Смысл экономики дара состоит в том, что глобальный обмен товарами, который может осуществляться в довольно широких межплеменных системах, имеет своей целью сохранение строгого тождества в вопросах обладания. Иными словами, в процессе экономического обмена в архаических этносах преобладает принцип равновесия: в результате экономических операций каждый должен получить ровно столько, сколько отдал. Либо изменение баланса обмена в ту или иную сторону (в сторону убытка, и в сторону прибытка), рассматривается как негативный результат, провал, «опасность», «риск». Таким образом, по Моссу, получается, что архаическая экономика представляет собой систему обмена материальными и нематериальными предметами, которая нормативно ориентирована не на прибыль (но и, что само собой разумеется, не на убыток), но на сохранение эквивалентного баланса. Так в экономической сфере выражается со всей наглядностью принцип этнодинамики: этнос прикладывает огромные усилия для того, чтобы сохранить статическую константную структуру, тщательно заботясь о том, чтобы не только не понести потери, но и чтобы не получить избытка. «Новое» в любых формах — и в форме «убыли», и в форме «прибыли» — является «злом», «погрешностью», требующей коррекции.
Здесь можно привести в пример этимологию слов «излишек», «лишнее», «лихва». Все они образованы от корня «лихо», что означает «зло» и «недостаток» («лишение»), но может относиться и к тому, что является чрезмерным, «лишним»489.
Мосс тщательно исследует структуры архаических обществ и показывает, что в них свойством «зла» наделяется все «лишнее» — и «лишение» и «излишество».
Потлач
Следование идее эквивалентного обмена приводит Мосса к ритуалу «потлача», в ходе которого обладатель какой-то вещи, которая обладает статусом ценности, намеренно уничтожает ее, чтобы показать другим членам этноса свою мощь и объем своей свободы. В корне ритуала потлача лежит не столько демонстрация статуса обладателя, сколько идея негативного отношения к излишкам в этносе в целом. Потлач представляет собой радикальную форму уничтожения излишков, которая лежит в основе ритуала «жертвоприношения»490. Согласно Моссу, в истоках обряда жертвоприношения лежит все та же идея уничтожения излишков. Если оставить эти «излишки», как количественное «новое», они принесут несчастье, т. к. расщепят цельность этноцентрума. Поэтому от «излишков», если они накапливаются, необходимо избавляться. А т. к. «опасность» имеет сакральный характер, угрожающий всему этносу, то и уничтожение «излишков» также должно носить сакральный характер — религиозного ритуала, жертвоприношения или магической мистерии.
Сам Мосс определяет потлач так:
«Мы предлагаем оставить название «потлач» для такого рода института, который можно наиболее осторожно и точно, хотя и слишком длинно, назвать тотальные поставки агонистического типа»491. Термин «агонистический» произведен от греческого «αγον», что значит «боевой», «воинственный». Уничтожая свою собственность в процессе потлача, владелец делает это с агрессивной целью — продемонстрировать свою волю и силу кому-то другому, кто должен либо ответить симметричной формой полтача, либо признать статуарное превосходство того, кто этот потлач осуществил. «Поставка» в данном случае делается в целях покорения, властвования и установления верховенства над тем, кому адресован потлач.
Тотальные поставки
Термин «тотальные поставки», введенный Моссом, описывает саму сущность этнодинамики в ее экономическом измерении. Мосс так описывает это явление:
«Все то, чем они обмениваются, состоит отнюдь не только из богатств, движимого и недвижимого имуществ, из вещей, полезных в экономическом отношении. Это, прежде всего, знаки внимания, пиры, обряды, военные услуги, женщины, дети, танцы, праздники, ярмарки, на которых рынок составляет лишь один из элементов, а циркуляция богатств — лишь одно из отношений гораздо более широкого и более постоянного договора. Наконец, эти поставки и ответные поставки осуществляются преимущественно в добровольной форме, подношениями, подарками, хотя, в сущности, они строго обязательны, уклонение от них грозит войной частного или общественного масштаба. Мы предложили назвать все это системой совокупных тотальных поставок. В целом наиболее чистый тип этих институтов представлен, на наш взгляд, союзом двух фратрий в австралийских или североамериканских племенах, где обряды, заключение браков, наследование имущества, правовые и экономические связи, военные и жреческие ранги — все дополняет друг друга и предполагает сотрудничество обеих половин племени. Игры, например, регулируются ими особенно тщательно»492.
«Совокупные тотальные поставки», по Моссу, являются процессом непрерывного обмена, благодаря которому и конституируется этнос. Важно заметить, что дар и отдаривание, получение подарков («тотальных поставок») и ответные дары являются не добровольным, но обязательным делом. Получив нечто в дар, член племени обязан совершить ответное симметричное действие. Он не может, под угрозой утраты статуса, взять что-то и ничего не отдать взамен. Хотя принцип «эквивалентности» имеет социально-символическое измерение. Ценность вещи, которой обмениваются, имеет не практическое, но социальное измерение.
Так, чаще всего архаические племена обмениваются предметами, которые в глазах современного европейца не имеют никакой ценности. Рихард Турнвальд показывает493, что чаще всего объектами обмена служат песьи зубы и кабаньи клыки. Люди обмениваются ими постоянно между родными, свояками и удаленными группами. Этот обмен имеет огромное значение, т. к. представляет собой постоянный поток циркуляции предметов, заряженных аффективным качеством. То, чем обмениваются члены этноса, является знаком, именем, маской, персонификацией их психических сил.
Таонга и сила хау
Марсель Мосс изучал систему обмена на примере полинезийских маори. Племена маори обмениваются в своей хозяйственной деятельности тем, что они называют «таонгой», общим эквивалентом обмена.
Мосс пытался выяснить, как сами маори объясняют и описывают логику обмена. Для того чтобы объяснить антропологам то, что для них самих казалось очевидным, сами информаторы из племени маори, ввели термин «хау». «Хау» они объясняли как некоторую силу, присущую любой вещи, явлению или человеку. «Хау» есть у леса, у лодки, у индивидуума, у племени, у реки, у солнца и т. д.
Когда сами маори пытались объяснить, почему они, получив таонгу в дар, должны были дать что-то взамен, то прибегали к следующей объяснительной конструкции:
«Обязывает в полученном «обменном» подарке именно то, что принятая вещь не инертна. Даже оставленная дарителем, она сохраняет в себе что-то от него самого. Через нее он обретает власть над получателем, так же, как, владея этой вещью, он обладает властью над вором. Ибо таонга одушевляется хау своего леса, своей местности, своей почвы; она действительно является «коренной»: хау преследует всякого владельца.
(…) даваемая вещь не инертна. Будучи одушевленной, часто индивидуализированной, она стремится к возвращению в «родительский дом», как это называет Гирц, или же к созданию для клана и почвы, местности, откуда она вышла, некоего эквивалента самой себя»494.
Через такую сложную модель циркуляции вещей создается неподвижная структура одного и того же. Вся динамика круговращения «хау» служит тому, чтобы в этносе ничего вообще не изменилось, чтобы никто из его членов не приобрел больше, чем имел, и чтобы, соответственно, у него ничего не убыло. Циркуляция «хау» есть форма наблюдения этноцентрума за своей стабильностью и неподвижностью, работа по обеспечению статического баланса. И если этот баланс нарушается, вступают в действие разрушительные аспекты этой силы — «хау».
Обобщая эту экономическую закономерность на все аспекты этноса, Мосс заключает:
«И все эти институты выражают исключительно один факт, один социальный порядок, одну определенную форму сознания, а именно: все — пища, женщины, дети, имущество, талисманы, земля, труд, услуги, религиозные обязанности и ранги — составляет предмет передачи и возмещения»495.
В определенных ситуациях структура экономической деятельности прямо обращается к внеиндивидуальной инстанции, которую можно определить как «сам этноцентрум», но которая с определенным приближением может быть обозначена как «сфера богов». Таонги, которыми обмениваются люди, не принадлежат им, они заимствованы как знаки и символы статуса, как психические аффективные ценности у «целого», т. е. «у богов». Мосс пишет по этому поводу:
«Люди верят, что покупать надо у богов и что боги умеют возместить стоимость вещей. Вероятно, нигде эта идея не выражена более типично, чем у тораджей с острова Целебес. Круит говорит, «что собственник там должен «покупать» у духов право совершать определенные действия со «своей», а фактически с «их», собственностью». Прежде чем рубить «свой» лес, даже перед тем, как начать работать на «своей» земле, установить столб для «своего» дома, надо заплатить богам»496.
Здесь важно точно проинтерпретировать то, что значит «свой» и что значит «принадлежащий богам, духам». Сила «хау» не принадлежит никому — ни людям, ни духам, ни зверям. Она является общей для этноцентрума и пронизывает все своим целостным присутствием. Когда индивидуум получает или забирает в пользование момент этноцентрума (вещь, дерево, трофей, инструмент, артефакт, дичь, добытую на охоте, найденный съедобный плод и т. д.), он вступает в систему новых обязательств: его точка-ситуация (маска, личность) входит в контакт с другой точкой-ситуацией (маской, личностью) и образуется экзистенциальный узел, который несет в себе определенные обязательства. Индивидуум может пользоваться этим узлом, но обязан его рано или поздно развязать, т. е. разнести точки по их местам, «вернуть хау» туда, откуда оно было почерпнуто. Это и означает «заплатить богам», т. е. восстановить неизменную статическую структуру этноцентрума в его целостности.
Таким образом, экономика дара представляет собой ярко выраженный процесс поддержания неизменного баланса этностатики, для чего задействуется гигантский силовой и экономический потенциал труда этноса. Действуя, работая, обмениваясь и двигаясь, члены этноса в первую очередь стремятся к утверждению, охране и защите неизменного консервативного комплекса.
Жертвоприношение и «проклятая часть»
Исследованию социальной функции жертвоприношения Марсель Мосс посвятил отдельную работу: «Очерк о природе и функции жертвоприношения»497. Мосс рассматривал смысл жертвоприношения в свете социальной функции потлача, как действие, которое «изменяет статус лица, совершающего этот акт»498. Через жертвоприношение член этноса доказывает как свою принадлежность к племени (следуя установкам и демонстрируя верность традиции), так и укрепляет персональные позиции, демонстрируя свое могущество.
Социолог Жорж Батай (1897–1962), поставивший своей задачей изучение иррациональных фактов в устройстве общества и пристально изучавший феномен сакрального в архаических обществах, опираясь на идеи Мосса о жертвоприношении, развил на их основании концепцию «проклятой части»499. Батай считает, что архаическое общество, этнос основан на базовой идее баланса противоположностей, сдвиг которого в любую сторону, рассматривался как «угроза». Выражением этой угрозы была «проклятая часть» в любом произведенном продукте или в приобретениях этноса — та самая «лихва», «излишки», которые подлежали уничтожению в потлаче. Батай считает, что смысл жертвоприношения и сопровождающие его празднества (часто носящие оргиастический характер и нарушающие временно табу, жестко соблюдаемые в обычное время), являются выражением иррациональной стороны жизни, компенсирующим рациональность обычного социального уклада. Нормативное функционирование этноса в определенный момент приводит к появлению «прибавочного продукта» — как в прямом (запасы пищи, инструменты), так и в переносном (новые технологии, более эффективные социальные и экономические институты и практики) смыслах. Именно в манипуляциях с «прибавочным продуктом», его накоплении и его присвоении отдельными социальными группами Маркс видел истоки классового разделения в древних обществах. По Батаю, этнос обладает ясной интуицией «опасности», заложенной в «прибавочном продукте», в накоплении и процессе рационализации социальных и хозяйственных практик. Постепенно количество здесь перерастает в качество, и критическая масса «нового», «лишнего» ведет к изменению социальной модели этноса500. Жертвоприношение служит именно для того, чтобы искусственно воспрепятствовать этому процессу и ритуально уничтожить «прибавочный продукт» на всех уровнях через отдание пищи, ценных предметов и орудий труда, войны и охоты «богам», «духам» и «предкам» и иррациональное безрассудное поведение во время оргиастических празднеств, сопровождающих обряд жертвоприношения или следующих за ним.
Этнос через жертвоприношение и оргию, через раскрепощение иррационального впускает хаос в порядок, ночь в день, безумие в рассудок, трату в накопление, воссоздавая тем самым баланс мировых и социальных оппозиций. Таким образом, происходит возвращение структуры этноцентрума и времени к их нерасчленимым, целостным истокам, к тому изначальному единству, в котором хаотическое сцепление, однородность предшествуют появлению упорядоченных и распределенных в пространстве, времени, обществе и природе элементов. Структура общества отправляется к своим нерасчленимым корням, компенсируя тем самым процесс ее укрепления через непрерывный процесс этносоциализации.
Жертвоприношение становится важнейшим моментом этнического бытия: в нем происходит коллективная инициация всего общества, спуск в нерасчленимое единство и новый подъем к упорядоченности этнической структуры. Но в ходе этой операции «проклятая часть» уничтожается, упраздняется, теряется. Этнос остается в границах неизменного и симметричного баланса. Эксцессы в пище и ее ритуальное уничтожение через жертвоприношение снимает накопление запасов. Оргии временно отменяют накопление психоаналитических репрессий «желания». Экстатические танцы и опьянение отключают на определенный период функционирование рассудка. Подчас уничтожается техника, ценности, орудия труда, оружие и т. д., что тормозит «технический прогресс» и возвращает этнос к голому бытию в его чистой и неотчужденной форме.
Резюме
Этнодинамика представляет собой широкий и непрерывный спектр видов работы этноса, направленной на то, чтобы постоянно циклически воспроизводить общую статическую картину этноцентрума. На уровне статики этнос представляется нам неизменной структурой, организованной таким образом, чтобы исключить саму возможность социальных изменений. Но для того, чтобы такое положение сохранялось, необходимо прикладывать огромные усилия, затрачивать энергию и отдавать силы, постоянно поддерживая, воссоздавая, обновляя и восстанавливая структуры этноцентрума, подвергающиеся воздействию «энтропии» изнутри и извне. Извне меняются природные условия. Изнутри копятся «излишки», которые грозят перейти в новое качество и изменить социальную модель. Против этих «вызовов» направлена гигантская, хотя и мало заметная внешнему наблюдателю, работа этноса.
Этнос работает не только тогда, когда его члены добывают пищу, создают орудия труда и войны, готовят пищу, растят детей и исполняют социальные и религиозные обряды. Этнос работает всегда и чрезвычайно интенсивно: он работает через речь, утверждая язык как знаковую структуру этноцентрума, через игру, конституируя бинарные основы социальности. Этнос работает через праздники и оргии, периодически спускаясь в хаос и поднимаясь, освеженным, к порядку (попутно уничтожая излишки). Этнос работает, когда его члены дарят друг другу подарки, обеспечивая циркуляцию сил («хау»). Этнос работает тем, что он есть, и что он есть именно таков, каков есть. Эта экзистенциальная работа этноса может быть названа «процессом этнического бытия».
Глава 8
ЭТНОКИНЕТИКА
§ 1 Фигура «другого»
Определение этнокинетики
Приступим к рассмотрению особой ситуации, когда этноцентрум, статическая картина этноса, вступает в полосу необратимых изменений. В этностатике этнос мыслится как постоянная социальная форма. В этнодинамике мы начинаем различать те процессы, усилия и ту работу, которые обеспечивают этносу постоянство его структуры. Этностатика и этнодинамика вместе составляют область исследования этноса как койнемы — в том состоянии, пока общество строго тождественно этническому обществу. Эта область охватывает сферу изменений (флуктуаций), которые, аффектируя общую структуру, не приводят к необратимым последствиям и не провоцируют полноценных социальных изменений.
В этностатике и этнодинамике этнос остается сущностно самим собой. Он не движется и не меняется в отношении своих фундаментальных основ. Этностатика и этнодинамика определяются формулой «общество = этнос». При этом этностатика постулирует этнос как норматив, а этнодинамика рассматривает, как этот норматив реализуется на практике.
Этнокинетика представляет собой область этносоциологии, которая исследует те состояния общества, в которых начинаются процессы качественного изменения этнической структуры, этноцентрума. В этнокинетике этнос перестает быть тождественным этносу, он начинает качественно изменять свою структуру, т. е. движется к тому, чтобы быть этносом + чем-то еще. В этнокинетике структура этноцентрума принципиально изменяется, и, соответственно, меняется весь алгоритм этнического бытия, включая этническую интенциональность, этническое пространство, этническое время, этническую антропологию и т. д. Этнокинетика описывает стадию перехода от этнического общества к постэтническому обществу. Однако специфика этнокинетики состоит в том, что этот процесс описывается с точки зрения этноса. Этнос и его структуры берутся за норматив, который видоизменяется в ходе этнокинетических преобразований.
Соотношения между этностатикой, этнодинамикой и этнокинетикой можно описать так: этностатика описывает механизм (например, автомобиль) в его принципиальном статическом состоянии, это схема автомобиля, его чертеж; этнодинамика может быть уподоблена заведенному автомобилю, у которого работают все детали и который в работающем состоянии тратит определенную энергию даже для того, чтобы оставаться на месте; этнокинетика относится к тому состоянию, когда автомобиль тронулся, т. е. механизм приведен в действие и его положение в пространстве начинает меняться. Но если не знать, что такое автомобиль в принципе и как функционируют его отдельные элементы, мы никогда не поймем, почему и куда он движется. Чтобы понять этнокинетику, мы должны предварительно знать и этностатику, и этнодинамику.
В этнокинетике этнос начинает меняться. Это изменение следует принять за необратимый процесс, т. к. он предполагает надлом и разрыв основных этнических структур. Правда, в любой момент этнокинетики может произойти реверсивное движение назад, в сторону этноса. Однако после того, как этнос вошел в фазу этнокинетики, возврат к этносу породит новый этнос, т. к. структура старого этноса будет необратимо разрушена. Этнокинетика означает необратимое социальное изменение данного конкретного этноса, но не этноса как такового, как социологической и этносоциологической парадигмы.
Область этнокинетики описывает первый фазовый переход от простого этнического общества к обществу постэтническому, к первой производной от этноса, которой является народ (лаос). Поскольку этот переход представляет собой принципиальный момент качественного социального изменения, он может быть рассмотрен отдельно и выделен в самостоятельную категорию. Рассмотрению народа (лаоса) будет посвящена отдельная глава. А фаза этнокинетики, когда этнос вступает в зону необратимых (для него самого) и принципиальных качественных изменений, нарушающих основную картину и структуру этностатики и преобразующих этноцентрум, может быть вынесена в отдельное направление, специфика которого будет заключаться в рассмотрении процессов, происходящих внутри этноса и его собственных структур при движении к следующей, постэтнической, фазе общества.
Этнос и другой
Смысл этнокинетики удобно рассмотреть на основании фигуры «другого». В этностатике в нормативной структуре этноцентрума «другого» нет вообще — ни снаружи этноцентрума, ни внутри его.
Этноцентрум включает в себя абсолютно все: и далекое и близкое, и внутреннее и внешнее, и культурное и природное. Поэтому за границей этноцентрума нет ничего. Этноцентрум тотально инклюзивен. То же самое можно сформулировать несколько иначе. За пределом этноцентрума этнос видит не «нечто» («другое»), но «ничто». Это «ничто» обладает при этом «положительными» признаками. Это своего рода «благое ничто», которое не пугает, не внушает ужаса, которое тоже видится как нечто включенное в сам этноцентрум.
В этноцентруме все временные циклы и пространственные маршруты принципиально замкнуты, поэтому для «другого» нет ни времени, ни места; все есть «это». Это легко проследить на примере отношения этноса к смерти. Смерть не есть конец, исчезновение и переход в «ничто». Смерть рассматривается как имманентный аспект жизни, и умирая, член этноса не уходит далеко, но отправляется к предкам и потомкам, т. е. погружается в самый близкий и интимный круг бытия, на котором покоится сам этнос. Область смерти в этносе — это нежная родина, населенная милыми «предками», родными людьми. Родными — в двух смыслах: они жили в племени, и они будут жить в племени через новые поколения младенцев. Поэтому смерть есть инициация, обряд, церемония. Она «благая смерть» по определению, т. к. включена в абсолютную полноту этноцентрума.
В этнодинамике «другое» приобретает более отчетливые черты501. Оно выступает как «то, на преодоление чего направлена вся гигантская работа этноса». «Другое» — здесь «опасность», «риск», «угроза», заключающиеся в возможности «изменения», появления «нового», накоплении «лишнего». Если для этностатики «другого» нет, то для этнодинамики оно уже отчасти есть и представляет собой «зло». Оно по-прежнему не имеет очертаний и форм и может быть рассмотрено как «ничто», но это уже другое «ничто» — «ничто» зловещее, «ничто» как угроза. Однако область этнодинамики основана на том, что «другое» в ней успешно и благополучно преодолевается, и структура этноцентрума — в ее неизменности и тотальной инклюзивности — победоносно утверждается.
Жертвоприношения, потлач, инициация, брачные церемонии, циркуляция даров, обряды похорон и мифологии новых рождений, экономическая деятельность и языковое общение, мифы и ритуалы — вся жизнь этноса есть преодоление «другого», включение исключенного, восстановление тотальности, преодоление угрозы «нового», ассимиляция «ничто» и превращение его в «доброе ничто». «Другое» тождественно социальному изменению, активное, упорное и силовое противостояние которому и составляет сущность работы этноса.
Совсем иначе «другое», «другой», «ничто» выступают в этнокинетике. В этой фазе «другое» приобретает автономность, «субстанциальность» и оказывается сопоставимым и равновеликим с этноцентрумом. Отныне победа этнодинамики над вызовом социальных изменений не гарантирована; постоянство структуры этноцентрума серьезно поставлено под вопрос; «ничто» приобретает свойства конкретного, ясно различимого и могущественного зла.
Этностатика не знает «другого» в принципе. Этнодинамика (относительно) легко преодолевает «другое» и делает так, чтобы его не было. Этнокинетика впервые сталкивается с «другим» лицом к лицу, конституирует зло как серьезный и внушительный вызов, победа над которым возможна, но проблематична, и который по своим основным параметрам сопоставим (по силе и могуществу) с самим этносом.
Отныне «ничто» становится агрессивным и плотным. «Новое» ясно появляется на горизонте этноцентрума. Социальные изменения становятся реалистически вероятными. И все это в корне меняет структуру этнического общества.
«Другой» как автономный этносоциологический феномен
Фигура «другого» является в этносоциологии фундаментальной и самостоятельной категорией. Эта фигура не возникает из столкновения с феноменом вне этнического мира — с природной катастрофой, нашествием врагов, эпидемией или истощением средств пропитания. Такого рода явления могут случаться и случаются на всех этапах бытия этноса. Но пока этнос остается в рамках этностатики и этнодинамики, он успешно интегрирует эти события в целостную картину этноцентрума, рассматривая их как «испытания», «жертвоприношения» и «инициации», служащие лишь антуражем перемещения этноса по его замкнутым пространственно-временным маршрутам в рамках неразрывно целостного этноцентрума.
Сталкиваясь с «другим» как с вызовом, «новым», этнос может поступить в соответствии с тремя парадигмами, через которые он и оценивает то, с чем столкнулся. Он может проигнорировать «другое», не обнаружить в нем ничего «другого», истолковать «другое» как «это». Это свойственно этностатике. Он может признать это как помеху, которую легко преодолеть, применив серию ритуалов, подтверждающих, что речь идет об «этом», а не о «другом», включить «другое» как «не другое», обезвредив «проклятую часть». Это сценарий этнодинамики. И, наконец, он может признать его как равновеликую, рядом положенную с ним самим реальность, т. е. собственно конституировать «другого» как «другого».
Наблюдение за различными архаическими обществами демонстрирует нам, что избираемая этносом парадигма при столкновении с «новым» зависит не столько от масштаба и объема этого «нового», сколько от внутреннего состояния самого этноса. Некоторые этносы могут «не заметить» своего полного порабощения и завоевания другими этносами, проигнорировать радикальное изменение климата и окружающей среды, «легко» справиться со смертоносными эпидемиями и гибелью большей части своих членов. При этом они так и не меняют своей структуры, не признают «нового» и не конституируют фигуры «другого».
В иных случаях, этнос может, напротив, столкнуться с «другим» под влиянием довольно безобидных факторов, которые, на первый взгляд, даже трудно заметить. Изменение в поведении животных, легкие климатические перемены, серия незначительных микросоциальных фактов, признанных как аномалии, дурные предсказания гадательных практик могут привести к панике, ужасу, переживанию катастрофы и вхождению в этнокинетический режим.
Поэтому фигура «другого» и фаза этнокинетики являются самостоятельными этносоциологическими фактами, в основе которых лежат глубинные социальные установки внутри этноса. Переход от этнодинамики к этнокинетике обусловлен, таким образом, внутренними причинами, коренящимися в самой структуре этноса, а не внешними по отношению к этносу обстоятельствами.
«Другой», «новое», «злое ничто» конституируются этносом в строго определенной фазе надлома этноцентрума, его раскола, расщепления.
«Другой» и раскол этноцентрума
В фигуре «другого» важнее всего не его конкретные воплощения, но его обобщенный социологический смысл. Если фигура «другого» появляется в этносе, вся парадигмальная модель интерпретации этноцентрума раскалывается.
Как вторжение «другого» могут быть оценены серьезные и реальные катастрофы — такие, как жестокие войны с соседним этносом, эпидемии, исчерпанность дичи в лесах, неурожай или засуха, голод, природные катастрофы (наводнение, извержение вулкана, землетрясение и т. д.), и на первый взгляд незначительные или «фиктивные» события — дурные предзнаменования, неблагоприятные предсказания оракулов, атака «злых духов», серия зловещих сновидений, смерть шамана и т. д.
Если эти «вызовы» этнос способен интегрировать через процессы этнодинамики, то они не приводят к появлению «другого». И только если этого не происходит, фигура «другого» прочно утверждается на горизонте этноцентрума. Этноцентрум при этом расщепляется, раскалывается и начинает менять свою структуру и симметрию, отталкиваясь от фигуры «другого».
Самое главное — раскол этноцентрума, нарушение его замкнутости, закрытости во временном и пространственном смысле. Этнокинетика представляет собой размыкание этнической карты, круговращения сил, душ, теней и предметов (таонга). Умерший не способен найти землю предков, предназначенные для рождения души мечутся в поисках соответствующих тел, но не обнаруживают их. Злые духи вступают на территорию племени и начинают размыкать привычные замкнутые цепочки поведения, охоты, отношения между родами и фратриями. Шаман утрачивает силу лечить и восстанавливать баланс. Звери становятся в оппозицию людям. Повсюду возникают линии раздела, трещины в этноцентруме.
Так в процессе этнокинетики формируется новый тип бинарных оппозиций и новая симметрия общества: в ней впервые появляются неинтегрируемые полюса, оппозиции, которые не снимаются и не преодолеваются диалектически в целостной и сбалансированной структуре этноцентрума.
Симметрия полной замкнутой голоморфности, где есть центр и периферия, сменяется на дуальную симметрию «это» — «другое». Только здесь и формируются те дуальные представления, которые рассматривал Самнер502: «мы-группа» и «они-группа». Здесь же конституируются авто- и гетеростереотипы.
В этнокинетике меняется сама основа этнической интенциональности. Впервые начинает ощущаться граница между этноноэмой как эндопсихическим (в коллективном смысле) представлением о вещи и самой вещью, которая и конституируется как «другое» и в «качестве» другого. Этнос сталкивается с тем, что отвергает и опровергает его бытие и его мышление, и начинает укреплять свои оборонные позиции, превращает ранее открытый во все стороны этноцентрум в крепость, возводит оборонительные сооружения и чертит границы.
Проведение границы между «этим» и «другим» является главной чертой этнокинетики.
§ 2. Этносоциология войны и фигура «раба»
Истоки войны и «противотип»
Появление границы и новой симметрии создает новую карту. Отныне этноцентрум мыслится не как бесконечное и все включающее поле, в ядре которого пребывает этнос, а на периферии он же сам, только в расширенном, укрупненном масштабе — этнос родных звезд, светил, гор, лесов, богов и духов. За границей этого этноса отныне располагается другой этнос. Другойзначит радикально не-этот. Другое есть неинтегрируемое и, следовательно, бросающее вызов всему этноцентруму. С «другим» как с выражением «злого ничто» или «злой смерти» может быть только отношение войны.
Военные столкновения знает и этностатика. Но в рамках сохранения этностатической парадигмы столкновение с другим этносом мыслится в категориях игры, обмена или охоты. Так как сама смерть не является чем-то необычным или необратимым, но лишь моментом круговращения жизни, то сами по себе убийства не имеют заведомо табуированного характера. В играх фратрий и в состязаниях между ними, а также в ходе инициаций люди могут умереть и от рук своих соплеменников. Поэтому «охота за головами» или каннибализм, практикуемые разными архаическими этносами, не являются признаками войны. Это еще можно рассматривать как продолжение состязаний или экономического обмена (здесь в качестве таонга выступают части тел убитых противников). Каннибализм дополняет это элементами охоты.
Антропологи описывают множество ситуаций, когда вражда племен у архаических обществ внезапно и незаметно переходит в общие танцы и праздники, переводя агрессию и ненависть в культуру доброжелательных состязаний и мирного обмена песьими зубами, раковинами, бусами или клыками.
Умершие насильственной смертью от рук противников также интегрируются в этнос и возвращаются в круг жизни, как и умершие при обычных обстоятельствах. А если их «силу» похищают воины иного этноса, то она возвращается снова в племя, если совершить нападение и убить людей из другого племени.
Если баланс этноцентрума сохранен, то любые насильственные действия остаются флуктуациями мира и не становятся собственно войной. Этностатика не знает войны, даже если этносу приходится воевать. Мир здесь включает в себя войну, мыслит ее как инобытие мира, как игру, ритуал, жертвоприношение, инициацию.
Война как таковая начинается только в этнокинетике. Здесь конституируется ситуация, когда становится возможным выпасть из этнического цикла навсегда, необратимо и однонаправленно. Эта страшная для этноса возможность визуализируется в «другом». Так рождается модель «они-группа», радикально противопоставленная «мы-группе».
Немецкий психолог Эрих Йенш (1883–1940) назвал это «противотипом» (Gegentypus) 503. Смысл «противотипа» состоит в том, что он формируется по обратной симметрии по сравнению с автостереотипом. В нем «другое» мыслится как «противоположное», «обратное», «перевернутое». Если в рамках статического этноцентрума этнос проецирует на все интегрирующий принцип сходства, голографии, то в этнокинетике начинает преобладать «противотип». Происходит консолидация автостереотипа на одном полюсе, а за его пределом, за границей конституируется «противотип» как фигура «другого», подразумевающее «зло», «угрозу», «опасность», злое ничто» и «злую смерть» («какотаназию»).
Здесь этноцентрум переходит в этноцентризм, т. е. в консолидацию своего (автостереотипа) и демонизацию чужого (гетеростереотипа).
Поэтому в истоках войны групп, племен и обществ как социального явления следует всегда искать «войну стереотипов», «противотип» и радикализацию бинарной оппозиции.
Немецкий юрист, социолог и философ Карл Шмитт (1888–1985) определял сферу Политического как выявление пары «друг»–«враг»504. Если принять это определение, то истоки Политичсекого мы должны искать именно в фазе этнокинетики. В этностатике и этнодинамике нет Политического, т. к. там нет «другого», «другое» интегрируется как свое, а война мыслится как продолжение игры, охоты, ритуала, обмена. Лишь в этнокинетике война приобретает свое политическое и онтологичсекое измерение. Война становится частью социального бытия, приобретает автономное и самостоятельное значение.
Оборона/нападения и «тайные общества воинов»
Феномен «противотипа» и появление радикальной бинарной оппозиции провоцирует в этносе появление двойственного комплекса: «обороны–нападения». Опасность как антиценность, как вызов, конституирует безопасность как ценность. Но в симметрии «противотипа», чтобы обеспечить безопасность себе, надо создать опасность для «другого». Отсюда рождается важное следствие: конституировав источник опасности, «другого» вовне, этнос впускает это «другое» в самого себя. Раз есть «зло», должно быть что-то, что будет защищать этнос от зла, и вместе с тем причинять «зло» другому этносу, «врагу». Оборона и нападение связываются в единое явление. «Другое» вовне провоцирует «другое» внутри.
Отсюда берет свое начало институт «тайных обществ» воинского типа. Первоначально в этностатике искусство войны рассматривается как одна из сторон «мужского союза», где посвящаемого юношу обучают охоте, мифам, обрядам, изготовлению инструментов, а заодно и нападению на «врагов». Война не выделена в отдельную область, т. к. считается составной и снятой в самой себе, интегрированной частью мирного бытия. Лишь в фазе этнокинетики на основании «мужских союзов» иногда формируются отдельные чисто воинские организации. Эти организации постепенно концентрируют в себе принцип «другого» и становятся для этноса в свою очередь «другим». Они призваны защитить племя от «противотипа» и «зла», но чтобы сделать это, они должны войти в контакт со «злом», взаимодействовать с ним напрямую, а следовательно, они сами становятся опасностью для своего племени. Войны призваны бороться со смертью, поэтому они сами начинают нести в себе смерть; но на сей раз не «добрую смерть» этнической циркуляции душ и сил по закрытому маршруту этноцентрума, а «злую смерть», представляющую собой зияющую онтологическую рану, раскол в бытии.
В форме «воинского союза» «другой» оказывается в структуре самого этноса, выступая как первый, точнее, предварительный этап социальной дифференциации и стратификации. Этнос в статике не знает внутренних принципиальных различий. В нем нет разделения ни на социальные группы (дифференциация по социологической оси Х), ни на социальные страты (дифференциация по социологической оси Y). Поэтому этнос в статике представляет собой койнему — общество с нулевой (или близкой к нулю) дифференциацией по всем осям. Целое этноса неделимо. В этнокинетике вместе с выделением чисто «воинских союзов», превращением обычных «мужских инициатических обществ в воинские, складываются предпосылки для социальной дифференциации — как горизонтальной, так и вертикальной. Достаточно привнести в этнос «другое», как дифференциация начинает развиваться по автономной логике во всех направлениях. Этнодинамика не способна более предотвратить разделение, работа этноса уступает силе «нового». Этнос вступает в зону «социальных изменений».
Ярким признаком этого процесса является создание военных мужских союзов.
Новая этика военных союзов
Тайный союз воинов, как показывают данные антропологии, основан на отношениях, в корне отличающихся от обычных отношений в этносе.
Единицей мужского союза является не род, не фратрия и не семья, но воин-индивид. У него есть индивидуальное военное имя и индивидуальная маска. Военные союзы являются первыми типами общества, которые в отличие от этноса строятся на индивидуальной основе.
Далее, индивидуальный характер члена военного союза превращает его в единицу, требующую формального упорядочивания, т. е. специальной системы поведения. Если в этносе данные о структуре этноцентрума передаются постоянно и тотально, всей системой жизни этноса, то воинские союзы, имеющие дело со смертью, выносятся за скобки обычного этноса и строятся и оформляются в изолированном, дискретном, дифференцированном порядке. Военный союз — в отличие от обычного мужского союза — есть группа в стороне от племени, а не группа в тайном центре племени (как обычный инициатический мужской союз).
Объединение воинов есть объединение искусственное, построенное по особым, отличным от общеэтнических, законам. Данные законы являются намного более простыми, чем законы этноса. Они включают в себя далеко не всю структуру бытия, а только отдельно взятую сферу — войну. Поэтому отношения в воинском союзе строятся не на консенсусе, а на приказании. Этим союзом управляет не традиция, в широком понимании, но устав.
В.Я. Пропп выявляет описание военных мужских союзов в волшебных сказках505. Как правило, местом этих союзов были «большие дома», построенные в отдалении от основного поселения. В них жили юноши-воины в соответствии с особыми нормативами. Иногда между членами этих союзов и основным этносом вызревали конфликты, основанные на дуализме этнических структур и социальных установок в обеих группах. Военные мужские дома часто украшали трофеи в виде голов, черепов, зубов и иных частей тел убитых жертв.
С развитием воинских союзов из более архаических интегральных инициатических мужских союзов Пропп связывает изменение структуры змееборческих мифов и соответствующих инициатических сюжетов, связанных с чудовищами. В архаических союзах охотников битва имела абмивалентный характер. Убивающий был убиваем, проглатывающий — проглочен. Змееборчество носило интегрирующий характер, в ходе борьбы человек и чудовище (зверь) обменивались своими символическими элементами и тем самым заключали союз центра и периферии, культуры и природы, человека и дичи, жизни и смерти506.
В инициациях воинских союзов это взаимодополнение пропадает. Змей, чудовище становится абсолютным врагом, и цель битвы — его полное и безвозвратное уничтожение. Этот семантический сдвиг волшебной сказки строго соответствует переходу от этностатики к этнокинетике.
Социальный кодекс войны
Там, где война складывается в автономное социальное явление и появляется особая внутриэтническая группа воинов, складываются своеобразные «законы войны» или «правила поведения на войне», кодекс воинов. Он представляет собой радикально новое явление, не известное этноцентруму. Строится он на основании симметрии «противотипа». На «войне как на войне», а не как на продолжении игры, охоты, обмена и ритуала, в качестве нормативного предписывается поведение, которое прямо противоположно обычному этническому поведению. Здесь воины имеют дело с «перевернутым миром», и поэтому должны вести себя в соответствии с «перевернутыми правилами». На войне можно и нужно делать то, чего категорически нельзя делать внутри этноцентрума. Воинам предписывается убивать врагов без предупреждения и произнесения особых формул, предшествующих убиению животных; насиловать женщин без совершения брачных церемоний, забирать излишки материальных предметов и пищи, не уничтожая их в жертвоприношениях; похищать «силу» врагов и накапливать ее все больше и больше, не расходуя, чтобы стать «самыми могучими воинами» и т. д.
Воин делает то, что не положено, и именно неположенное, предосудительное становится его нормативом. Так внутри этноса постепенно образуется зона своего внутреннего «противотипа». Часть этноса начинает жить по особым правилам, обратным по отношению к общим правилам. Это формирует основу дифференциации.
В какой-то момент «мужское сообщество» конституируется в отдельное параллельное общество, частично противопоставленное своему племени. Это противопоставление до определенной степени мыслится как вынужденное: кому-то необходимо иметь дело со «злом» для защиты от него всего этноса. Но вступление в зону «зла» и «другого» влечет за собой необратимые последствия. Мужские воинские союзы знакомятся с двумя контрастирующими нормативами — прямым и обратным, мирным и военным. Эта двойственность ослабляет их энергию по укреплению этноцентрума, меняет качество их этнического труда. Часто воины создают свой «тайный язык», параллельный язык, т. е. создают ядро «другого этноса» внутри данного этноса. Тем самым они выступают как носители «нового» внутри общества. И это «новое» оказывает влияние на весь этнос, на сей раз необратимо расщепляя его структуры
Рабство и его значение
Поворотным пунктом в процессе разложения этноцентрума является феномен рабства. Этика «противотипа» предполагает, что «другой» — как «враг», «жившее ничто», «зло» и «смерть» — должен быть безвозвратно и бесследно уничтожен. Смысл «противотипа» состоит в императивном уничтожении его носителей. При этом уничтожаются не только люди враждебного племени, но и его фетиши, культовые места и святыни. Уничтожается этноцентрум врага как таковой. Поэтому наиболее чистые архаические кодексы войны запрещают брать пленных. Враг есть античеловек, антипод, представитель «той стороны», «злой дух». Он должен быть стерт с лица земли, отправлен в небытие. Женщины, дети и предметы могут быть захвачены и включены в сферу этноса-победителя, но через репрессивные меры адопции, включая обряды, язык, церемонии и т. д. Они подвергаются экзорцизму, освобождению от живущего в них «зла». Но воины враждебного племени и есть «зло» в чистом виде. Если бы они напали на данное племя, то сделали бы с ним то же самое: поголовно вырезали бы мужчин, разрушили и уничтожили святыни и ассимилировали бы детей и женщин. От племени не осталось бы ни живых, ни мертвых, ни шамана, не реки «вечного возвращения». Они разорили бы селения предков и еще не родившихся душ. А раз так, то они суть силы небытия и должны быть полностью, поголовно уничтожены.
Убийство всех мужчин враждебного племени есть, таким образом, следствие из социологии «другого» в фазе этнокинетики. Но в определенных — явно исключительных — случаях, воины-победители начинают сохранять пленным жизнь и превращать их в рабов. Статус раба и использование рабов в этносе является фундаментальной чертой перехода от этноса как койнемы к более сложной и стратифицированной социальной структуре.
Раб не просто недочеловек или предмет, это наглядное выражение «зла», это «античеловек», «противотип». Он должен быть уничтожен, но он не уничтожается, а привносится в этнос как наглядное выражение «другого», отличного от всех, как сама смерть.
Показательно, что в Древнем Египте рабов называли «живыми мертвыми». Они должны были бы умереть как воины враждебного племени, как «противотип», но не умерли. Умерев приниципально, они сохраняли лишь видимость жизни. Таким образом, раб социологически являлся «призраком», «некромантической» тенью, демоническим симулякром человека.
Эволюционистские анторопологи и марксисты считали, что раба использовали как «бездушный технический инструмент», и такое приравнивание человека к мертвому орудию труда легло в основу раннеклассовых обществ. Эта точка зрения ошибочна, т. к. все инструменты и орудия труда в этносе были персонифицированы, оживлены и считались «родственниками» людей, носителями сакральных сил и неотъемлемыми частями живого и неделимого этноцентрума.
Рабы как бывшие воины враждебного племени мыслились как нечто радикально отличное от инструментов. Они были концентрированным выражением «злой смерти», и поэтому имели особый статус, которого вообще не было в фазах этностатики и этнодинамики и который появляется как социальное «новое» только в этнокинетике. Этот статус «живого мертвого», «другого», находящегося в «этом», но не включенным в «это».
«Раб» — фундаментальное понятие для описания фазового перехода от этноса к народу, от койнемы к более сложным обществам. Сами орудия труда, вопреки Марксу, не приводят к отчуждению между человеком и внешним миром. В рамках этноцентрума предпосылок для такого отчуждения нет: и мир, и человек, и инструмент — все включено в глобальный многомерный круг циркуляции времени, действий и перманентности живого пространства. Уничтожая «проклятую часть», куда могут попадать и орудия труда, этнос ликвидирует предпосылки к отчуждению. Лишь появление раба в этносе радикально меняет всю картину. Вместе с ним приходит настоящее отчуждение. Но не потому, что раб становится важным производственным началом в хозяйстве. Сегодня историки показывают, что практически во всех обществах, даже тех, где институт рабства был широко развит, рабский труд составлял миноритарную долю в производстве, тогда как основными деятелями-производителми были свободные или полусвободные крестьяне и охотники. Дело в том, что вместе с рабом в самом обществе утверждается необратимая и асимметричная дистанция, не включенная в цикл. Эта дистанция воплощена в том, что внутри этноса наличествует стихия «злой смерти» в лице раба. Раб — неинтегрируемый «другой», поэтому в отношении него постоянно утверждается дистанция между живыми и мертвыми, между «этим» и «тем». Это порождает совершенно новый, постэтнический тип общества, основанный на расширении и усложнении этой дистанции.
В отношении орудий труда происходит следующее: не рабы приравниваются к ним, а сами они в какой-то момент социальных трансформаций начинают восприниматься как эквиваленты рабов. Живая мотыга, живой лук или живое огниво, персонифицированные, родственные этносу, сакральные, наделенные силой («хау» у маори), начинают восприниматься столь же отчужденными, мертвыми и чисто инструментальными, столь же дистанцированными, как рабы. Вещи и природа умирают через рабов. Рабы — это первый шаг к появлению «объекта», противопоставленного «субъекту».
Если экономически институт рабства не является решающим и мало аффектирует общую структуру производства в архаических обществах, то социологически он является решающим и определяющим, т. к. с него начинается социальная стратификация, дифференциация и усложнение структуры общества.
Г.В.Ф. Гегель (1770–1831) считал пару «раб–господин» принципиальной для любого общества507. Он определял функции этой пары через их отношение к смерти. Согласно Гегелю, господин — тот, кто не боится смерти и готов умереть. В этом бесстрашии как награду он получает не бессмертие, но раба. Раб есть тот, кто боится смерти и сдается перед ее лицом. Взамен он получает рабскую жизнь. Гегель имеет в виду более сложные общества, но важна его привязка раба к смерти. Раб — «живой мертвец». Он сам есть смерть, и он живет только потому, что он «мертв» — «мертв» в смысле этнического статуса. Стоит только ему предъявить право на этнический статус, его уничтожат. Перед лицом этой угрозы он, бывший воин, признает покорно свое существование как социальное небытие.
§ 3. Л. Гумилев: старт этногенеза. Пассионарность
Терминологические соответствия в теории Л. Гумилева и в этносоциологии
Рассмотрение этнокинетики как особой фазы трансформации этноса совпадает с тем, что в теории Гумилева называется собственно «этногенезом»508. Мы уже говорили о сложностях в терминологии Гумилева, который, с одной стороны, понимает «этнос» биологически и материалистически, а с другой — называет «этносом» более сложные социальные системы, такие как «народ» (лаос). Этносоциология рассматривает этнос как общество в его простейшей форме, как койнему помимо каких бы то ни было биологических коннотаций, а более сложные — производные — от него формы рассматривает как иные, постэтнические социологические конструкции. Сделав эти поправки, мы можем применить методологию Гумилева к разбираемой нами стадии «этнокинетики». То, что этносоциология понимает под «этносом», Гумилев называет гомеостазом, т. е. сбалансированным и неизменным существованием этноса в гармонии с окружающей средой при отсутствии каких бы то ни было социальных изменений. Гомеостаз — это этностатика и этнодинамика. А вот этнокинетика относится к фазе, которую Гумилев называет началом «этногенеза» или «пассионарным толчком». То, что Гумилев называет «этногенезом», в нашей терминологии следует определить как «лаогенез», т. е. «происхождение народа (лаоса) » из этноса.
Так мы получаем таблицу терминологических соответствий.
|
Теории Термины |
Теория пассионарности |
Этносоциология |
|
Этнос |
Социобиологическая органическая система |
Простейшее общество, койнема |
|
Этногенез (только у Гумилева) |
Цикл подъема и спада пассионарности в этносе |
Лаогенез, переход от простейшей социальной формы (этноса) к более сложным формам (в первую очередь к народу) |
|
Гомеостаз |
Застойное существование этноса при преобладании гармоничных личностей (пассинарность равна инстинкту выживания) |
Этнос как таковой в его этностатической и этнодинамической фазах |
|
Начало этногенеза (только у Гумилева) |
Пассионарный толчок |
Этнокинетика |
|
Суперэтнос |
Этнос, интегрирующий в себя несколько этносов |
Максимальный масштаб народа (цивилизация, религия, империя) |
Схема 17. Таблица терминологических соответствий
Эта таблица помогает понять, что, когда Л. Гумилев описывает начало «этногенеза» (в его терминологии), он дает нам картину того, что этносоциология называет «этнокинетикой». Этнос начинает «двигаться», изменяться в своих качественных пропорциях. Именно это Гумилев и описывает в своей «теории пассионарности». Его как исследователя мало интересует описание этноса в гомеостазе (чем, напротив, приоритетно занимаются этносоциологи и культурные антропологи, стремясь досконально понять и корректно описать самую простейшую форму человеческого общества — койнему), этому он посвящает в своих работах несколько скупых абзацев. Гумилев начинает оживляться, когда сталкивается с «пассионарностью», с началом социальных изменений в обществе, с его движением. Этим объясняется и вся его теория: Гумилев интересуется развитием и изменением постэтнических структур под воздействием энергии пассионарности. Поэтому-то он и дает свою таксономию элементов этноса: конвиксия – консорция – субэтнос – этнос – суперэтнос. Раз он понимает под «этносом» скорее «народ», «лаос» как сложную, надстроенную над этноцентрумом структуру, активную, агрессивную, распространяющуюся и экспансивную, то он и идентифицирует движущую силу этноса в искусственном объединении индивидуумов (конвиксия и консорция), что явно напоминает именно мужской воинский союз, а не этноцентрум в его статике и динамике. Для Гумилева все интересное начинается в момент этнокинетики, где он и фиксирует пассионарность, и откуда берут начало все последующие изменения этноса. Этнокинетика есть процесс, при котором этнос выходит из состояния замкнутой вечности и вступает в историю, в открытую стихию постоянного диалога со смертью.
Пассионарность и этнокинетика
Теперь мы можем точнее понять и сам термин «пассионарность». С социологической точки зрения он описывает особое состояние параллельной социальности, свойственной тайному мужскому союзу внутри этноса. Смысл пассионарности у Гумилева — в ее энергетическом превосходстве над обычными экзистенциальными энергиями сбалансированного гомеостатического этноса. Но эти «энергии» могут быть объяснены (без апелляций к материи или вспышкам на солнце и т. п.) через вскрытие замкнутой структуры этноцентрума и освобождении гигантского потенциала неравновесности, выходящего на поверхность при таком вскрытии. Стихия войны, принятая как автономная социологическая реальность, открывает перед выделившимися в отдельную группу воинами новые травматические горизонты. Смерть бросает им вызов, на который они готовы ответить не путем ее интеграции в вечную жизнь этноса, а столкновением с ней лицом к лицу509. Для этноса это фатальная девиация, отклонение от нормы, но психологически попадание в такой режим открывает резервуар новых возможностей. Для описания особого бытия воинов племени, ставших профессиональной группой, вполне подходит критерий пассионарности.
Пассионарий проявляет себя только и исключительно в войне и в воле к власти510. Все остальные его действия выстроены исключительно вдоль этой воинственной волевой оси. Пассионарий воюет во имя власти и властвует во имя войны. Никакие другие атрибуты ему принципиально не важны.
Пассионарий разрушает этноцентрум, корежит этнос, способствует его необратимым трансформациям. Начинает он эту работу «для защиты этноса» от злой смерти, но на каком-то этапе сам становится воплощением «злой смерти», того «нового», на борьбу с которым брошена вся работа этноса.
Пассионарий строит постэтническую структуру. Пассионарный толчок есть момент фатального расщепления этноцентрума. Пассионарий есть брешь в этноцентруме. Его энергии — это энергии разрушения, установления дистанции и разделения. Пассионарий дробит и расчленяет общество и мир, создавая дифференциацию в этносе во всех направлениях — по линии разделения труда, образования отдельных социальных групп и по линии социальной стратификации. Пассионарий в своем властном импульсе выражает вертикаль, отсутствующую в этносе, и начинает выстраивать вдоль этой вертикали социальные страты.
Пассионарий одновременно и упрощает и усложняет этнос. Он упрощает его в том, что отбрасывает множественные связи, соединяющие между собой различные моменты этноцентрума. Но усложняет в том, что расчленяет присущие этноцентруму единство и целостность.
Пассионарий приводит этнос в движение (этнокинетика) и сам воплощает в себе это движение.
В этом смысле «пассионарность» может быть рассмотрена как этносоциологическое явление.
Шаман, воин и девиация
В простейших обществах (этносах в чистом виде) почти всегда мы встречаем отдельную фигуру шамана и не встречаем воинских мужских союзов. То есть в простейшей этнической общности есть шаман, но нет воина. Шаман преобладает там, где сохраняется этностатика (гомеостаз). Шаман демонстрирует признаки девиации, аномалии, но эта девиация имеет пропедевтический характер, как своего рода прививка социальной аномии, необходимая для того, чтобы превратить яд в лекарство, получить возможность излечиться (в обряде шаманской инициации) и впоследствии лечить других — живых, мертвых, духов и т. д. Шаман сталкивается с вызовом, но снимает его путем этнодинамического усилия интеграции, восстанавливая и поддерживая баланс. Шаман и его работа представляют собой концентрацию работы этноса. Шаман поэтому — самая трудовая личность этноса.
В этносе нет отдельных воинов, и воинами становятся все мужчины племени (охотники или крестьяне), когда возникает нужда в защите или нападении. Тайный мужской союз изначально не является специфически воинским, и все его члены приоритетно заняты обычным трудом в структуре этноса. Их столкновение с девиацией и «злом» исчерпываются личной инициацией, в которой они снимаются.
Появление отдельной чисто воинской группы представляет собой более серьезную девиантность. Это и есть «пассионарная девиантность». «Воин-пассионарий» слишком притягивается полюсом «злого ничто», чтобы преодолеть его. Он не удовлетворяется инициацией и восстановлением баланса, и в этом он принципиально расходится и с шаманом, и с обычными мужчинами племени. Пассионарность влечет воина сделать еще один шаг вперед, в ту стихию, откуда исходит угроза. Его пленяет и соблазняет необратимость, «новое», с чем он призван бороться, и чему призван противостоять. Он вступает с силами «злой смерти» в особые (девиантные для этнического большинства) отношения, и начинает сам постепенно концентрировать в себе разрушительные энергии.
Эти энергии могут служить этносу для защиты от точно таких же пассионариев соседних этносов, но пассионарий никогда не останавливается на достигнутом и ищет столкновения со смертью, стихию риска даже там, где ее нет в непосредственной близости. Если ее нет, пассионарий, воин отправляется ее искать.
Так в этносе постепенно утверждается бинарная модель принципиальных и исключительных типов — шаман и воин (вождь). Шаман гарантирует целостность этноцентрума, его гармоничность — в этом состоит его основная функция и на этом основывается его авторитет. Воин (вождь) тоже исключителен и также бывает наделен сакральной, магической властью, но эта власть и этот авторитет совершенно иного свойства: они основаны на личном и прямом контакте со стихией смерти в открытом и рискованном диалоге, который не снимается восстановлением гармонии (как в случае шамана).
Харизма шамана состоит в преодолении девиации через реинтеграцию. Харизма воина-вождя состоит в рискованном накоплении внутри самого себя избыточных экзистенциальных энергий, сопряженных со стихией «злой смерти».
Там, где мы видим обособленную группу воинов или ярко выраженную модель особой власти вождя (с сопутствующей стратификацией), там есть все признаки этнокинетики. Этнос может в любой момент вступить в серию социальных трансформаций. «Новое» уже внутри него, и далее все зависит от концентрации пассионарности в группе воинов или в самом вожде.
Вместе с тем, этнокинетика все еще сохраняет связь с этносом. Выход за рамки этноса уже вероятен и возможен, но все-таки еще не состоялся как необратимый факт. Для него созданы все предпосылки, но пассионарного толчка еще не произошло. Это символизируется балансом функций шамана и вождя. Шаман сдерживает вождя от пассионарного рывка, пытается сохранить этноцентрум. Вождь-воин и тайный мужской союз воинов тянут этнос в другую сторону, но часто их пассионарности не хватает для того, чтобы преодолеть интегрирующую волю шамана. Поэтому дуализм шаман–вождь имеет столь устойчивую позицию в самых разных обществах, и в самых сложных и современных мы находим определенные отголоски баланса между двоевластием жрецов и королей, Мерлина и Артура.
Резюме
Этнокинетика — последняя фаза, которая укладывается в рассмотрение этноса как простейшей формы общества, койнемы. В этой фазе формируются принципиальные социологические предпосылки для выхода за пределы этноса и для появления новой, более сложной и комплексной формы общества — народа. Раскол этноцентрума, этносоциология войны, образование социологической группы пассионариев — все это явления, которые станут основой народа как следующей этносоциологической категории, как первой производной от этноса. В этнокинетике этнос переходит в режим готовности утратить некоторые свои принципиальные черты.
Но при этом этнокинетика все же относится к области этноса, т. к. эти явления еще не реализуются на данной стадии в полной мере. Предпосылки к изменению собраны, но еще не дали своего эффекта. Этнос может «застыть» в этнокинетическом состоянии, и этнокинетические энергии, процессы и развертывающиеся цепочки логических последствий могут быть скованы действием защитных механизмов этноцентрума. Неустанная работа этноса по самовоспроизводству своей статической конструкции в определенных случаях способна затормозить процесс этнокинетики, заморозить этот момент, удержав общество на грани необратимых перемен, к которым все, казалось, давно готово.
В некоторых случаях этнокинетика может длиться в течение очень долгих периодов, а накопление пассионарности всякий раз оказываться недостаточным, чтобы придать социальным изменениям окончательное и необратимое направление. Поэтому можно рассматривать этнокинетическую фазу как самостоятельную, хотя и пограничную, модель этноса.
Кроме того, при определенных обстоятельствах этнокинетика может быть обращена вспять, т. е. стать реверсивной. Этнос начнет двигаться в направлении к необратимости и расщеплению этноцентрума, но по каким-то причинам остановится и войдет снова в этностатическое состояние. В этом случае попытки осуществить необратимый жест и вступить в открытую стихию истории могут сохраниться в этносе как «мемориальная фаза» (по Гумилеву) и жить на уровне не действующих, но назидательных мифов.
Вместе с тем, с позиции лаогенеза, т. е. социологических процессов становления народа (лаоса) этнокинетика может рассматриваться как его начальная фаза, как его прелюдия. Это мы и увидим в следующем разделе.

Схема 18. Три стадии бытия этноса
РАЗДЕЛ 3
ЭТНОС В КОМПЛЕКСНЫХ ОБЩЕСТВАХ. ПРОИЗВОДНЫЕ ЭТНОСА
Глава 9
НАРОД (ЛАОС)
§ 1. Народ как этносоциологическая категория
Важность понятия «народ» для этносоциологии
Введение понятия «народ» («лаос») в этносоциологическую таксономию объясняется необходимостью выделить в отдельную категорию такой тип общества, который одновременно сохранял бы некоторые свойства этноса и представлял собой намного более сложную и дифференцированную структуру, нежели чисто этнические общества. В социологии и истории неоднократно делались попытки разделить между собой древние общества, качественно отличающиеся друг от друга по ряду существенных характеристик. Так, марксизм выделял ряд политэкономических формаций: первобытнообщинный строй, рабовладельческое общество, феодализм, капитализм, социализм и (в будущем) коммунизм. Л. Морган говорил о «дикости, варварстве и цивилизации». В некоторых случаях выделяют «архаическое общество», «традиционное общество», «современное общество» и «постсовременное общество». Другие авторы и школы предлагали иные классификации.
Понятие «народ» как этносоциологическая структура необходимо для того, чтобы выделить в отдельную область рассмотрения тип общества, промежуточный между этносом, с его простой и замкнутой самой на себя структурой (койнема, этноцентрум), и современным обществом, где преобладает членение по национально-государственному признаку. Между этносом и нацией располагается самостоятельная сложная и многообразная социологическая и этнологическая область, включающая в себя огромный спектр версий, где этносы претерпевают сложнейшие трансформации, социальные структуры качественно меняются и общество приобретает совершенно особые черты, которых уже нет в этносе, но еще нет в нации и гражданском обществе. Эта промежуточная сфера между этносом и нацией включает в себя века и тысячелетия истории человечества, составляет основное содержание исторических процессов, дает нам веер религий, государств и цивилизаций, резко отличающихся и от этнических архаических культур, и от современной западной цивилизации.
Этносоциология и таксономии других научных дисциплин
Разные дисциплины — история, экономика, философия, политология, культурология, религиоведение, история искусств и т. д. — выделяют в этой обширной сфере главных действующих лиц основные закономерности и приоритетные процессы в соответствии со своим специфическим подходом и называют, соответственно, изучаемый объект своим особым термином.
Этносоциология, исходя из своей научной и методологической специфики, определяет это многообразие как особый тип общества, являющийся первой производной от этноса. Это означает, что основные свойства этноса в его чистом статическом состоянии при переходе к «народу» качественно меняются. Но характер этого изменения позволяет ясно проследить связи с предшествующей этносоциологической структурой, т. е. довольно легко обнаружить в «народе» койнемы и их комбинации. Эти койнемы (т. е. этносы) частично сохраняются внутри народа, хотя уже не в чистом виде, а в составе сложной полиэтнической структуры. В этом состоит особенность народа: он обязательно состоит из двух или более этносов, т. е. является полиэтнической структурой.
Для удобства можно соотнести различные типы таксономии обществ с той моделью, которая является приоритетной в этносоциологии. (см. схему 19).
На этой схеме мы видим, как соотносятся между собой различные типы классификаций. Переход от этноса к народу является принципиальным, поскольку эта граница соответствует определенному периоду, ясно выделяемому и в иных дисциплинах. В социологии это соответствует переходу от архаического общества к традиционному, а в исторической науке — переходу от Предыстории собственно к Истории. По Моргану, именно здесь проходит водораздел между «дикостью» и «варварством». В истории религии здесь же фиксируется грань между «естественными религиями» и «политеизмом». Эти четко установленные параллели с таксономиями других научных дисциплин позволяют лучше понять смысл этносоциологической категории «народ».
В социологии мы видим фиксацию границы между архаикой и традицией. Можно интерпретировать это следующим образом.
Этнос основан на органичной целостности, т. е. на принципе интегральности. Эта интегральность обеспечивается этнодинамической работой этноса, но воспринимается как нечто уже имеющееся и наличествующее, что следует только поддерживать. В этом состоит сущность архаического: целостность дана изначально («αρχη» — «начало»). Традиционное общество, соответствующее народу, целостность видит не как данность, а как цель, как то, что только еще предстоит осуществить, что является проблематичным и требует сверхусилий. Традиция предполагает не интегральность, а интеграцию, не целостность, а только лишь ее завоевание. Традиция воссоздает архаическую модель целостности как память о прошлом и как цель в будущем. В настоящем же народ находится между этими двумя нормативными состояниями и призван стремиться к двум горизонтам — прошлому («золотому веку») и будущему («возвращению великих времен»), которые воплощены в Традиции.
Это положение народа между двумя нормативными состояниями (раем в прошлом и эсхатологией в будущем) и выражается во вступлении в Историю. Народ есть этнос, вступивший в историю. Историческая наука четко фиксирует этот момент, т. к. именно тогда модель времени впервые размыкается, и между прошлым и будущим устанавливается особая дистанция, формирующая структуру настоящего, которое оказывается в движении. Так происходит рождение однонаправленного и необратимого исторического времени.
В истории религии это выражается в переходе к политеистическим, а позже к монотеистическим теориям, где сакральное присутствует не как непосредственная данность (как в магии и естественных религиях), а через систему теологических конструкций с отчетливой персонификацией отдельных богов и их функций. Эта рационализация теологии достигает своей кульминации в монотеизме. И не случайно именно монотеизм, в форме иудейской религии, впервые однозначно формулирует концепцию однонаправленного исторического времени. Историческое время есть время, которое соответствует народу, но не известно этносу.
В проблеме дифференциации этноса и народа следует отметить параллель этносоциологии с марксизмом, рассматривающим рабовладельческую формацию как нечто особое. И если с экономической и исторической точек зрения значимость института рабства для хозяйственной деятельности древнейших обществ неоднократно (и довольно убедительно) оспаривалась, то с точки зрения этносоциологической появление в этносе рабов действительно является принципиальным фактором в расколе этноцентрума, и соответственно, чрезвычайно важно для перехода от этноса к народу.
Классификация Л. Моргана511 (от которой сегодня почти все отказались), различая «дикость» и «варварство», также указывает на интересующую нас этносоциологическую границу.
Если же посмотреть на некоторые классификации, где эта граница не учитывается (например, в культурологии или экономике, а также в концепциях отдельных авторов), то станет ясно, почему далеко не во всех культурно-антропологических и этносоциологических теориях понятию «народ» уделяется должное внимание. Однако, если для других дисциплин игнорирование категории «народ» не критично, то для этносоциологии отсутствие ее автоматически приводит к неразрешимым концептуальным противоречиям, путанице и смешению понятий. Не выделив «народ» в отдельную этносоциологическую категорию, мы неизбежно придем к смешению между собой этноса и нации, что приведет к множеству концептуальных препятствий и заблуждений, которые выльются либо в наивный примордиализм, либо в безосновательный конструктивизм, либо в неправомочно обобщенный инструментализм.
Внутренний и внешний «другой»
С точки зрения этносоциологии народ является той социологической структурой, которой логически завершается этнокинетика, если социальные изменения в ней одержат верх над консервативной работой этнодинамики, стремящейся восстановить структуру этноцентрума в ее статической и неизменной форме.
Это значит, что в народе фигура «другого» является доминирующей, и именно она объясняет его основные черты. Народ необратимо конституирует «другого» вне себя и внутри себя и строится на процессе этого конституирования.
Народ представляет собой травматическое явление. Это расколотый этноцентрум, который не способен обычными для этноса средствами восстановить утраченную целостность. Народ знает о целостности и придает ей решающее ценностное значение. Но эта целостность отныне становится целью, императивом, моральной задачей, дальним горизонтом. Эта целостность (этноцентрум) как благо некогда была фактом, и ее восстановление является целью для народа, его судьбой. Именно поэтому народ является этносоциологической категорией: в нем этнос и этноцентрум играет главную конститутивную роль. Народ есть общество, которое хочет, но не может быть этносом; хочет, но не может восстановить этическую модель замкнутого пространственно-временного цикла. И та и другая сторона этого утверждения — «хочет, но не может» — имеет важнейшее этносоциологическое значение. Народ не этнос, и в этом проявляется то, что он «не может». Но народ видит в этнических параметрах свой ценностный норматив, отсюда — «хочет».
Поэтому ситуация, в которой пребывает народ, характеризуется следующей бинарностью: сейчас народ не этнос, и это трагично; но раньше он был этносом (и это было хорошо), и в будущем он должен снова стать как этнос (в этом его миссия). Обратим внимание на выражение «стать как этнос». Народ не способен стать этносом, т. к. он уже не имеет той «невинности», того незнания относительно «другого», которое характеризует этническое бытие. Народ знает, что «другой», «другое» есть. И это знание является сутью бытия народа. Но это знание глубоко трагично, оно делает настоящее недостаточным, лишенным, «окаянным». Поэтому народ не может просто вернуться к неведению о «другом»; он призван победить «другое», преодолеть его либо включить его в себя не как «это», а как «другое»; либо «исключить», но так, чтобы от него вообще ничего не осталось и чтобы это «ничто» более не беспокоило народ в его бытии. Это и значит стать не этносом, но «как этнос». Народ в целом не может быть этносом, он лишь стремится к тому, чтобы волей и историческим деянием воссоздать утраченное безвозвратно (в том виде в каком оно было) единство.
Бытие народа неравновесно, ассиметрично, травматично и драматично. Народ — это беспокойное общество, движимое всей своей структурой к серии социальных изменений, т. к. его нынешнее положение — всегда недостаточно. Народ не доволен тем, что есть, он стремится к реализации «другого». В этом его социологическая природа.
«Другое» предопределяет структуру народа, его лаоцентризм. Вовне «другое» конституировано в образе врага. Народ обязательно имеет внешнего врага, если такового нет, он сам его создает, это экзистенциальное условие его существования. Народ должен бояться и ненавидеть врага и должен стремиться к битве с ним. Именно «враг» («они-группа» Самнера, «противотип» Йенша и т. п.) воплощает в себе то, от чего «страдает» народ. Это его проекция. Он нуждается в ней для объяснения внутренней боли. Асимметрию и разомкнутость этноцентрума, «причину» дискомфорта народ идентифицирует в фигуре врага. Здесь социология войны, намеченная в фазе этнокинетики, приобретает свое социологическое значение. Народ — всегда и обязательно воюющий народ. Он созидается группой воинского мужского союза и репрезентируется именно ею.
Народ не может быть мирным. Даже если он не воюет, он всегда (пока, временно) не воюет. В этом он принципиально отличается от этноса. Этнос всегда мирный, и остается мирным даже в период ведения войны. «Победить врага» — это путь и средство преодолеть внутреннюю боль, экстраполировать страдание. Восстановление целостности видится народу только через сокрушение «другого» как внешнего врага. (см. схему 20).
Народ имеет «другого» внутри. Это проявляется в обязательной социальной стратификации и классовой (в социологическом смысле) дифференциации. В народе всегда и обязательно есть элиты и массы, верхи и низы. Они являются друг для друга «другими». Элиты страдают от неподвижности масс, массы — от подвижности элит. Они экстраполируют друг на друга образ «другого», избавляясь тем самым от гнетущего чувства раскола этноцентрума. Поэтому структура лаоса всегда иерархична и вертикально дуальна, она выстроена вдоль оси воли к власти, которая организует энергии великого недовольства. Массы переживают его как страдание, элиты как злость.

Схема 20. Структура Народа/Лаоцентрума
Баланс между внешним и внутренним «другим» определяет циклы войн. Большинство народов в истории воюют непрерывно, поэтому трудно сказать, сколько они продержались бы в режиме лишь внутренних социальных противоречий.
Война является конститутивным элементом народа.
«Другой» и религия. Исключенные боги
В народе формируется особый вид религии. В отличие от всепронизывающей сакральности, нуминозности архаических культов, народ чаще всего отличается теологически развитой формой религии. В этом проявляется еще один аспект «другого». Боги или Бог становятся для народа «другим». Боги были «своими» или «родными» для этноцентрума, они были «включенными». В народе боги и Бог являются исключенными, исключительными, они снова представляют собой «противотип» для людей, но только взятый со знаком плюс. Боги благи и совершенны, а люди злы и несовершенны. Так рождается особая форма религии, основанная на позитивном понимании «трансцендентного» и негативной интерпретации «имманентного». Боги для людей «другие», но и люди «другие» для богов. Это трагическое положение дел. Его нужно исправить, и в этом состоит моральный императив дифференцированной религии. Народ призван быть не таким, как люди, а таким как боги. В этом состоит смысл «сублимации». То, что есть как статус-кво народа, признается религиозно «ущербным». Необходимо достичь совершенно иного порядка. Этим и занимается религия как институт борьбы с реальным положением дел в пользу идеального, нормативного.
Архаические формы этнических религий в народе радикально переосмысливаются. Между людьми и богами устанавливается дистанция. Боги удаляются на недоступные высоты, создавая тем самым дублирующий слой бытия — «небо», «потустороннее», «далекий горизонт». Этот чисто религиозный слой находится в оппозиции земле людей. Здесь жесткая оппозиция радикальных бинарностей, отличающих народ как таковой, приобретает религиозную форму.
Антропология народа: фигура героя
Центральной фигурой народа уже окончательно и бесповоротно (в отличие от фазы этнокинетики) становится герой. Это обобщенный архетип воина как одинокого индивидуума, сталкивающегося лицом к лицу со смертью, «злом», с «ничто», с «другим». Герой представляет собой человека как проблему, сопоставленного со всем остальным как с проблемой и противопоставленного всему остальному и себе самому. Герой как социологический и этносоциологический тип — это совершено новая фигура для этноса, фигура в значительной степени постэтническая. В этносе нет места для героя. Основные функции по столкновению с проблематичной стороной бытия берет на себя шаман, и в некотором смысле в профилактических дозах это дает о себе знать в инициации. Но всякий раз проблема «закрывается», и цельность этноцентрума восстанавливается.
Герой имеет дело с незаконченной процедурой восстановления. Он вовлекается в процесс «починки» этноцентрума, но в какой-то момент, «что-то идет не так», и он вынужден искать решения и пути, которые не предусмотрены этнодинамическим сценарием. Поэтому герой сам становится «другим» для своего общества, воплощает в себе решаемую им, но пока не решенную проблему.
Фигура героя представляет собой социологическое обобщение типа воина, выделенного в отдельную особую группу и ориентированного только и исключительно на войну. Но если воин исчерпывается войной, то герой представляет собой нечто большее, чем просто воин (хотя наиболее привычное и характерное проявление героизма — это военные подвиги). Герой — тот, кто профессионально имеет дело с «другим» во всех смыслах. Война с противником — только одна из проекций «другого». «Другой» присутствует и внутри общества (социальные страты, элиты и массы); поэтому герой является выражением «воли к власти», т. е. «царем», «вождем» или «народным мстителем», «предводителем восстания», «революционером». «Другой» входит в центр религиозных верований развитых теологий — политеистических и, особенно, монотеистических. Герой, таким образом, становится антропологическим архетипом народа. В этой своей функции он сменяет шамана, являющегося архетипом этноса.
Характерной чертой героя является его индивидуальность. Если шаман — это функция, то герой — это судьба. Герой превращает личность (как социальный статус) в индивидуальность, а ритуал — в историю. Герой вообще является не статусом, но совершенно не известной для этноса инстанцией, фундаментальной аномалией, расколом, риском, воплощением неравновесности и драматичности, составляющих сущность исторического бытия.
Герой разделяет народ на несколько пар новых оппозиций: героическое и негероическое, индивидуальное и ритуальное, историческое и циклическое. Лаоцентрум имеет обязательно два полюса, между которыми существует конститутивное для всей этносоциологической конструкции напряжение. К полюсу героизма тяготеет все, склоненное к дифференциации. К противоположному полюсу — все, склоненное к гармонии и этноцентруму в его статическом состоянии. Героический полюс в народе преобладает качественно, хотя количественно практически всегда массы превосходят элиты.
Герой отличается пассионарностью, презрением к смерти, стремлением испытать судьбу. Герой живет рискованно, и в этом видит свое предназначение.
Этническая дуальность народа
Так как народ несет в себе дифференциацию и раскол, то вполне логично, что он строится на принципе, прямо противоположном этнической однородности. Народ начинается там, где кончается и раскалывается этнос. В исторической практике этому соответствует образование сложных обществ с обязательным полиэтническим (как минимум, дуальным) устройством.
Самым частым случаем появления народа в истории является факт завоевания одним этносом другого. При этом важен не сам факт, но те этнокинетические процессы, которые протекают в этносе-завоевателе. Никакое этническое завоевание не приведет к появлению народа, если в этносе-завоевателе («руководящем этносе» по Широкогорову512) не сложились предпосылки
для социального оформления фигуры «другого». Чаще всего речь идет об образовании особых тайных обществ воинов. Именно эта группа профессиональных воинов способна организовать межэтнические отношения между победителями и побежденными по вертикально иерархическому принципу без прямой ассимиляции на равных условиях, к чему тяготел бы целостный этноцентрум. Воины-победители могут воспринять побежденный этнос как «пространство рабов», установив над ним отчужденное властвование, оформленное как «превосходство». Это «превосходство» осмысливается одновременно и как «этническое» и как «политическое», а этнос-победитель конституируется как элита, как каста господ. При этом мы получаем дуальную картину, где этническая дихотомия превращается в кастовую и сословную иерархию. Именно так, согласно целому ряду социологов (Л. Гумплович, Ф. Ратцель, Ф. Оппенгеймер, Р. Турнвальд и т. д.), и происходило формирование древнейших государств. Социальная стратификация внутри отдельно взятого этноса не имеет внутренних причин. Этноцентрум — слишком закрытая и устойчивая модель, чтобы допустить в себя столь высокий социальный дифференциал, который необходим для создания стратифицированного общества. Антропологи, полагавшие, что социальная дифференциация имеет эндогенные причины и проистекает из постепенного повышения роли родовых старейшин в племени или из накопления «прибавочного продукта» в родоплеменной знати (как считают марксисты), не учитывали эмпирических данных и огромного фольклорно-мифологического материала, который даже у самых архаических народов содержит в себе упоминания или, по меньшей мере, намеки на этнический дуализм, лежащий в основе общественной стратификации.
Еще до Л. Гумпловича, который сделал теорию этнического происхождения политических элит знаменитой513, эти идеи сформулировал французский историк Анри де Буленвилье (1658–1722) 514, который на примере Франции показал общую модель формирования дифференцированного общества на основании наложения германской элиты франков на автохтонное галльское население515. Гумплович же продемонстрировал всеобщий характер этой закономерности на сотнях исторических примеров.
Койне и полиглоссия
Стратификационная полярность народа обуславливает ряд его типичных свойств. В лингвистической сфере это дает нам койне и полиглоссию.
Койне, от греческого «общий», представляет собой в народе прямой аналог того, чем являлся язык в этносе. Главное отличие койне от языка состоит в том, что в народе, состоящем из двух и более этнических групп, «койне»
является органическим языком только одной из них, а остальные этнические группы пользуются им как «языком межэтнического общения», но не своим, не родным. Это существенно аффектирует саму структуру «койне». Он используется и теми, для кого внутренняя структура и система ассоциаций и подразумеваний данного языка являются само собой разумеющимися и очевидными по умолчанию (т. е. работой этноса по сохранению статики этноцентрума), и теми, кому эта система совершенно чужда, кто видит в ней отчужденный инструмент для редуцированной передачи необходимой информации в практических целях и кто имеет для поддержания своего собственного этноцентрума другой язык. Так койне перестает быть органичным языком одного народа, и при этом не становится органичным языком для другого. То, что на «койне» говорят те, кто не «понимает» его структуры, влияет и на тех, для кого «койне» ранее был родным языком. Структура языка рушится, трансформируется, он все более становится техническим средством, утрачивая свое сакральное этническое измерение. Так постепенно складывается язык, который не является родным ни для кого, но известным всем. Естественно, что при этом меняется его фундаментальная функция.
При этом чаще всего в народе сохраняется полилингвизм или полиглоссия, т. к. отдельные этносы наряду с койне продолжают пользоваться своим родным языком. Это усложняет общую картину, т. к. происходит не только заимствование терминов из разных этнических глосс другими этносами и насыщение ими койне, но смешиваются между собой и сакрально-ассоциативные ряды, отрываясь от той структуры имен-мест, которая обосновывала их место в этноцентруме и которая, в свою очередь, постоянно реконституировала этноцентрум в процессе речевого общения.
Даже те этносы, которые, интегрируясь в народ, сохраняют свои этнические языки и обычаи, получают серьезное воздействие со стороны новой языковой реальности, с которой они так или иначе вынуждены считаться.
Мышление в народе
Фундаментально меняется и структура мышления в народе по сравнению с этносом. Внедрение фигуры «другого» радикально меняет саму структуру этнической интенциональности. В рамках мышления появляется место для «сомнения», для дистанции по отношению к этнической беззаботной уверенности в тождестве ноэмы и вещи, в магической мощи и автономном бытии имени. В мышлении народа появляется «то, чего нельзя назвать», «ineffable», по-французски516. «То, чего нельзя назвать» («другое») конституирует второй горизонт смыслов по ту сторону «слов», а значит, делает возможной, учреждает внеязыковую реальность, неизвестную этноцентруму. Этнос знает все вещи, все вещи имеют в этносе имя. Быть и называться — там одно и то же. Смысл речи в этносе совпадает с контекстом, и контекст, в свою очередь, является проговариваемым. Парадигмальным контекстом речи служат мифы племени.
Появление «другого» в языке и мысли порождает раскол замкнутой контекстуальной ткани этноцентрума. За пределом этноноэмы становится «нечто», что не тождественно самой ноэме, что ускользает от нее, что угрожает ей. Это смерть имени.
Смерть имени имеет две стороны, которые продлевают процесс этноноэзиса в обоих направлениях за этнический предел — вовне («к») и вовнутрь « (от»). Так возникают первые завязи того, что современные логики называют «интенсионалом» и «экстенсионалом» или «смыслом» и «значением». В этносе самое имя есть смысл и значение, оно автореферентно и контекстуально, т. е. указывает на себя в контексте. У него нет отдельного смысла и оно ни на что не указывает, ничего не означает из внесловесного мира, т. к. этого мира для этноса не существует.
В народе, в его «расколотом» мышлении рождается смутная догадка о том, что имя есть знак. Поэтому с обеих сторон от него начинает брезжить два горизонта — внутренний горизонт смысла (интенсионал) и внешний горизонт означаемого, т. е. предмета, вещи (экстенсионал).
Народ начинает сомневаться. Это сомнение вызвано фигурой «другого». Эта фигура, впущенная в процесс сознания, порождает триаду «смысл–знак–значение» и создает предпосылки для позднейшего рождения субъекта и объекта.
Далеко не все исторические народы доходят до формулировки этого логического правила в полной мере, но, в отличие от этнической интенциональности, являющейся единственным способом мышления в этносе, предпосылки для такого дифференциального отношения к проблеме языка и сознания обнаруживаются у многих весьма архаических народов.
Мышление в народе качественно меняется. При этом важно, что переключение режима мышления происходит мгновенно. Здесь нет постепенности и накопления отдельных качеств общества. Пока есть этнос как этнос, он сам уничтожает предпосылки для появления «другого» через жертву и потлач. И это предохранение есть основная черта этноса. Но как только появляется «другой», вся модель мышления резко переходит в новый режим.
Полюса народа и формы мышления
Строго говоря, мышление в народе радикально меняется по сравнению с этносом не на всем социальном пространстве. Структура народа (лаоса) как производной от этноса качественно сложнее, чем структура этноса. Поэтому в народе всегда следует выделять два полюса, две социологические зоны, которые коммуницируют друг с другом, обмениваются определенными социокультурными, политическими и экономическими импульсами, но при этом сохраняют определенную степень автономии. Эти два полюса можно описать как социальные страты (или классы). В терминологии В. Парето (1848–1923) следует говорить о дуализме «элит» и «масс»517.
Элиты и массы, согласно закону Гумпловича и теории «суперпозиции» (Überlagerung — Ф. Ратцель, Р. Турнвальд и т. д.), в своих корнях имеют различие двух этносов, их «наложение». С этим связана присущая народу дифференциация социологических страт и наличие между ними качественных различий. В народе как социологическом понятии можно говорить о различии двух типов ментальности на его полюсах. Структура мышления высших страт (элит) качественно отличается от мышления низших страт (масс). Так как номинально народ представляют именно элиты, то мы можем взять тип героического мышления, свойственный именно элитам, за нормативный и составляющий специфику народа как формы общества. В этом случае все, сказанное о фигуре «другого», «сомнении», «дистанции», предпосылке «субъект-объектного» дуализма, подхода к логике и знаку (у которого есть смысл и значение), будет полностью соответствовать действительности. Но следует добавить: это соответствует мышлению элиты, того социологического полюса, где концентрируются высшие страты.
Второй полюс народа — массы — продолжает оставаться зоной мышления, основанного на некритической этноинтенциональности. В этом мышлении действует модель этноцентрума и этнодинамики.
Если рассмотреть структуру народа в чистом виде, в абстракции, мы можем зафиксировать в нем элитный героический полюс, для которого характерно «рациональное», «логическое» мышление, и полюс масс, где преобладает этноинтенциональность. Поэтому можно вполне говорить о гносеологическом дуализме, о сосуществовании в рамках народа двух нормативных типов мышления. Народ гносеологически двойственен.
Но такое строгое деление остается лишь социологической моделью. На практике столь четкое и однозначное деление встречается далеко не всегда — как правило, в жестко кастовых, иерархизированных обществах. Чаще всего между двумя полюсами народа происходит обмен гносеологическими установками. Массы проецируют мышление в алгоритме этноцентрума на элиты, а элиты обращают свою структуру сознания на массы. Это смягчает жесткий дуализм рационального логического мышления (часто через отдельные религиозные и мифологические сюжеты, примиряющие противоположности) и нарушает циклы «вечного возвращения» в сознании масс, привнося в него элементы «трагизма», «ожидания», «ностальгии» — т. е. «линейного времени».
Поэтому структура мышления народа в целом может быть описана через два относительно автономных типа сознания (мышление элит и мышление масс), которые взаимодействуют друг с другом, порождая смешанные типы. Все вместе оба типа мышления и промежуточные варианты, спроецированные на плоскость, порождают образ сознания народа, который, будучи рассмотренным более пристально, обнаруживает свою дуальную структуру.
Корректный этносоциологический анализ требует, таким образом, проведения сразу нескольких операций:
– выявление ментальной структуры элит;
– выявление ментальной структуры масс;
– отслеживание их взаимовлияния;
– изучение процесса возникновения смешанных форм.
Социальные изменения в народе
Народ, в отличие от этноса, является кинетической системой; его структуры постоянно меняются. Народ организован вокруг неравновесного дифференциала, что открывает возможности для социальных изменений. Перейдя в момент своего возникновения от статической и динамической структуры этноса к историческому существованию, народ не перестает меняться, в его основе лежит «событие», «novum», и его бытие состоит из событий, что и составляет содержание его истории. В ходе исторического бытия народа (лаогенеза) неоднократно меняется его этническая модель. Этносы перемешиваются между собой как в элите, так и в массах, влияют на культурные, экономические, социальные, технологические и религиозные особенности друг друга. Каждое из социальных изменений имеет исторический характер, т. е. является изолированно необратимым. Хотя сам народ может в какой-то момент прекратить свое историческое существование и распасться на серию этносов, но пока он есть, все, что в нем происходит, носит «сингулярный» характер.
Конечно, это затрагивает народ в целом, как систему. На уровне отдельных устойчивых этнических образований, включенных в народ, может существовать совершенно иная картина времени. Там вполне может ничего не меняться, и «событие» интерпретироваться как циклическое явление, т. е. не как «новое», но как возвращение «одного и того же». Поэтому социальные изменения в народе имеют как минимум дуальную структуру. На уровне элит и некоторых промежуточных между элитой и массой пластов действует логика истории, а в глубине, в массах, продолжает доминировать «вечное возвращение» и сохраняться неизменным этноцентрум.
Поэтому народ требует двойного социологического подхода, который одновременно изучал бы процессы изменений на верхнем его уровне и их циклическую интерпретацию (в духе «вечного возвращения») в массах.
Народ постоянно меняется на поверхности и в верхах, и остается неизменным в глубине и в народных массах. Это предопределяет специфику его исторического существования, которая, с одной стороны, является действительно исторической, а с другой — внеисторической и синхронической.
В результате такого наложения мы можем вывести основной вектор исторического бытия народа и ориентацию протекающих в нем социальных изменений. Народ основан на факте «раскола этноцентрума» как изначальной интегральности, целостности. Это предопределяет его идентичность. Но вместе с тем, он еще тесно связан с этой интегральностью, и, не имея ее по факту, возводит ее в моральный императив, в статус ценности, которую надо достичь. Таким образом, главным вектором социальных изменений в народе является достижение внеисторического единства историческими средствами; восстановление расколотой целостности при помощи тех инструментов, которые родились в момент раскола. Цель изменений в народе — это обретение состояния неизменности.
Вместо интегральности этноса народ движим волей к интеграции. Он стремится осуществить интеграцию целого. Если шаман был способен восстановить мир, то герой только стремится это сделать, и в отличие от шамана его победа не гарантирована, поставлена под вопрос, проблематична.
Таким образом, у народа (лаоса) можно выделить три горизонта:
– массы (этносы), пребывающие в «динамической неизменности»;
– элиты, являющиеся главными носителями социального дифференциала и, соответственно, социальных изменений;
– цель, к которой стремится народ, оформленная как достижение сверхисторического идеала (миссии).
Это создает сложную диалектику социальных изменений, поскольку в бытии народа присутствует одновременно три времени, три уровня процессов, влияющих друг на друга.
Роль кочевников в лаогенезе
Происхождение народа из этноса в исторической перспективе может быть сведено к упрощенной схеме, к общему сценарию, который повторяется в разные исторические периоды и в разных географических ареалах Земли. Сторонники теории «суперпозиции» (Überlagerung — Ф. Ратцель, Р. Турнвальд, А. Рюстов, Ф. Оппенгеймер и т. д.) описывают этот типовой случай следующим образом.
В основе перехода от этноса к народу чаще всего стоят воинственные патриархальные племена скотоводов-кочевников, освоивших доместикацию крупного рогатого скота.
Такие этносы формируются в особых условиях на основе оседлого крестьянского поселения. В аграрных обществах простейшего типа гендерное разделение труда у охотников и собирателей превращается в дуализм женских сельскохозяйственных работ и мужского разведения мелкого скота. Эта гендерная специализация не разрывает баланса аграрного этноцентрума и не приводит сама по себе к фундаментальным качественным изменениям в этносе. Эта аграрная форма этнического бытия существенно отличается от общества охотников-собирателей, но не выходит за границы этнодинамики.
В определенный момент мужчины, разводящие скот, начинают удаляться от селения на критически далекие расстояния, что приводит их в соприкосновение с другими этносами и к вероятным конфликтам. Этот момент часто совпадает с созданием мужских военных союзов. Еще одной переломной точкой становится одомашнивание крупного скота — быков, лошадей, верблюдов, лам, оленей и т. д. Из этих компонентов складываются этносы особого типа с ярко выраженными патриархальными, маскулинными чертами — подвижные, динамичные, агрессивные, воинственные и склонные переносить свои навыки обращения с крупным скотом на покоренные народы. Поэтому многих архаических царей символически именовали «пастырями», «пастухами». С этим связан весь ряд метафор «народа» как «стада» и т. д.
Именно в таких маскулинных скотоводческих этносах и создаются условия для раскола этноцентрума и перехода к новому этносоциологическому типу. Народ создается под воздействием маскулинных кочевников.
Лаогенез (становление народа) может быть в простейшем случае описан как покорение кочевым воинственным племенем оседлого аграрного этноса. В некоторых случаях вместо покорения могут иметь место более мягкие формы межэтнического альянса, социологическая сущность которого остается тем не менее одинаковой. Кочевники формируют высшую страту в народе, аристократию, дворянство, а оседлые аграрии — соответственно, низшую. Кочевники становятся элитой, крестьяне — массой. Охотники и собиратели чаще всего оказываются на самой низкой ступени и либо подчиняются аграрным пластам, либо смещаются на периферию, сохраняя относительную автономию. Так происходит структурирование народа. Воинственные кочевники конвертируют свой этнокультурный тип в высшую страту, касту, сословие, класс. А этничность оседлого крестьянского населения превращается в социальную парадигму низшей страты, касты, сословия, класса.
Так создается иерархизированное общество, которое и есть народ. Во главе стоят воины, внизу — крестьяне. Вместе они образуют единую социологическую систему, в которой постепенно этнический дуализм превращается в политическую дифференциацию каст и сословий. С точки зрения хозяйственных практик, символом этого синтеза является обработка земли с помощью плуга и крупных животных (вола, коня и т. д.) пахарем-мужчиной. Крупный рогатый скот — атрибут агрессивно-мужских кочевников. Земледелие как таковое — дело мирно-женственных крестьян (ок). Фигура пахаря с плугом, в который запряжен бык или конь, есть образ народа как особой этносоциологической категории.
В сфере пищи «синонимом» этого синтеза является мясной (из мяса крупного животного) или сырный пирог. Мясо и молочные продукты (особенно сыр) являются приоритетной пищей кочевников. При этом ряд архаических кочевых племен табуирует употребление растительной пищи, т. к. «ей питаются животные». Отсюда крайне формы отождествления кочевниками крестьян с «животными» и оправдание «права» на их покорение. Сочетание священной для кочевников и эксклюзивной мясной или молочной пищи с тестом, полученным из злаков, выражает собой социологическую сущность народа. Мясо (сыр) являются начинкой (высшая страта); тесто — оболочкой (низшая страта).
Истоком народа можно считать дистанцию, привносимую кочевниками в оседлое общество. Эта дистанция выражается в границах, которые народ устанавливает вокруг себя и внутри себя. Эта дистанция имеет этнические корни и дает о себе знать в культуре, обществе, мышлении.
Кочевники-завоеватели имеют в отношении завоеванных оседлых народов ту же дистанцию, которая является для них естественной по отношению к своим стадам или к побежденным воинам другого этноса, превращенных в рабов. Здесь и складывается вертикальная властная ось социальной организации, которая лежит в основании любых политических систем. Этнос сам по себе не политичен, в нем нет необходимой для политики вертикальной стратификации. Народ обязательно наделен политическим измерением. Это измерение исторически чаще всего восходит к конкретному моменту, представляющему собой точку рождения народа. Это момент установления кочевыми агрессивными воинственными кочевниками-пастухами или иными типами агрессивных мужских сообществ власти над оседлым этносом землепашцев. Именно в этот момент этнос вступает в историю.
§ 2. Социологические формы исторических творений народа
Творения Народа: государство, религия, цивилизация
«Народ» является этносоциологической категорией и описывает первую производную от этноса, в которой происходит фундаментальное социальное изменения базовой этнической структуры. Народ (лаос) выделяется методом социологического анализа той общественной формы, которая представляет собой наиболее близкую к этносу модель, но которая при этом является на порядок более сложной и не выводимой напрямую из этноса. Как для того, чтобы мы имели дело с этносом, нам необходимо как минимум два рода (геноса), фратрии или клана, так и для того, чтобы иметь дело с народом (лаосом), нам необходимо как минимум два этноса. Но соотношение между этносами в народе основано не на системе родства и свойства, брачных отношений, а на властных и политических отношениях «Господина» и «Раба» (по Гегелю). Поэтому как из рода невозможно прийти к этносу, так на основании только одного этноса невозможно построить народа. Народ, таким образом, с необходимостью полиэтничен. И это составляет его качественное отличие.
Народ, появляясь в истории, обязательно создает одну из трех форм (иногда все три одновременно или две из них, а иногда переходит от одной к другой последовательно):
государство – цивилизация – религия.
Народ не может существовать вне одной или нескольких из этих форм. Там, где мы сталкиваемся с народом, мы сталкиваемся либо с государством, либо с цивилизацией, либо с религией. При этом вполне может быть, что, проявляясь через государство, народ одновременно может создавать или принимать извне высокодифференцированную религию и создавать свою цивилизацию. Или наоборот: не создавая полноценной государственности, народ может выразить себя только через религию или только через цивилизацию. В некоторых случаях народ одновременно создает государство, принимает религию и развертывает особую цивилизацию. В других случаях, начиная с религии, он создает государство и цивилизацию. В третьих, начиная с государства, конституирует религию и цивилизацию. В четвертых, начиная с цивилизации, далее рождает религию и государство. Исторически мы можем зафиксировать все возможные варианты. А в некоторых ситуациях эта последовательность может повторяться циклами и не по одному разу. Поэтому в самой общей форме можно соотнести народ сразу со всеми этими формами — государством, религией и цивилизацией как имманентными возможностями народа как этносоциологического явления. Как минимум одна из этих возможностей в каждый конкретный исторический момент обязательно должна реализоваться, а другие могут существовать латентно.
Поэтому мы можем сделать следующий вывод: только там, где есть государство и/или религия, и/или цивилизация, там есть народ. О наличии народа нельзя говорить, если не соблюдается хотя бы одно из этих условий. Верно и обратное: если есть государство и/или религия и/или цивилизация, за ними обязательно присутствует народ как особая этносоциологическая категория, которую остается только обнаружить и описать.
Социологические версии типа героя
Герой является главным социологическим типом, «базовой персональностью» народа518. Народ типизирует в этой фигуре самого себя. В зависимости от того, какую форму принимает народ, меняется и конкретизация героя.
В государстве тип героя воплощается в фигуре царя, вождя, короля, князя, и шире, богатыря воина, военной элиты. Индивидуальной персонификацией героя является царь; коллективной — воинская элита.
Так как творение государства народом является самым распространенным и часто встречающимся историческим явлением, фигура царя представляет собой самый привычный и самый распространенный случай социологического воплощения героизма. Царь, князь представляет собой личность, синонимичную самому народу. Поэтому сплошь и рядом в исторических хрониках и даже в современной политической журналистике используется метонимическое представление народа личностью его царя, вождя, президента и т. д.
Правящая элита, княжеский дом, а также дружина мыслятся как продолжение царя, коллективный герой. Они также выступают как носители подчеркнуто героического типа.
Фигуры героя и воина почти всегда тождественны. Поэтому в большинстве случаев цари являются военачальниками и возглавляют армии, дружины. Исторически основателями большинства царских династий являются предводители военных отрядов, полководцы, т. е. воины и вожди воинов.
Соответственно с этим в государствах структурируется все общество: воинские заслуги и добродетели считаются нормативными.
В религии фигура героя проявляется через особое явление — профетизм, «пророчествование». Тип пророка является весьма специфическим и качественно отличается от жреческих (шаманских у архаических народов) функций519. Пророк имеет дело с трансцендентным божеством, которое находится в «бесконечном» отдалении от общества людей и мира. Поэтому он представляет собой носителя дифференцирующего начала. Пророк свидетельствует о далеком, о цели, о том, что должно быть, о моральном и нравственном измерении. Он не лечит мир и общество, подобно шаману, он указывает на глубокую рану, открывшуюся в мире. И интерпретирует ее как след, указывающий на существование грозного и нелицеприятного божественного начала. Пророк вещает о «далеком Боге» и от имени «далекого Бога». Это не один из родных «богов» племени, это всемогущий царь, с которым верующих должны связывать не узы родства и свойства, а узы подчинения и послушания. На религиозном уровне пророк воспроизводит переход к политической системе властных отношений вдоль оси Господин-Раб, который в целом характеризует фазу перехода от этноса к народу.
Пророк, как и воин, является фигурой войны, но не мира. Он описывает горизонт финальной победы как задание, отнесенное к области морального долга. В настоящем же он указывает на несовершенство мира и общества и призывает «исправить пути Господни».
В цивилизации роль героя выполняет философ, мудрец. Он выступает как индивидуум, соотносящий между собой различные формы расколотых ансамблей, сводит к единству логоса множественность феноменов окружающего мира. Но это сведение к логосу не есть восстановление гармонии, но лишь проект такого восстановления. Логос, вокруг которого строится цивилизация, — интеллектуальный императив, который требуется постичь и воплотить в жизнь. Это не данность бытия, которая, напротив, состоит сплошь из осколков; это задание осуществить насильственную переделку мира, что осуществляется чаще всего с помощью техники (в широком понимании). И первичная техника, с которой оперирует цивилизация, — это философская техника. Философ — герой, потому что он идет в неизведанное. Он бросает вызов устойчивым системам мышления, ставит под сомнение этноинтенциональность и разрабатывает новые горизонты дуальных расколотых онтологий, где миры причин, образцов и целей противостоят мирам следствий и копий. В этой дистанции между тем, каким мир должен быть, и тем, каким он является, философ пребывает в постоянном противоречии, которое составляет импульс его бытия и структуру его деятельности. Философ делает мир проблематичным, тематизирует его, ставит под вопрос. Тем самым он нарушает привычные воззрения этноцентрума и открывает повсюду, в самых простых, на первый взгляд, вещах, «другую» сторону.
Философ так же, как воин и пророк, устанавливает иерархизированную симметрию по вертикальной оси власти. Сверху он полагает единое, образец, Логос, а снизу — множественность, копии, сами вещи. В этом смысле философия изначально и с необходимостью политична.

Схема 21. Народ и три порождаемых им формы
Традиционное государство: миссия и насилие
То государство, которое создает народ, вступая в историю, является в обычном случае традиционным государством. Прилагательное «традиционный» указывает на то, что мы имеем дело с социокультурной моделью, относящейся к традиционному обществу. В социологии «традиционному обществу» противопоставляется общество современное, общество Модерна. Поэтому к традиционному государству мы относим те государства, которые существуют в условиях Премодерна.
Традиционное государство отличается следующими основополагающими чертами:
– оно вертикально организовано вдоль властной оси;
– в нем четко выделены социальные страты — элиты и массы, высшие и низшие, «господа» и «рабы»;
– социальное неравенство может быть оформлено в кастовом (неизменная родовая принадлежность) и сословном (родовая принадлежность в сочетании с возможностью повысить статус на основании личных заслуг) строе;
– у государства есть интеграционная миссия;
– государство обладает диспозитивом насилия, которое легитимно применяется как вовне, так и внутри.
Традиционное государство стремится установить порядок там, где его нет или его недостаточно (или же он не опознает то, что есть, как «порядок»). Этим определяется его основная функция. Государство интегрирует расколотое социальное и географическое пространство, утверждает определенную модель властно-экономических отношений и сохраняет ее.
Все исторически известные государства были созданы воинами и возникли в процессе войн. Царь как вершина властной иерархии — это воин-победитель или потомок воина-победителя. Стихия войны и победы является определяющей для легитимации власти элит в государстве. Государства создаются через войну и охраняются через поддержание и наращивание диспозитива насилия (армии, полиции и т. д.)
В государстве с необходимостью мы имеем тех, кто правит и главенствует, и тех, кто подчиняется и платит дань. Низы так же необходимы государству, как и верхи.
Государство, феномен города и рождение демоса
Государство обязательно имеет стратегический центр. Он может быть постоянным или подвижным, но в любом случае этот центр представляет собой в первую очередь воинскую ставку, место пребывания царя, князя и его дружины. Именно эта социологическая функция лежит в основании древнейших городов. Смысл города в том, чтобы быть центром власти и местом пребывания царя. Это характерно как для городов-государств, так и для государств-территорий. В случае кочевых государств этим центром может служить передвижной лагерь царя. Но т. к., согласно теории «суперпозиции», практически все государства так или иначе основаны подвижными агрессивными воинскими элитами кочевников, то следует рассматривать феномен города как развитие или фиксацию подвижного лагеря кочевого подвижного войска. Город — это стан, стоянка, место, откуда воины совершают набеги и где они защищаются от врагов. Туда же стекаются из окрестных территорий ресурсы, необходимые воинам для поддержания жизни и ведения войны.
Города не являются расширенными селами или деревнями, с преобладающим крестьянским населением. Деревни интегрируются в города по мере их роста, а собственно города создаются по совершенно иной логике — как автономные военно-политические центры, расположенные в стратегических точках, удобных для обороны или нападения. Город как феномен является выражением социологии войны.
В этой функции города следует рассматривать как типичный признак именно народа, причем чаще всего народа, создающего и укрепляющего государство.
Таким образом, в контексте деревень и поселений города обладают совершенно особым статусом с социологической точки зрения. Город создается вокруг военного мужского союза, возглавляемого вождем или царем. Вокруг себя воинская дружина развертывает подсобную социальную группу, представляющую собой совершенно новый (в сравнении с этносом) социологический феномен. Это социальная группа, представляющая собой обслугу воинов. Как правило, обслуга состояла из рабов — либо взятых в плен после разгрома противника, либо забранных силой или как-то иначе из аграрных сельских этнических обществ. Эта социальная группа «обслуги» имеет исключительно важное значение, т. к. представляет собой зародыш особого социологического и исторического явления — жителей города, горожан. Горожан греки называли «демосом» («δῆµος»), что можно перевести как «население». В Древней Руси в этом же значении использовался термин «городские концы».
Демос возникает вместе с городами, государством и народом как его уникальный социологический субпродукт. «Демос» не относится ни к этносу (т. к. его представители вырваны из этнической среды), ни к аристократии в структуре «лаоса». Это совершенно особое явление, все значение которого для этносоциологии мы увидим позднее, при рассмотрении явления нации и роли в этом «третьего сословия».
§ 3. Государство как типичное творение народа
Распознать народ за государством
Государства являются самыми типичными выражениями народа в истории. Чаще всего, проявляясь, народ создает именно государство, традиционное государство. Это настолько общее явление, что многие историки и социологи рассматривают государство как самостоятельное и автономное историко-социологическое явление. В большинстве исторических реконструкций народ полностью скрывается за фасадом государства, оказывается неразличимым. Лишь этносоциологический подход помогает нам выделить пласт лаоса в общей структуре государства, описать его этнические и социологические особенности и заметить, что в некоторых случаях народ может проявляться и вне государственных форм. Поэтому одна из важнейших задач этносоциологии состоит в умении выявить в государстве народ, отделить одно от другого и рассмотреть их взаимные структуры, сравнить их в том, что между ними есть общего, и определить, что является их особенными признаками.
Приведем несколько примеров оседлых государств, известных нам из истории. Признак оседлости показывает нам, что мы имеем дело с устоявшейся структурой народа, в которой кочевые пришельцы, образовавшие в момент появления народа высшее сословие, прочно осели в городских центрах, являющихся столицами всей социально-политической системы или региональными форпостами власти. Отметим также те случаи, когда государственность сочетается с наличием религии и цивилизации.
Египетское царство
Ярким примером строго иерархизированного древнего государства, сочетающего в себе как особую религиозную форму, так и развитую цивилизацию, является Египетское царство520. Создание его относится к концу VI тысячелетия до н. э., т. е. ко времени политического объединения Верхнего и Нижнего Египта под властью первых фараонов. Фараоны мыслились египтянами как «другие», т. е. «боги», существа неизмеримо более высокой природы, чем обычные жители. Фараоны были военными предводителями и практически всегда, за редким исключением, проводили жизнь в постоянных сражениях. Показательно, что «инаковость» фараонов заходила настолько далеко, что в случае фараонов не только допускались, но и предписывались инцестуозные браки, категорически запрещенные во всех остальных средах у египтян. В этом проявлялось стремление сохранить «инаковость» крови фараонов от смешения с другими слоями и подчеркнуть тот «противотип», на котором основывались древнейшие структуры народа, разделенного жесткой чертой на высших и низших — столь же жесткой, что и черта, отделяющая данный народ от другого, соседнего.
Египетское царство просуществовало в течение трех тысячелетий, в которых несколько устойчивых режимов чередовались с периодами относительной нестабильности, известными как переходные периоды. Своего высшего расцвета Древний Египет достиг во времена Нового царства, после которого начался постепенный закат.
Государство, религия и цивилизация египтян представляли собой три вариации одной и той же общей иерархической структуры, проявляющейся в политических институтах власти и территориальной организации государственного пространства, в развитой религиозной системе политеистического толка и в особом цивилизационном типе, повлиявшим на общества, находящиеся и вне территории Древнего Египта.
Древние египтяне были именно народом. Официальной версией языка, имевшего разные периоды письменной истории — от линейного преддинастического письма до иероглифического письма — было египетское «койне», тогда как параллельно развивались и диалекты, и отдельные языки, присущие этническим меньшинствам, особенно распространенным на территории Верхнего Египта (полиглоссия). В кастовом дуализме родов фараонов (а одно время правящей династии новых кочевников — гиксосов) и местного населения мы видим след фундаментального этнического дуализма. Наличие рабов в египетском обществе подчеркивает его высокодифференцированный характер и напрямую связано с развитием техники. При этом рабы, вопреки расхожим представлениям, не играли, как показывают работы современных историков, решающей роли в экономике Древнего Египта, и подавляющее большинство продуктов создавалось относительно автономным крестьянским населением, обремененным необходимостью снабжать продуктами питания фараона, знать и многочисленных жрецов.
Вавилоно-аккадское царство
Другим примером древнейшего государства, также со своей собственной религиозной системой и цивилизационными особенностями, было Вавилоно-аккадское царство521.
Шумеры были пришельцами в Междуречье с таинственного «острова» (Дильмун), о котором речь идет в преданиях. Скорее всего, это было кочевое воинственное племя, покорившее еще более древние пласты автохтонного населения. Шумеры основали один из самых древних городов — Эриду — на Юге Междуречья.
Позднее пришедшие аморейцы были семитским племенем, приплывшим с Запада (Ам-уру — народ Запада).
В шумерскую эпоху этнодуализм знати и простолюдинов различим с трудом. А после завоевания Шумера аморейцами новая волна воинственных пришельцев стала политической элитой, тогда как массы, по всей видимости, оставались шумерскими. Аморейцы принесли с собой аморейский язык, который стал койне в аккадский период. При этом сохранилась полиглоссия малых этнических групп. Смена койне с шумерского на аккадский видоизменила клинопись, но определенные шумерские моменты сохранились.
Религиозная система древних шумеров отличалась от египетской и представляла собой развитую космологонию и теологическую конструкцию, где боги рассматривались как глобальные архетипы, по образцам которых устроены космос, общество, государство.
Показательно, что в Шумере было составлено древнейшее произведение эпического толка — «Предание о Гильгамеше». Царь Гильгамеш является фигурой типичного героя, который сталкивается с расколотостью мира и совершает подвиги в целях преодоления травмы бытия. Эпос как таковой является ярким признаком именно народа как этносоциологической формы общества.
Элам
Древнейшим государством, распложенным к Востоку от Междуречья, был Элам со столицей Сузы522. Государство Элам было самостоятельным и оригинальным политическим образованием, но с религиозной и цивилизационной точек зрения на него в значительной степени повлияла культура Шумера.
Язык эламитов был своеобразным, и о его принадлежности к той или иной семье языков ведутся споры. Политическую независимость Элам неоднократно терял и отвоевывал вновь. Несколько раз менялся и этнос правящих элит.
Элита эламитских царей практиковала инцестуальные браки (по причинам, аналогичным египетским фараонам) и левират (женитьба брата на жене другого брата в случае его смерти). Религия Элама была близка к шумерской. Сходными с шумерскими были также культовые сооружения — зиккураты.
В случае Элама мы имеем развитое государство, но с цивилизационной и религиозной точки зрения, вероятно, Элам следует отнести к культуре Междуречья.
Персидское царство
История древнего Ирана дает нам еще более наглядную иллюстрацию алгоритма возникновения государств523.
Воинственные кочевые скотоводы арии, некогда родственные протоведийским ариям, вторгаются в Северный Иран и там оседают. Очевидно, эти территории были заселены оседлыми этносами в течение нескольких тысячелетий до Рождества Христова, и пришедшие из евразийских степей индоевропейские кочевники становились правящей стратой более древних оседлых этносов.
В VIII в. до нашей эры создается Мидийское царство, когда мидийские воины подчиняют себя Персию вплоть до Элама. Позже власть в Мидийском царстве захватывает другое племя, персы.
Волна за волной кочевники Великой Степи спускаются на юг, на территорию современного Ирана, и организуют там иерархизированное политическое пространство. Новая волна пришельцев вытесняет предыдущую в функции «руководящего этноса». Персы захватывают Элам. Позже присоединяют ослабевшую Ассирийскую державу.
Различные индоевропейские кочевые этносы — киммерийцы, мидийцы, эфталиты, аланы, парфяне, сарматы, белуджи, персы и т. д. — были носителями специфической воинской культуры с ярко выраженной патриархально-скотоводческой ориентацией. Эти этносы по своему внутреннему устройству были отлично приспособлены для создания политических структур и дифференцированных обществ, т. е. государств, которые возникали всякий раз, когда кочевники подчиняли себе достаточные территории, населенные оседлыми земледельцами, способными обеспечить им материальную поддержку и необходимые жизненные ресурсы. Такие политические зоны возникали по обе стороны Великой Степи — к Северу (в области, заселенной изначально финно-уграми, а позднее славянами и балтами) и к Югу (от Монголии до прикаспийской зоны и Анатолии).
Накладываясь на аграрные общества, арийские кочевники Евразии создавали дифференцированные религиозные системы, ярким примером которых является иранский маздеизм и зороастризм.
Персидское царство стало примером такого «арийского государства» (название «Иран» происходит от выражения «арий», как называла себя аристократия этих кочевых племен) — с оригинальной религиозной системой и специфической цивилизацией, вобравшей в себя определенные стороны автохтонной культуры, а также культуры Элама и Междуречья.
Показательно, что в Древнем Иране соблюдение этнической «чистоты» правящей страты было возведено в религиозный и социокультурный принцип, а дуализм стал основой и политической системы, и религиозного мировоззрения. Иранская культура довела дуализм до крайних форм, противопоставив «светлого бога» (Ахура-Мазда) «Темному» (Агно-манью)524. При этом сами «арии» как аристократия отделяли себя от низших слоев вплоть до сакрального предписания инцестуальных браков (сохранение «святой крови»). В области сакральной географии иранцы противопоставляли Иран, «страну ариев» и область «бога Ахура-Мазда», Турану — зонам, населенными кочевыми этносами Великой Степи. Туран считался областью темного бога «Ангро-Манью». Здесь мы видим радикальные формы народа: жесткое разделение на «этих» и «других» внутри государства и вне его. Этот дуализм простирался и на сферу религии.
В случае Ирана мы имеем образец героической культуры. Цари и падишахи Ирана выражают собой тип героя-воина. Заратустра — архетипический образ пророка, который реформирует архаическую религию в соответствии с новыми социокультурными установками лаоса. Совокупность культурных особенностей порождает совершенно специфическую иранскую цивилизацию, чье влияние распространяется и на Грецию, и на Индию, и на Великую Степь вплоть до Тибета, и на северные районы Евразии, где в архаическом фольклоре финно-угров и славян часто встречаются типично иранские мотивы, сюжеты и символы. Лев Гумилев полагал, что истоки тибетской религии бон-По следует искать в иранском митраизме525.
Рим
Рим давно стал обобщающим символом империи, т. е. традиционного государства максимального масштаба.
В его истории мы встречаем все классические атрибуты становления народа (лаоса). По легенде, Рим основывается выходцами из Трои, сопровождавшими героя Энея. У Энея и его спутников нет жен (женщины Трои остались на Сицилии). И они получают их от местного этноса, управляемого королем Латинусом. История с похищениями воинами Ромула сабинянок описывает архетипический сюжет нехватки женщин у этноса мужского агрессивного воинского типа («пришельцы», «кочевники моря»), и столкновение с автохтонным оседлым и аграрным населением (сабинянами Тита Татия). Битва пришельцев и автохтонов решается, по легенде, женами римлян, бросившимися в толпу сражающихся мужей, отцов и братьев и остановившими битву. Отсюда берет начало история народа Рима, названного «квиритами» (от имени бога тациев — Квирина). Народ Рима изначально состоял из четко разделяемых двух слоев — потомки Ромула (высшие касты) и потомки Тита Татия, т. е. сабинян, автохтонов. Жорж Дюмезиль считает, что трем сословиям древнеримского общества соответствовали три бога — Юпитер (жрецы), Марс (воины), Квирин (крестьяне)526. Можно предположить, что фигуры Юпитера и Марса принесены или переосмыслены «потомками Ромула», тогда как Квирин (и это доказано) являлся автохтонным богом местного населения Лации, сабинян.
Стиль Римского государства выковывается на основании чисто воинской этики и представляет собой образец высокоразвитого и чрезвычайно удачного в историческом смысле героического общества.
В Риме доминирует архетип героя-воина, воплощенного как в личности Цезаря, так и в самой аристократии. Более того, этот архетип распространялся на всех воинов римских когорт, которые получали возможность через соучастие в героической практике войны повысить свое социальное положение.
Религия Рима была довольно синкретичной и открытой внешним влияниям, среди которых решающее оказала греческая религия. Римская цивилизация также строилась вокруг политического принципа Империи. И в этом вопросе влияние Греции было огромно. Уникальность Рима состояла в том, что в нем проявилась универсальность политического принципа государства, доведенного до своего апогея.
Латынь была в Римской империей койне. После завоевания Греции греческий язык стал вторым койне Империи. Кроме того, на территории Римской Империи жили сотни этносов со своими языками, и даже несколько народов (лаосов) с яркой религиозной идентичностью (евреи) и полуавтономной государственностью. Римская империя стала образцом мирового государства, которое объединяло в себе самые разные типы обществ — от самых архаических до высокодифференцированных и обладающих своей государственностью, религией и культурой (Греция, Египет, Финикия и т. д.).
Пример Рима показывает, насколько универсальным при определенных обстоятельствах может стать принцип народа, сделавшего своей миссией интеграцию всего человечества и включение в зону порядка всего того, что виделось римлянам как находящееся вне этой зоны.
Поэтому в эпоху Древнего Рима именно государство было той осью, вокруг которого шла кристаллизация римского народа, который настолько широко реализовал заложенные в народе социологические вектора, что полностью слился с политико-социальным выражением. Рим показывает нам пример того, как народ полностью и практически без остатка стал государством, отождествился с ним.
Принятие в IV в. нашей эры христианства поставило точку в этом триумфальном пути римского героизма и придало Империи унитарное и универсальное религиозное измерение.
Скифские царства
Перечислим государства кочевого типа, оставившие гораздо меньше памятников и хроник, но сыгравших в политической истории и лаогенезе многих исторических народов ничуть не меньшую роль. Более того, именно кочевые государства были закваской всех остальных исторических форм государственности. Воинские мужские дружины героического типа и создали, накладываясь на оседлые культуры, практически все известные нам государства.
Скифы не создали единой интегрированной империи, но тем не менее именно их кочевые государства политически объединяли обширные зоны Причерноморья, Каспия и Южной Сибири. Фрагменты, дошедшие до нас от скифской культуры, позволяют установить, что скифы знали трехчленную иерархию, общую для большинства индоевропейских народов, где были четко выделены жреческая, воинская и крестьянская касты. При этом те, кого греки относили к скифам-землепашцам, скорее всего, были оседлыми этносами иного происхождения. Так, академик Рыбаков считает, что в Междуречье Дона и Днепра в состав скифского общества входили древние славяне, относимые к скифам-пахарям527.
Вероятно, скифские царства с центром в степных просторах и с ядром из самих воинов-кочевников, от которых сохранились выразительные предметы звериного стиля и курганные захоронения, установили контроль и над лесостепной зоной, а также рядом плодородных земель в прикаспийском регионе, где располагались зоны расселения оседлых аграрных этносов. Нельзя исключить, что под воздействием степных кочевых государств мотыжное земледелие уступило место использованию плуга и коня. Таким образом, скифы вполне могут рассматриваться как древнейший народ (лаос) Евразии.
Гуннская империя
В II–IV вв. Степь объединяется под началом гуннских племен, состоящих из монголов, маньчжуров, финно-угров и тюрок, которые создают гигантскую кочевую империю, просторы которой доходят до Паннонии и Трансильвании528. В V в. король гуннов Атилла едва не завоевывает Западную Римскую Империю.
Гунны представляют собой кочевой скотоводческий народ полиэтнического происхождения, организованный как единая армия с четкой политической иерархией и дисциплиной.
Гуннская империя интегрирует степные зоны Евразии, захватывая с Юга и Севера также аграрные регионы.
Юэчжи и тохары
С гуннами враждовали (и довольно успешно) представители индоевропейского народа юэчжей и тохаров, которые интегрировали огромные территории от Бактрии и Амударьи до Тарима на Северо-Западе Китая (современный Синцзянь)529. Тохары осели в Синьцзяне и создали там особую культуру. Позже эту территорию захватили тюрки-уйгуры, смешавшиеся с местным тохарчским населением, скорее всего, наложившимся на еще более архаические пласты автохтонов.
Потомки юэчжей кушаны создали Кушанское царство.
Тюркский каганат и Хазария
В VI в. Великая Степь объединяется под властью тюркютов, основавших тюркскую империю, известную как «Голубая Орда». Власть тюрок простиралась от Алтая, где берет начало их политическая история, и до Волги530.
Основной вектор истории тюркютов, как и большинства других кочевых империй, развертывался вокруг битв с окружающими кочевыми народами, которые либо уступали свои территории, либо интегрировались в «Голубую Орду». Все это содействовало активному этническому смешению, в ходе которого проходил интенсивный языковый, культурный и социальный обмен. Образовывались и исчезали новые этнические группы.
В VII в. тюркский каганат сменяется Хазарским, в котором функцию элиты выполняют тюркские этносы, а название «хазары» восходит к оседлым этносам Прикаспийского региона индоевропейского происхождения. С их подчинения и ассимиляции начинается история хазар как тюркоговорящего народа. Хазары создают мощную степную Империю, отличительным признаком которой является политически фиксированный центр (город Итиль), расположенный в окружении плодородных земель, что заведомо предопределило ярко выраженный дуальный характер хазарской государственности: воинско-кочевая элита, наложенная на более древнюю и развитую технически земледельческую культуру. От вышедших из Ирана иудеев хазары приняли иудаизм, который стал религией хазарской знати, этнически тюркской.
Хазары так же, как и гунны, скифы, юэчжи, тюркюты и т. д., бились с другими кочевыми племенами и устанавливали контроль над аграрными районами Севера Евразии. Так, по одной из версий, Киев был заложен хазарами как центр для сбора дани. Хазарам в IX в. платили дань вятичи и ряд других восточнославянских племен. Хазар окончательно разгромили русские князья в X в.
Начиная с «Голубой Орды», тюрки становятся одним из важнейших этнических элементов, выступающих на каждом следующем этапе появления в Степи полиэтнических народов, интегрирующих или пытающихся интегрировать Степь в единую политическую систему.
Монголы Чингисхана
Монголы Чингисхана стали народом, которым удалось на некоторый срок исторически воплотить в жизнь план строительства мировой империи, сопоставимой лишь с Римом, а по объему интегрированных территорий превосходящей его.
Чингисхан реорганизовал маленькое монгольское племя, тяготеющее к гомеостазу с окружающей средой, т. е. к существованию в условиях этноцентрума, в военный отряд и начал серию завоеваний, которые стремительно привели его к господству над гигантскими просторами Евразии531.
Чингисхан создал новый евразийский народ по простейшему принципу народа-армии, куда кроме монголов свободно вливались пассионарные героические типы всех окружающих этносов. Монголы исповедовали различные религии (христианство, несторианство, буддизм, шаманизм и т. д.), но ни религия, ни цивилизация не стали доминантной их лаогенеза: Чингисхан сосредоточился только и исключительно на построении мировой империи. И это ему удалось.
Войска Чингисхана покорили Монголию, Манчжурию, Китай, Среднюю Азию, Иран, половецкие степи и территории древнерусских княжеств. Практически вся Северо-Восточная Евразия оказалась под властью его империи.
Как и в случае Рима, монголы стремительно сложились в народ и параллельно полностью отождествились с социально-политической системой империи. Они положили начало новой монгольской династии в целом ряде древнейших государств — Китае, Иране и т. д., составив костяк «новой аристократии». При жизни Чингисхана монголы еще составляли этническое ядро нового народа, но вскоре после его смерти политическая стратификация в каждой из частей империи, разделенной Чингисханом между его потомками, стала главной формой самоидентификации монголов как правящего класса, смешиваясь с воинской знатью и пассионариями других этносов.
Если Рим представляет собой исторический максимум имперостроительства на Западе евразийского континента, то империя Чингисхана является симметричным образованием на Востоке Евразии.
§ 4. Религия как этносоциологический феномен
Религиозность этноса и религиозность народа
Религия, обладающая (более или менее) развитой трансцендентной теологией, является характерной чертой народа.
Этноцентрум знает сакральное и нуминозное, которое является основным свойством его самого. В этносе высшей формой святости является он сам, его замкнутость на самого себя, его автореферентность, его самотождество. Священное — это то же самое, и радостное, и головокружительное, и ужасающее одновременно переживание имманентности всего всему. Духи, боги, звери, люди, предки, души, тени, камни и т. д. — все они священны практически в равной степени, составляя непрерывную и постоянную вереницу святости, где ничто не выделено более, чем другое. И если в этноцентрум попадает предмет извне, он сакрализируется, становится святым, наделяется новым священным смыслом.
Религиозность этноса является имманентной. Религия, характерная для народа, наоборот, строится вокруг измерения трансцендентности. Можно сказать, что типичное свойство этноса — религиозность (как нуминозность, всесакральность), а типичное свойство народа — религия (как конструкция, основанная на трансцендентности). Термин «религия» происходит от латинского слова «re-ligare», т. е. «связывать», точнее, «снова связывать». В этносе все и так связано, поэтому, строго говоря, связывать там нечего, надо лишь поддерживать связанность в ее актуальном состоянии. Поэтому мы говорим о религиозности, сакральности, магичности и мистичности (Л. Леви-Брюль) этнического сознания. Религия как таковая, т. е. необходимость «связать расколотое», начинается лишь с народом как с обществом, в центре которого как раз стоит «разрыв», «разделение», «травма», нуждающиеся в «восстановлении», в «связывании» разделенных частей.
Религия делит мир на две части — на «посюстороннее» и «потустороннее», на «временное» и «вечное» и т. д. В религии принципиально трансцендентное измерение, представление о «мире ином». Это дистанция, отделяющая «одно» от «другого».
Жрец и его функции
В центре религии в чистом виде изначально стоит пророк. Эта фигура, которая воплощает в себе дистанцию между «тем» и «этим»532. В отличие от шамана, который есть воплощение сакральности всего и главная фигура, поддерживающая эту сакральность, пророк прочерчивает и хранит границы, свидетельствует о несовпадении мира и Бога, человеческого и Божественного. Именно пророк как выражение героя в религии несет на себе двоякую миссию — указать на наличие дистанции и найти путь, как ее преодолеть.
Дуальность пророка и шамана воплощают в себе принципиальное различие между религией и религиозностью и, соответственно, между народом и этносом. Однако исторически только в очень редких случаях этот дуализм выдерживается в полной мере. Так как в народе присутствуют одновременно и народное и этническое измерения, то сфера религии и религиозности часто смешиваются между собой. Так возникает особая синтетическая фигура — фигура жреца. Пророк, как правило, считается основателем религии, ее первооткрывателем, установителем первых нормативов и составителем первых религиозных предписаний. Далее религия переходит в ведение жрецов, которые призваны поддерживать дистанцию между «трансцендентным» и «имманентным», выступать как блюстители именно религии и ее теологических установок. Но это не всегда выполняется. Сплошь и рядом жреческие функции принимают характер шаманизма. Акцент начинает падать не на дистанцию и способы ее преодоления, но на всеобщую сакральность мира, на поддержание «нуминозности». Так происходит постепенная и незаметная трансформация религии в религиозность, жречество функционально сдвигается к роли шаманства, поддерживающего гармонию мира и сглаживающую неизлечимую рану, на которой основывается бытие народа и собственно религия как знание «трансцендентного». Но пророческие принципы также сохраняются в религии, поэтому жречество все равно принципиально отличается от шаманства — и догматически, и стилистически, и формально.
Поэтому, сталкиваясь с явлением жречества в разных обществах, этносоциолог должен очень внимательно анализировать каждый конкретный случай, поскольку сам институт жречества может быть выражением пророческой цепи, а может быть завуалированным шаманизмом. В большинстве случаев он представляет и то и другое одновременно, и различия типов следует искать в более конкретных ситуациях и контекстах533.
Структура религиозного времени
Религия имеет свою четкую форму времени534. Это время определяет настоящее как «зло», «отклонение от нормы», ситуацию «грехопадения». В будущем же предполагается только еще большие испытания и катастрофы, корректируемые эпизодическими периодами относительного улучшения, связанными с деятельностью религиозных подвижников или новых пророков.
Прошлое мыслится как «рай», «золотой век», период для «подражания». Время, таким образом, течет вниз. Совершенный гармоничный мир принадлежит святой старине. В настоящем — упадок и страдание, а впереди — еще большие трагедии.
Времени, текущему вниз, религия противопоставляет альтернативный путь, который может быть назван «вертикальным путем», «путем, ведущим вверх». Этот вектор противостоит инерции времени, стремится изменить его течение. В результате возникает особое время — время спасения, сотериологическое время или мессианское время.
Мир движется к концу по нисходящей. Верующие же люди должны двигаться вопреки времени, по оси «иного времени», которое течет перпендикулярно времени обычному или против него. Таким образом, параллельно времени как регрессу (общее свойство мира как такового) религия утверждает еще одно героическое измерение, которое проецируется на особое будущее и составляет сферу религиозной эсхатологии (от греческого «εσχατον», «конец»).
Эсхатология есть отличительная черта времени в обществе народа (лаоса). В ней проявляется характерное свойство народа — проект, воля, бросок в будущее, диалог с силами судьбы. В будущем религиозное время видит развязку борьбы героя со злом. Эта развязка есть конец, «эсхатон». Этот конец будет представлять собой предельную концентрацию «мирового зла», с которым лицом к лицу столкнется «последний спаситель», «мессия» и верные ему героические последователи религии. К эсхатологической развязке религиозного времени и направлено бытие народа как религиозно-мессианской общины. Собственно говоря, эсхатологическая перспектива и идея регресса и составляет смысл «священной истории», а также истории как таковой, поскольку вся история народа священна. Но эта священность состоит не в том, что народ переживает себя как божество (как это происходит в случае этноса), но в том, что народ стремится осуществить в своем бытии героическое действие по самопреодолению, по излечению раскола «трансцендентного», по осуществлению «реставрации бытия», в чем и состоит смысл исторического процесса. В эсхатологическую эпоху совершится финальная битва и всеобщее воскресение мертвых как конец истории, Страшный Суд, спасение и последний аккорд бытия народа.
Такое сотериологическое время лежит в основе религиозного культа535. Религия учреждает культ как способность актуализировать «трансцендентное» измерение внутри мира, как особые, исключительные условия. То, что невозможно для мира как такового, возможно для религии и ее институтов. Но эта возможность не гарантирует автоматического «спасения». Верующий должен предпринять героическое усилие, чтобы его стяжать. Религия показывает путь, но идти по нему каждый должен самостоятельно. Поэтому в основе религии заложено личностное героическое начало. Она требует высокой дифференциации — в постижении религиозных доктрин, в воспитании воли, в преодолении реально существующих условий и ограничений, довлеющих над человеком. Поэтому религия, хотя и обращена ко всем, все равно остается делом элиты. Для постижения ее нормативов, для приведения своей жизни в соответствии с ее этикой, для усвоения религиозных догм и правил необходимо радикально выйти за границы обыденного (этнического) существования, обнаружить «еще один мир» за пределом видимого и данного непосредственно.
В силу такой структуры религии и религиозного времени она, будучи примененной к народу (лаосу) в целом, с необходимостью расщепляется на два полюса: на религию масс и религию элит. Эти религии могут различаться по формальным признакам, а могут выглядеть как нечто тождественное. Даже если религия масс не будет выделена каким-то особым образом, в ней будет преобладать этническая религиозность, а жречество будет тяготеть к сближению с шаманством. Религия как таковая, со всем ее теологическим и трансценденталистским багажом будет, напротив, концентрироваться в элитах, где ее теологические и героические аспекты будут особенно уместны.
Поэтому в народе как в слоеном обществе мы можем столкнуться одновременно с двумя формами времени: с замкнутым циклизмом «вечного возвращения» (религиозное время масс) и с трагической парой мирового регресса и личностного героического, противостоящему ему сотериологического и мессианского прогресса (религиозные времена элиты) 536.
Примеры религий
Наиболее ярко все перечисленные черты проявляются в мировых религиях монотеистического типа, хотя их можно встретить и в политеистических религиях, особенно в дуалистическим иранском маздеизме и зороастризме. Но монотеизм — иудаизм, христианство и ислам — представляют эти тенденции в чистом виде. Монотеизм более, чем иные формы религии, акцентирует «трансцендентность» Бога, его отличие от мира. Бог творит мир как «другое», нежели Он сам. В этом вся острота монотеистической теологии. И это же является ярким признаком народа как этносоциологического явления.
Рассмотрим с точки зрения этносоциологии несколько версий монотеистических религий.
Иудаизм
Начнем с иудаизма. Древние евреи стали народом, который сформировался исключительно вокруг религиозной идеи537. В еврейской истории были различные государства, которые возникали и исчезали, а были периоды существования без государства. Но всегда, на любом этапе евреи были именно народом: высокодифференцированным полиэтническим обществом, устойчивым, активным и подвижным, сплотившимся вокруг религии и религиозной формы.
В иудаизме мы встречаем все характерные черты религии:
– трансцендентализм Единого Бога;
– идею творения из ничто;
– радикальный дуализм Творца и твари (миром);
– детализированную теологию;
– центральную роль пророков;
– драматизм морального выбора;
– этику героического преодоления обычных условий существования;
– идею священной истории, текущей от рая к «последним временам»;
– надежду на мессианское восстановление к концу мира, противостояние времени;
– острое осознание противоположности общины верующих всем остальным окружающим народам;
– предельную агрессивность и крайнюю жертвенность.
Показательно, что в иудаизме центральным понятием является «ам хакадош», «священный народ», т. е. сами евреи: они мыслятся радикально отличными от других народов и этносов тем, что только они знают о той дистанции, которая отделяет мир от его Творца.
Иудейская религия сформировалась вместе с еврейским народом, история евреев и история иудаизма тождественны. Евреи жили среди других народов, смешивались с другими этносами, в определенные периоды создавали государственность с монархическим правлением, отправлялись в рассеяние и в плен, и снова собирались в Палестине, но всегда осознавали себя носителями особой религиозной миссии, отождествляя свою собственную историю с историей спасения мира, ожидающего приход «машиаха».
Хотя в истории евреев были периоды полноценной государственности (государство Израиль как «последняя» форма иудейской государственности, согласно религиозному толкованию современных раввинов, существует и в наше время), еврейский народ не может быть тождественен государству, т. к. тысячелетиями сохранял свою идентичность и без него, в условиях рассеяния. При этом, безусловно, имели место многочисленные случаи этнического смешения, но социокультурный тип еврея, выстроенный вокруг идеи «святого народа» и его миссии, сохранялся неизменным.
Евреи, таким образом, являются ярчайшей иллюстрацией того, как народ может веками существовать без государства, не ассимилируясь и не превращаясь в гомеостатический этнос.
Христианство
Христианская религия стала, начиная с IV в. н. э., формой исторического бытия греко-римского мира, включая римские колонии на Ближнем Востоке, создав своего рода «христианский народ», народ эйкумены, простирающийся далеко за пределы Империи ромееев в Европу, на Русь, в Азию и т. д538. Показательно, что христиане называются по-гречески «ἱερός λαός», «иерос лаос», т. е. дословно «святой народ», с использованием термина не «этнос», «генос», «демос», но именно «лаос», т. е. «народ» как особая этносоциологическая категория.
В ядре христианства стояла именно религия монотеистического толка, с развитой теологией, эсхатологией, догматикой, сотериологией и философией истории. Часть своих догматических элементов христианство заимствовала из иудаизма, многие были совершенно оригинальными. В целом же христианство предлагало высокодифференцированную трагическую картину расколотого мира, с бездной, отделяющей человека от Бога, но спасенного благодаря Жертве Сына Божьего.
Христианство предлагало верующим героическую перспективу полного преодоления себя самого, самовозвышения, аскезы, отказа от «мира», мученичества и исповедничества. Христианский космос радикально отличался от этноцентрума: в нем преобладал накал постоянного и жесткого разделения «мира, лежащего во зле», от которого надо бежать, и «царства Небесного», к которому надо стремиться. Соединить это было под силу не человеку, но только Богу, Исусу Христу. Христианин же должен был следовать за Христом по трудной дороге: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом» (по словам Василия Великого).
Все эти свойства христианской религии, христианского мировоззрения способствовали переходу к состоянию народа в случае любого этноса, принявшего христианство. С IV в. христианство становится официальной религией Римской Империи, и народ Империи получает новый импульс к историческому бытию. Кроме того, внутри самой Империи, на ее периферии и на прилежащих к ней территориях стремительно формируются новые народы, чему в немалой степени способствует распространение христианства как религии.
Католичество и Православие
Распад Римской империи на Восточную и Западную реактуализировал существование на новом этапе двух народов — римского (латинского) и греческого (ромейского), с примыкающими к ним этносами-сателлитами. Церковное разделение было связано с историческим выбором пути соотношения христианской религии с историческими вызовами двух народов — Восточных христиан и Западных христиан539.
Латинский мир стал основой западноевропейского народа, который в рамках единого государства (Западно-Римской Империи) просуществовал очень недолго, но сложился в западноевропейскую цивилизацию, скрепленную католической религией — с верховной властью Папы Римского, латинской мессой, целибатом клира и особым социокультурным стилем. Эту общность некоторые европейские философы, в частности, Э. Гуссерль, называли «европейским человечеством». С этносоциологической точки зрения, точнее было бы назвать это явление «европейским лаосом». В формировании этого «европейского лаоса», состоящего, в свою очередь, из нескольких довольно самостоятельных народов, основополагающую роль сыграло католичество.
Совершенно иначе сложилась судьба Восточно-Римской Империи, Византии, где государство просуществовало почти на тысячелетие дольше, чем в Западной Римской Империи. Византия стала формой исторического бытия народа ромеев, который также стал ядром распространения православной религии и центром особой восточно-христианской цивилизации. По византийской модели складывались народы и государства православного ареала — восточные славяне, а также кавказские и ближневосточные общества. Если Западная Европа представляла собой скрепленную католичеством цивилизацию, то Византия была религиозным центром и цивилизацией, но еще и государством. То есть здесь мы видим все три формы бытия народа одновременно.
Русское Православие
Принятие Киевской Русью православия по времени почти совпадает с созданием самого государства и является важнейшим импульсом для возникновения древнерусского народа. Православная религия становится основной государственной идеей и осью официального мировоззрения540. Тем самым укрепляется общая идентичность народа и его государственность. По цивилизационному признаку Древняя Русь относится к зоне византийской цивилизации.
Позже, после падения Константинополя под натиском турок, функции ядра православного мира берет на себя Московская Русь, что выражается в теории «Москвы — Третьего Рима». Русский народ достигает кульминации осознания своего места в истории, воспринимает себя как народ-богоносец, а Русь как Святую Русь, наделенную особой эсхатологической миссией. Само существование независимой православной государственности осознается как признак «избранничества». Идентичность русского народа именно как народа, как исторической общности, доходит до своего апогея.
Протестантизм
Протестантизм стал формой исторического самовыражения немецкого народа, который сложился позже других народов Европы на основе нескольких германских этносов и слабых, зависимых феодальных государств541. Также он оказал большое влияние на появление швейцарской конфедерации, построенной на протестантских основаниях. Но протестантизм представляет собой религиозный феномен, находящийся на границе с Новым временем, когда началось формирование новой формы обществ — нации как второй производной от этноса. Поэтому мы рассмотрим социологические функции протестантизма в другой главе.
Ислам и халифат
Исламские завоевания — яркий пример того, как народ, арабский народ, по сути, искусственно созданный Мухаммедом, как монгольский Чингисханом, — приводит в движение половину мира, создавая государство и цивилизацию под эгидой религии542. Здесь мы видим в центре фигуру пророка, самого Мухаммеда. Более того, специфика исламского монотеизма состоит в том, что в этой религии вообще отсутствует жречество. Есть только пророк и верующие, следующие за ним и поклоняющиеся «трансцендентному Богу», о котором он возвещает.
Народ здесь, как и в случае древних евреев, формируется вокруг религии, но в отличие от евреев, выражает свое историческое явление в молниеносном создании гигантской империи — исламского халифата.
В ядре исламского народа, совпадающего с исламской религиозной общиной, уммой, стояли этнические арабы Аравийского полуострова, первые сподвижники и соплеменники Мухаммеда. Но очень быстро к новой религии примыкают и другие ближневосточные, североафриканские и азиатские этносы, переплавляясь в новую социальную систему, сформированную вокруг исламской религии.
Арабизация подчас была довольно поверхностна: североафриканские берберы, не говоря уже об иранцах, индусах (пакистанцах), пуштунах, средне-азиатах, филлипинцах, сохранили свои этические особенности.
Когда халифат ослаб и распался, на его основе возникли новые государства и новые народы, которые были либо исламизированным изданием более древних народов (Иран), либо возникли под влиянием ислама как высокодифференцированной социокультурной религиозной среды и пассионарного толчка арабских завоевателей.
В исламском мире в целом после распада халифата сохранилось общее религиозное и цивилизационное пространство. То есть изначальный «исламский народ» VII–VIII вв. трансформировался в цивилизацию и общий социокультурный тип, надолго пережив собственно государство как таковое.
Позднейшие исламские государства
Некоторые народы попытались выстроить в рамках ислама своеобразные модели религиозных цивилизаций. Это, в первую очередь, шииты — Карматский халифат (в X в. в Бахрейне, Сирии, Ираке, Западном Иране сложился гигантский, политически организованный народ на религиозной основе семеричного шиизма, куда вошли египтяне, берберы), шиитский Иран (с XVI в.), хариджитские государства, которые поддержали берберы, и т. д.
Османская империя, объявившая себя наследницей халифата с доминирующей религией ислама, была в большей степени воспроизводством кочевых империй Евразии. Захватив контроль над ослабевшими государствами Средиземноморья, воинственные турки-османы объединили евразийский стиль организации большого пространства с инструментальной концепцией восстановления халифата. В результате сложился совершенно особый культурный стиль и специфический народ, образованный вокруг этнического ядра тюрок с огромной долей греческих, славянских, анатолийских, ближневосточных и азиатских элементов. Ислам для османов играл большую роль, но это был уже тюркизированный евразийский ислам, существенно отличавшийся от арабского ислама.
§ 5. Цивилизация и ее структура
Цивилизация и вызов расколотого мира
Нам осталось рассмотреть несколько примеров, когда народ, появляясь в истории, начинает не с создания государства или религии, а с цивилизации.
Цивилизация представляет собой высокодифференцированную культуру, объединяющую различные общества помимо прямых политических или религиозных (строго регламентированных) связей. По своей природе цивилизация также основывается на неравновесном, трагическом, расколотом сознании, представляющем мир как конфликтную, ассиметричную, драматическую структуру, вызов, который требуется героически преодолеть. Но особенность цивилизации состоит в том, что она отвечает на этот вызов развертыванием сложных культурных систем, — в первую очередь, философии, а также техники, искусств, наук и т. д. Цивилизация представляет собой общество героического типа, где пассионарность воплощена в творении философских, эстетических или технических систем. Это особый способ общества справиться с драмой разделенного мира.
Сплошь и рядом цивилизации складываются внутри религиозных или государственных структур как одно из проявлений исторического бытия народа. Но мы встречаем ряд случаев, когда народ проявляет себя через цивилизацию и без того, чтобы создавать государство или религию, хотя на определенном этапе он может приобрести и то, и другое, или что-то одно, или какую-то последовательную комбинацию этих элементов. Поэтому мы вправе рассмотреть цивилизацию как прямое творение народа.
Греческая цивилизация
Приведем несколько примеров того, как народы появлялись в истории через цивилизации.
Классическим примером является здесь Древняя Греция543. В ней не было единой государственности или общей религии. Греция представляла собой созвездие городов-государств с различной политической системой, слабо связанных друг с другом или даже враждующих. При этом греки активно контактировали с иными этническими группами, живущими в ареале Средиземноморья, и процессы этнического смешения шли полным ходом.
Единство древнегреческого мира основано на особом типе культуры, которую так или иначе разделяли все участники греческой цивилизации от Понта и Анатолии до ближневосточных, североафриканских и западно-средиземноморских эллинских или эллинизированных обществ. Общий стиль философии, культуры, живописи, техники, жизни и миросозерцания объединял представителей различных политических систем, приверженцев разных культов и сект.
Ядром этой цивилизации можно назвать поэзию в Гомеровский период и философию в более поздние времена — после Фалеса Милетского и других досократиков. Философия стала квинтэссенцией греческого мировосприятия, в котором нашло свое высшее выражение духовная озабоченность проблемой мира, осознанного как вызов. Эта философия сконцентрировала в себе тот предельный дифференциал, который составляет суть народа как этносоциологического явления. Древние греки были народом, сложившимся вокруг философии, вокруг особого типа критического мышления, направленного само на себя и не доверяющего самому себе, способного встать на позицию другого в отношении самого себя.
Об этом нам говорит первый фрагмент Гераклита Эфесского: «Выслушав не мою, но эту-вот Речь (логос), должно признать: мудрость в том, чтобы знать все как одно»544. В этом состоит суть философии как явления. Если слушать восприятие человека, то он видит вокруг множество вещей. Он не видит единства, он видит не единство и, строго говоря, может свидетельствовать только о множестве и множественности. Но Гераклит призывает совершить прыжок, отрешиться от этого восприятия, перейти к иной структуре мышления. Эта структура не очевидна, и само ее существование проблематично и трудно. Он называет ее «логосом» или «мудрым» (началом). И тем не менее только с позиции логоса можно схватить сущность мира как единства и преодолеть расколотость обычного человеческого восприятия. Это требует колоссальных усилий духа, серии расчленений и соединений, мучений и наслаждений. Это требует напряженной и неустанной работы мысли, постоянно обращающейся за свой предел, в трансцендентную сферу логоса.
Сама структура греческой философии чрезвычайно близка к религии, и после распространения христианства религия и философия тесно сольются в феномене богословия. С другой стороны, такая степень дифференциации возможна только в стратифицированном обществе, имеющем, по определению, политическое измерение. Напомним, что Гераклит был царем, уступившим царство своему брату. Этот жест можно считать символическим выбором Древней Греции как таковой: она выбирает не государство, но философию. Таким образом, она дает нам пример того, как народ может встать на путь исторического бытия через философию и цивилизацию, поставив именно логос во главу угла.
Позже Александр Великий, ученик философа Аристотеля, создаст гигантское государство и покорит всю Азию вплоть до Индии. На какой-то момент цивилизация будет конвертирована в Империю. В другой раз греки окажутся, прежде всего прочего, народом другого государства — Византии. Кроме того, именно греческая цивилизация станет цивилизационной восприемницей христианской религии, и греческий народ составит ядро «священного народа» христианства («иерос лаос»). Показательно, что Новый Завет написан на греческом языке, и греческий считается в христианской традиции «священным языком».
Но как историческое единство и как общность героического духа, греки появляются в истории до государства и до единой религии.
Индийская цивилизация
Еще одним примером народа, который порождает в первую очередь цивилизацию, а потом уже остальные формы, является народ Индии. Индийская цивилизация создана индоевропейскими кочевниками — ведическими ариями, покорившими несметное число автохтонных этносов, чаще всего дравидского происхождения.
Индийская цивилизация основана, в первую очередь, на высокодифференцированной философской системе, на которой и строится все общество545. Эта система, даже в ее самых архаических формах, поражает своей сложностью, рефлективностью, развитостью рациональных методик, утонченными гносеологическими разработками. В основе всей системы лежит фундаментальный дуализм, имеющий как церемониально-обрядовое, так и чисто философское выражение. Это дуализм между «имманентным» и «трансцендентным», между «субъектом» и «объектом», между «этим» и «другим». Рефлексия индийской мысли распространяется на самые разные сектора бытия — от бытовых до мифологических, природных, антропологических и т. д.
Индийское общество нормативным типом считает одинокую личность, отшельника, посвящающего свою жизнь чистой аскезе, самопреодолению, героической практике выработки «абсолютной воли». Социолог Л. Дюмон, тщательно изучавший индийское общество, показывает, что «индивидуализм» индийской культуры является намного более радикальным и крайним, нежели индивидуализм современного либерального западного общества.
Но специфика индийского подхода состоит в том, что дуализм, фиксируемый повсюду в мире, в человеке, в мирах богов и демонов, должен быть преодолен. Это называется принципом адвайты, «недвойственности». Будучи корнем реальности, этот дуализм есть тем не менее иллюзия. Сила этой иллюзии (майя) колоссальна. Но сила духа аскета и философа-отшельника способна победить и это могущество. В результате — становление богом и освобождение от космоса как от тюрьмы заблуждения и невежества. Высший идеал — «мокша», «свобода».
Индийское общество основано на кастовом принципе. Высшей кастой считаются брахманы, занятые приоритетно религиозными церемониями и созерцанием, философией, умозрением. Второй кастой являются воины, кшатрии. Третьей — вайшьи, крестьяне и ремесленники. Есть еще четвертая каста — шудры (пролетариат) и изгои, парии, люди вообще вне каст.
В этой стратификации мы ясно видим следы этноса завоевателей-ариев (высшие касты) и автохтонных оседлых народов (вайшьи и особенно шудры). Жесткая кастовая система существует в Индии на основании не столько политического единства и традиционного государства, сколько на основании общей цивилизационной структуры, обосновывающей такое положение дел соответствием дифференцированной структуре мира.
В истории Индии было много попыток создания государственности. Лучше всего это удалось пришельцам моголам, тогда как сами индусы явно не уделяли этому достаточного внимания: политические аспекты приложения своей пассионарности их мало волновали, существовавшая государственность была рыхлой и неустойчивой.
При том, что многие аспекты традиционной индийской культуры напоминают религию, эта культура слишком разнообразна, многомерна, всеприемлюща для того, чтобы соответствовать критериям религии. Здесь нет догматов, четкой теологии, пророков, сотериологии, эсхатологии и т. д. В разных частях Индии преобладают разные культы, а в малых деревнях часто сохранились и местные обряды и боги, носящие след доведических культов. Разные школы по-разному трактуют богов и мифы, тексты «Вед» и смысл обрядов. Индуизм включает в себя самые разнообразные элементы и не теряет своей самобытности. Это не религия в полном смысле слова, но цивилизация, традиция, духовная культура, обладающая безошибочно опознаваемым стилем, но не имеющая никакой строгой формализации.
Если мы добавим к этому такие обособленные религии, как буддизм и джайнизм, а также индистско-исламский синкретизм сикхов, которые также сложились в Индии, то религиозная палитра будет еще более пестрой и противоречивой.
Китайская цивилизация
Китай также можно рассматривать в первую очередь как цивилизационное явление и только затем как государство546.
Китай есть народ, исторически сложившийся вокруг населения современных провинций Шэньси, Шаньси, Хэнань в XVIII в. до нашей эры, что принято называть «иньской (шаньской) общностью». Это были оседлые земледельческие племена. В начале XI в. до нашей эры иньцы были покорены родственными им племенами чжоусцев — потомков западной ветви яншаоских племен, у которых были сильны скотоводческие традиции. Из суперпозиции оседлых иньцев и кочевых чжоусцев сложилось ядро китайского народа. Между иньцами и чжоусцами происходило довольно интенсивное взаимодействие, что в конечном итоге привело к формированию в VII–VI вв. до нашей эры новой этнической общности хуася — прямых предков современных китайцев.
Хуася создали специфическую культуру, ярким выражением которой стали конфуцианское учение (жуцзяо) и даосское направление особой парадоксальной мистической философии (даоцзяо).
Конфуцианство строго регламентировало цивилизационную и социокультурную структуру китайского общества. Оно было основано на дуализме — мужского и женского, высокого и низкого, порядка и беспорядка. Но эти противоположные начала мыслились как полюса космической гармонии, которую необходимо обнаружить, установить и поддерживать путем кропотливых и постоянных усилий культурного бытия. Именно в культуре, этике, морали, этикете, правилах поведения, рациональной организации труда и взаимных отношений состоял героический аспект древнекитайской культуры, оказавшей решающее влияние на культуры соседних с Китаем народов — японцев, корейцев, вьетнамцев, тайцев и т. д.
История Китая знает эпохи жестких политических государств с политической спецификой, но также затяжные периоды беспорядков, усобиц и распада. Неоднократно власть в Китае захватывали представители кочевых степных племен. Но каждый раз через несколько поколений они ассимилировались в китайской цивилизации, не оставляя ни малейшего следа ни в культуре, ни в политике, ни в общественном устройстве китайского общества.
Конфуцианство и даосизм не являются религиями в полном смысле слова; скорее философиями и даже кодами культурного мировоззрения. Пришедший из Индии буддизм, более оформленный догматически, в контексте китайской культуры быстро трансформировался и превратился также в своеобразную мистическую парадоксалистскую философию, известную под названием «чань-буддизм», а в Японии — «дзэн-буддизм».
Китайский народ качественно полиэтничен: до сих пор южные и северные китайцы по-разному произносят одни и те же иероглифы, не говоря уже о множестве отдельных этносов, сохранивших свои языки.
Глава 10
НАЦИЯ
§ 1. Этносоциологический анализ нации. Вторая производная от этноса
Современное государство как социополитическое явление
Рассмотрим вторую производную от этноса — нацию.
Появление нации возможно только после формирования народа на основе этноса. Хотя в некоторых случаях, когда нации формируются искусственно, этот этап может быть сокращен до минимума или быть «номинальным». Нация возникает в том случае, если традиционное государство (как одно из типичных творений народа) становится современным государством, т. е. радикально меняет свое качество.
Современное государство впервые возникает в Европе в Новое время и постепенно становится формой «нормативного» государства вместе с распространением европейского западного влияния на все пространством планеты. В наше время, когда мы произносим слово «государство», мы по умолчанию имеем в виду «современное государство», т. к. именно оно воспринимается как общепринятый образец. Однако такая картина сложилась лишь в течение последних 400 лет, и процесс формирования национальных государств на основе либо традиционных государств, либо бывших европейских колоний проходил все это время в разных регионах планеты с разной скоростью. Еще в начале ХХ в. национальные государства (Франция, Италия, Испания, Голландия, Англия и т. д.) соседствовали в Европе и Евразии с империями, т. е. традиционными государствами (Австро-Венгрия, Россия, Османская Империя и т. д.). Многие европейские колонии стали современными государствами только в ХХ в.
Современное государство, в отличие от традиционного государства, принято также называть «национальным государством» или «государством-нацией» (Etat-Nation, по-французски).
Современное национальное государство отличается от традиционного государства следующими чертами:
– переходом от кастовой и сословной к классовой иерархии (основанной на материальном обладании и отношении к собственности на средства производства);
– взятием в качестве нормативного типа представителей третьего сословия, т. е. буржуазии (современное государство = буржуазное государство)547;
– преобладанием практической рациональности и материальных интересов над «идеалами» и «миссией» в построении и проведении политики государства;
– превращением общества как исторического явления (государство как «общность судьбы») в общество как рациональное, искусственно организованное явление (государство как продукт «общественного договора»);
– появлением в качестве главной и основополагающей социально-политической единицы индивидуального гражданина как базового носителя политической воли и социальной рациональности;
– политическим уравниванием сложной социальной и этнической структуры традиционного государства (или народа) в униформное понятие гражданства;
– наличием строго определенных и признанных соседними государствами границ;
– полной интеграцией экономической системы, разделением труда в рамках государства и единым экономическим законодательством на всей территории государства;
– светским, секуляризированным характером;
– наличием формализированной системы права, четко фиксирующей структуру легального и нелегального;
– наличием в государстве одного (редко двух) национальных языков, знание и изучение которого является обязательным для всех граждан как основы для всех официальных государственных документов и постановлений.
В каждом из этих пунктов современное государство контрастирует с государством традиционным. В современном национальном государстве стратификация основана на классовом признаке, а в традиционном — на сословном или кастовом; в современном государстве на первом плане стоит фигура буржуа; в традиционном — наследственная аристократия (воины) и клир (жрецы). Политика современного государства определяется расчетом, выгодой и интересами; традиционного — миссией, судьбой, религиозной или исторической целью (часто иррациональной). Современное государство создается искусственно как расширенная версия коммерческого партнерства («социальный контракт»); традиционное основывается на факте силового господства элиты над массой и не может быть упразднено по воле масс (кроме случаев восстания и прихода к власти новой элиты, контрэлиты по В. Парето). В современном государстве главным политическим актором является гражданин; в традиционном государстве — сословие и в первую очередь высшее сословие. В современном государстве гражданство нивелирует этнические и сословные культуры; в традиционном — они, напротив, обладают значительной долей автономии. В современном государстве преобладает принцип фиксированных границ; в традиционном государстве чаще всего границы представляют собой не линии, а зоны, полосы, доминация в которых той или иной силы постоянно оспаривается, поэтому сами границы являются подвижными и изменяющимися. Экономика современного государства организована рационально и представляет собой замкнутую производственно-потребительскую систему; в традиционном государстве экономика может быть регионально дифференцированной, с опорой на малые замкнутые зоны (натуральное хозяйство), а экономическое законодательство, как правило, слабо развито и существенно варьируется от региона к региону. Современное государство чаще всего является секулярным, светским; традиционное бывает исключительно религиозным. В современном государстве право распространяется на все сферы социально-политического устройства, стремясь охватить собой как можно более широкие сферы жизни (правовое государство); в традиционном государстве право регулирует только основополагающие вопросы политического и религиозного устройства, а высшему сословию предоставлены широкие полномочия в решении политико-социальных вопросов на их усмотрение. В современном государстве существует строго один (реже два) определенный национальный язык (Э. Геллнер называет его «идиомом»548); в традиционном обществе существует фактическое многоязычие (полиглоссия), а общий язык (койне) используется по факту и не имеет строго определенных нормативных правил, зафиксированных на основании того или иного диалекта.
Нация как особый тип общества
Нация является одной из сторон современного государства. Граждане государства составляют особый тип общества, который и называется «нацией», национальным обществом.
Все особенности и отличительные черты нации имеют смысл только в контексте «современного государства» и связаны с ним прямым и непосредственным образом. Вне современного государства нет и не может быть нации. Нация есть социальное содержание современного государства, его «наполнение», то общество, которое создает современное государство и которое создается им. Нация чаще всего возникает вместе с современным (национальным) государством, одновременно с ним. Там, где есть современное государство, там обязательно есть нация. Там, где есть нация, там обязательно есть современное государство. Невозможно представить себе нации без современного государства. Если мы делаем допущение, что какое-то общество является нацией, это автоматически означает, что это общество является социальной структурой современного государства.
Другое дело, что в политической практике та или иная социальная группа (имеющая общие этнические и исторические, т. е. народные, корни, или не имеющая их) может объявить себя «нацией». Но это будет означать только одно: эта группа хочет заключить «социальный контракт» по учреждению «современного государства», независимо от того, признают ли валидность этого контракта остальные или нет. Поэтому может сложиться впечатление, что иногда образование нации несколько опережает создание современного государства или, напротив, современное государство превращает своих граждан в нацию уже после своего возникновения. Этот «временной» зазор не имеет решающего значения. В строгом смысле, о «нации» мы можем говорить только тогда, когда мы имеем дело с современным государством (реальным или только желаемым). А если современное государство фактически существует, то вместе с ним обязательно существует и нация как совокупность его граждан. Если государство есть, а нации «еще» нет, это значит, что мы имеем дело не совсем с «современным государством», а с какой-то разновидностью «традиционного государства», допускающим более широкое толкование своей социальной структуры.
Политический и экономический характер нации. Власть и буржуазия
Из прямой и основополагающей связи нации с государством вытекает важное свойство нации: нация есть политическое образование, т. е. общество, объединенное по политическому признаку и сложившееся вокруг государственной политической системы549. Это радикально отличает нацию от этноса и народа.
Этнос есть явление органическое и примордиальное. Это простейшая форма общества, койнема. В этносе нет дифференциации ни по оси социальных групп, ни по оси социальных страт.
Народ есть явление историческое. В народе есть социальная дифференциация и по вертикали, и по горизонтали. Народ — явление и органическое (т. к. этническая структура сохраняется в массах и, частично, в элитах), и одновременно политическое. Народ чаще всего реализуется через создание традиционного государства, но может проявляться через религию и цивилизацию.
Нация — явление чисто политическое и современное. В нации основной формой социальной дифференциации является классовая (в марксистском смысле, т. е. на основе отношения к собственности на средства производства). Нация существует только при капитализме. Нация неразрывно связана с «современным государством» и идеологией Нового времени. Нация есть явление европейское.
Именно поэтому мы говорим о нации как второй производной от этноса. В народе основные характеристики общества меняются, поскольку этнос вступает в историю. Формирование нации представляет собой еще один фундаментальный структурный сдвиг. На сей раз меняются уже основные характеристики народа как общества. В нации народ переходит из истории и ее перипетий в сферу рациональной организации коллективного бытия на принципиально новых условиях. Не борьба героя с роком (как в народе) становится смыслом нации, но рационализация и оптимизация хозяйственной жизни. Поэтому нация тесно связана не только с политикой, но и с экономикой. Национальное государство есть одновременно политическое и экономическое образование.
Политическое измерение существует и у традиционного государства, но оно затрагивает лишь отдельные стороны жизни и сосредоточивается преимущественно в высших сословиях, массы же политизируются лишь косвенно и в незначительной степени, сохраняя социальные алгоритмы этноцентрума. В национальном государстве политизация достигает самого дна общества, т. к. нация есть политическая общность, распределяющая политические полномочия (входящие в понятие гражданства) на всех своих членов.
Экономическое измерение нации является ее отличительной чертой. Национальное государство есть, прежде всего, продукт учредительного договора (чаще всего оформленного как «Конституция»), на основании которого участники (граждане как члены учредительного съезда или общества акционеров) договариваются о том, чтобы создать совместное предприятие, которое обеспечит экономические интересы каждого из них. Поэтому обеспечение экономических и хозяйственных потребностей граждан является основной задачей национального государства. Поэтому нация вполне может быть представлена как добровольное объединение хозяйствующих субъектов.
Степень ответственности за все предприятие («национальное государство» как торгово-промышленную компанию) распределяется в буржуазном обществе неравномерно, но в соответствии с классовой стратификацией. Богатые и состоятельные члены нации, имея столько же политических прав и социальных возможностей, что и все остальные, в экономической сфере играют большую роль, чем низшие классы. Поэтому экономическое неравенство в сочетании с политическим равенством приводит к особой форме социальной стратификации, выражающейся в доминации буржуазии. Богатые заведомо имеют больше акций в нации как экономическом предприятии, и, следовательно, их вес возрастает. Политика, открытая для всех, становится «объективно» инструментом в руках состоятельной буржуазии, в первую очередь крупной.
Именно на балансе политического равноправия и экономического неравенства основана рациональность национального бытия. Правящий класс заинтересован в соучастии в политическом процессе всех граждан, но только до той степени, пока сохраняется общая политико-экономическая парадигма капиталистической доминации. Попытки политической организации низших классов с целью перевернуть экономическую модель буржуазной нации (социализм, коммунизм, анархизм) вызывает закономерную реакцию.
Все эти процессы детально и досконально изучены в марксистской традиции.
С этносоциологической позиции важно лишь подчеркнуть саму структуру социально-экономического устройства нации как второй производной от этноса или первой производной от народа.
Этносоциология города
С точки зрения этносоциологии генезис нации и современного государства и следует искать в феномене города550.
Если область этнокинетики является зоной фазового перехода от этноса к народу и стартом лаогенеза, то социология города лежит в основе второго фазового перехода — от народа к нации. При этом город и его социологическая структура может существовать и в контексте народа, поскольку он уже содержим в себе те тенденции, которые возобладают при возникновении современного государства и лягут в основу нации как этносоциологического явления. Так и этнокинетика может наблюдаться даже в тех обществах, которые остаются все еще в контексте этноса и лишь сталкиваются с предпосылками, которые могут повлечь за собой старт процесса лаогенеза;
Мы видели, что в основе города лежит военная ставка политической элиты народа (часто кочевой стан), создаваемая исходя из стратегических соображений на «пустом месте» (а не развивающаяся постепенно путем увеличения населения традиционного населенного пункта оседлых землепашцев). Город не есть большое, разросшееся село. Город изначально и принципиально создается по иной логике и с совершенно иными целями. В городе сосредоточена военно-политическая власть и центр для сбора дани теми, кто ничего не производит аграрными методами, а лишь накапливает у себя произведенные в других местах запасы, продукты и товары.
Село, деревня населено этносом, это есть folk-society551. Город населен профессиональной воинской элитой и ее обслугой. В этой элите преобладает принцип героической личностной идентификации (а не коллективной, как в этносе). Город — явление чисто политическое. И не случайно само слово «политика» возникло от греческого слова «πολις», «полис», «город». В традиционном государстве город есть политический и военный центр всей страны, место локализации общегосударственной элиты. В этом состоит его главная социологическая функция. Вся остальная территория государства мыслится как нечто дополняющее город, зависимое от города, подчиненное ему. Поэтому многие государства называются по имени своих столиц — например, Вавилонское царство или Киевская Русь.
Феномен демоса
Но в городе кроме политической элиты воинов и жрецов складывается еще один социальный тип совершенно особого свойства. Обобщенно, его можно назвать «лакейским», «холопским» или «сервильным» (от латинского «servus» — «слуга», «прислужник», что означает прислугу аристократа в самом широком смысле). Кроме домашних слуг, быт знати обслуживался широким слоем дополнительных социальных звеньев. В местах скопления знати, т. е. в городах, большую часть населения составляли сборщики подати, строители, ремесленники, повара, конюшенные, работники псарни, прачки, работники религиозных учреждений, производители предметов быта и роскоши, артизаны и т. д. Именно они и стали большинством жителей древнейших городов, тогда как сама знать оказалась в этих городах в меньшинстве. Существование столь обширной холопской социальной среды само по себе требовало социальной инфраструктуры, т. е. социальных и профессиональных институтов, призванных обеспечивать самих «холопов», т. е. прислуживать прислуге — тем более, что многие дворянские холопы на службе часто становились состоятельными людьми.
Наряду с челядью и дворянскими холопами, слугами, в эту систему включались и свободные люди, приезжавшие в город по тем или иным обстоятельствам (часто из-за неурожаев на селе или природных катастроф, иногда спасаясь от нападений врагов). Эти слои перемешивались друг с другом, свободные иногда поступали на холопскую службу, состоятельные слуги, наоборот, получали статус свободных и т. д. В результате в городе образовалось особое социальное явление, отличающееся по основным параметрам как от этноса, так и от политической элиты народа (героического типа — воинов, пророков, философов).
Это явление принято называть греческим термином «δεμος», т. е. «населением» городских концов.
Демос отличался от этноса тем, что был оторван от среды этноцентрума, выделен из нее, помещен в условия, резко контрастирующие с этническим миром, его структурой, формами времени, мышлением (интенциональностью). По своему происхождению это были представители этноса, но выпавшие из него, оторвавшиеся от него, утратившие связь с органической целостностью, составлявшей сущность этноса.
При этом демос отличался и от политической элиты, т. к. степень его дифференциала была качественно ниже, слабее, проще, чем у элиты. Демос в отличие от воинов был трусоватым, в отличие от философов — глуповатым, в отличие от пророков — слишком приземленным и рационалистичным. Дифференцированность он воплощал в земных делах — в организации хозяйства, в изготовлении ремесленных объектов, а более всего в торговле. Именно купцы, торговцы стали обобщающим символом всей городской холопско-артизанальной инфраструктуры.

Схема 22. Этносоциологическая структура Города
Для аристократии труд не имел никакого значения. С экономической точки зрения они выступали как потребители, оплачивающие потребление своим травматическим существованием, выражавшимся в войне, насилии, религиозном служении или философствовании.
Для этноса труд был неотъемлемой частью этнодинамики, в ходе которой постоянно утверждалась неизменность этноцентрума. Поборы знати, вероятно, осмысливались крестьянами как формы «потлача» или «жертвоприношения», т. е. включались в этнический контекст.
Торговцы (в широком смысле, включая собственно челядь и прислугу) организовывали контакт элит и масс, т. е. удовлетворяли потребности знати через изъятие (чаще всего хитростью, нежели силой) произведенного этносом продукта. В общегосударственном смысле аналогичную функцию выполняли сборщики налогов — мытари. Они выступали как посредники между элитой и массой, между героической верхушкой и этносом. Они же обеспечивали социальную, культурную и экономическую связь между различными центрами традиционного государства (городами), другими странами и отдаленными территориями самой страны. Подвижность торговцев выражает на ином, заниженном уровне, подвижность воинских (ранее кочевых) элит. То, чего элиты традиционного общества добивались силой, торговцы приобретали хитростью, расчетливостью, рациональными стратегиями (т. е. относительно мирным путем).
Торговцы представляли собой субпродукт лаогенеза. Как таковые они не были ни его причиной, ни его отличительным свойством. Они формировались как социальная группа постепенно и поэтапно, по мере сосредоточения властной элиты (военной, религиозной и интеллектуальной) в городах. Территориально вся эта прослойка, представленная преимущественно торговцами как резюмирующей функцией, концентрировалась в одном месте и складывалась в демос. Если герой представляет собой обобщающий социальный тип народа (особенно в его элитном властном полюсе), то торговец символизирует демос, обобщенную социальную группу барских лакеев, «валетов», оруженосцев и т. д. и свободных горожан, функционально объединенную обслуживанием правящей элиты за свет этноса.
Демос и есть исток буржуазии как класса.
Буржуазия и ее этносоциологические характеристики
Следует обратить внимание на этимологию слова «буржуа», французское «bourgeois». Оно восходит к немецкому слову «Burg», т. е. «город» и означало изначально «городской житель», «горожанин». Вместе с тем слово «горожанин» тождественно слову «гражданин», и не только в русском языке, но и на латыни, где слово «civitas» означает «город», а производное от него «civilius» — «житель города», откуда и происходит слово «гражданин».
Фактически, третье сословие наряду с первым (жрецы), вторым (воины) и четвертым (крестьяне, сервы), представляет собой именно «жителей города», «горожан» в социологическом и социополитическом смысле.
Таким образом мы получаем смысловую цепочку, помогающую понять этносоциологическую сущность явления нации:
«город — гражданство — буржуазия — политика (раз город есть «полис») — демос (= население города, термин «демос» неприменим к населению деревни или села, но только и исключительно города)».
Нация представляет собой такое политическое общество, в котором нормативным становится не этнос (как в архаическом обществе) и не народ (в лице его элиты — как в традиционном государстве, религии или цивилизации), а «демос» как горожане, граждане города и одновременно как представители третьего сословия (буржуазии).
Именно это и делает нацию второй производной от этноса.
Важно обратить внимание на то, что едва ли можно говорить о каком-то принципиально «новом» характере явления «демоса», лежащего в основе нации. Все «новое», что можно было привнести в этноцентрум, уже содержится в народе. Народ своей дифференциацией открывает предельные масштабы для столкновения с «новым» и воплощает это в герое. С качественной точки зрения народ представляет собой предельно сложное общество, обращенное к самым дальним горизонтам этой сложности. Драма, на которой основано бытие народа, обращена сразу во всех направлениях — вовнутрь (социальное разделение, а также психологическая имплозия, внутренний взрыв пассионарности), вовне (агрессивность нескончаемых военных походов), вверх (далекий горизонт «неведомого» Бога), вниз (ужас бездны возможного падения и смерти, постоянно сопутствующих историческому бытию героя и народа в целом). Народ порождает самые сложные империи, философии, теологии, произведения искусств. Именно творения народа составляет все то, что мы рассматриваем сегодня как человеческую культуру.
Но народ строит свои предельно сложные формы, основываясь на предельной простоте этноса, черпая энергии из раскола этой простоты. Народ делит койнему, как физики атом, получая из ее расщепления гигантскую энергию, которая и составляет содержание человеческой истории. Из раскола этноцентрума рождается дух.
Диалектика этноса и народа, как диалектика предельно простого и предельно сложного, исчерпывает теоретические возможности человеческого общества. Именно поэтому пятитомник Рихарда Турнвальда «Человеческое общество»552 завершается на стадии традиционных государств. А Леви-Стросс вообще ограничивается тщательным исследованием этноцентрума, глубины которого предопределяют основные вектора того, что — через отрицание — станет содержанием народа.
В любом случае, этнос и народ совокупно дают нам две фундаментальные оси человеческого мышления: интенциональность и логос, и, соответственно, два отношения к бытию: онтическое и онтологическое. Это законченная, исчерпывающая и полная модель, в которую «демос» и его конструкты не способны принципиально привнести ничего нового.
Этим и определяется сущность демоса. Его социальные возможности замкнуты между простотой этноса (четвертое сословие) и радикальным напряжением героической воли элиты (первое и второе сословия). Но демос не может и не хочет быть ни тем, ни другим. Он слишком оторван от этноса, он вырван с корнем из этноса, но ему недоступен пассионарный горизонт героизма. Демос ближе всего к тому типу, который Гумилев назвал «субпассионарным»553. Субпассионарий — типичный представитель демоса. Как лакей он имитирует господина, не будучи им, и высокомерно относится к этносу, откуда он вышел и который он презирает за «простоту».
Демос, т. е. гражданин, намного сложнее, чем селянин и тем более лесной охотник, но при этом намного проще, чем любой аристократ. Культура, которую создает демос, более дифференцирована, чем сельская культура, но менее дифференцирована, чем культура аристократии.
Но здесь есть один принципиальный момент: упрощенность демоса в сравнении с сословным обществом не является возвратом к этносу. Конечно, в определенных случаях распад государства приводит к запустению городов и их превращению в села, что означает превращение горожан в этнос. Это тоже вероятный сценарий в истории, который нельзя исключить. Многие современные малые города, бывшие некогда политическими центрами, представляют собой именно такой случай этнизации демоса. В этом процессе преобладание субпассионариев, по Гумилеву, сменяется преобладанием гармоничного типа личности.
Но сущность демоса как такового, как специфического общества, состоит в другом — в том, чтобы не быть ни аристократическим, ни этническим, т. е. ни пассионарным, ни гармоничным. В этом и состоит особенность субпассионарного типа.
Нация и пролетариат
Здесь лежит ключ к пониманию социологии Нового времени и, соответственно, к пониманию нации. Нация склоняется к принятию демоса как нормативного социального типа, построению общества на основе фигуры «торговца», что означает «не крестьянина» и «не героя»554. Нация всегда есть сообщество субпассионариев, возводящих свой тип в норматив и основавших на его основе политикосоциальную систему. Нация есть объединение торговцев, буржуа и горожан, причем именно тех горожан, которые не относятся к высшим сословиям. В свою очередь, буржуазия с этносоциологической точки зрения есть результат восстания вчерашних холопов, лакеев и валетов на своих господ, но организованное таким образом, чтобы занять их место в структуре социальной стратификации и властвовать над массами (этносом), хотя преимущественно в экономическом смысле.
Урбанизация крестьян, перемещение масс в город переводит проблему буржуазия (горожане) /этнос (сельчане, крестьяне) в чисто социальную плоскость — буржуазия/пролетариат. И здесь в полной мере начинается череда превосходно описанных марксистской социологией процессов. Перемещенный в город пролетариат становится интернациональным, утрачивает свои этнические корни, как ранее их утратила буржуазия. Нация превращает экономический критерий в главенствующий, надполитический. Поэтому классовая проблематика и может быть взята как социологически обобщающая и снимающая с повестки дня тематику этноса (равно как и народа).
Когда (буржуазная) нация становится преобладающей формой общественного бытия, этнос скрывается за горизонтом, исчезает из виду. Поэтому, в частности, социология Вебера, рассматривающая приоритетно буржуазно-демократические общества и их прообразы на ранних этапах истории (в том числе и в древнем мире), не уделяет этносу большого внимания. В буржуазных обществах этнический фактор снят. В этом состоит специфика этносоциологического анализа нации.
Как отмечалось, нация есть нечто, совершенно отличное от этноса, чрезвычайно далекое от него, а в некоторых аспектах — прямо противоположное этносу. Уже на стадии народа (лаоса) мы выходим за границы этноса, преодолеваем его, встречаясь с его производной. Уже в народе этнос отходит на второй план и частично скрывается за понятием «низшего сословия», «касты», «массы». Но здесь еще этнические черты нетрудно распознать, и этносоциологический анализ низших (а в некоторых случаях и высших) слоев общества проделать относительно нетрудно.
В нации этнический фактор уходит еще глубже, а на поверхности остаются лишь классовые, экономические и политические противоречия, обнаружить под которыми этнические пласты становится довольно сложно. Тем не менее общая схема этносоциологической научной топики позволяет это сделать, т. к. феномен буржуазии (горожан, граждан) может быть проанализирован с позиции ее отношения к этносу: буржуа в истоке своем есть холоп, вырванный из этноса и подражающий дворянину. У пролетариата этнические черты сохраняются в еще большей степени, поскольку он вырывается из этнической среды позднее и еще долго сохраняет ее остатки в себе, даже будучи помещенным в городские условия.
Буржуазия состоит из лакеев, которые представляют собой симулякры господ (героев): отсюда представление об экономической конкуренции как вариации военных сражений. Пролетариат есть симулякр этноса, который привносит в свою классовую природу элементы мировоззрения этноцентрума: отсюда легко перейти к анализу социалистических и коммунистических теорий, которые имеют множество параллелей со структурами этноцентрума, перенесенными в новые историко-социальные и политические условия. Показательно, в частности, то, что сам Маркс использует применительно к первобытнообщинному строю выражение «пещерный коммунизм», т. е. ясно осознает, что коммунистический идеал в будущем имеет аналог в архаическом обществе.
Социолог Ж. Батай555 и структуралисты сделали из этого терминологического соответствия далеко идущие выводы.
С этносоциологической точки зрения, коммунизм есть своеобразная проекция этнического (архаического, «пещерного», «первобытнообщинного) сознания на сферу буржуазного мира. Интернационализм пролетариата качественно отличается от интернационализма капитала именно тем, что пролетариат основывается на живых этнических архетипах, только возведенных к обобщающей панэтнической матрице («коммунизм» как формула метаязыка этноса), а буржуазия — на их преодолении, но без того, чтобы достигнуть подлинной дистанции от этноса, свойственной военной аристократии сословных обществ. Интернационализм буржуазии сопряжен именно с нацией как основным инструментом, на основе которого буржуазия одного общества улаживает свои отношения с буржуазией другого. Нация здесь выступает как приложение к экономике, дополнительный момент в конкурентной борьбе. Поэтому интернационализм (космополитизм) буржуазии не противоречит ее национализму, а интернационализм пролетариата — его обобщенному и возведенному в принцип панэтнизму.
Национализм как инструмент создания нации
Разобраться в этих сложных диалектических особенностях второй производной от этноса помогает конструктивистский метод Э. Геллнера556, Б. Андерсона557 и других этносоциологов, специально изучавших феномен нации и национализма558.
Геллнер показывает, что нация как явление была создана в Новое время третьим сословием, буржуазией, захватившей власть в ряде европейских государств559. Так как сословная структура этих обществ, т. е. модель народа, была разрушена, то буржуазия столкнулась с практической задачей сохранить социальную связность общества в новых условиях при отсутствии феодальных и религиозных сдержек и мобилизовать его для индустриальных и торговых экономических целей. Буржуазные революции рушили сословные социальные структуры, а этническая структура была надломлена еще раньше и сохранялась по инерции только в сельских массах. Городская буржуазия возводила саму себя в нормативный социальный идеал и подстраивала под себя политические институты. Здесь как раз и коренится феномен демократии, дословно «власти демоса». Демос же, как мы видели, представляет собой обобщенное название для городского населения, не относящегося напрямую к феодальной сословной знати. По сути, демос и буржуазия близкие, если не тождественные явления.
Однако принцип индивидуального гражданского лица, занимающегося свободным предпринимательством, будучи применен к обществу в целом, и особенно к негородскому обществу, составлявшему на заре Нового времени значительный процент всей Европы, представлял угрозу для этого общества. Речь идет о незрелости индивидуального начала и его соскальзывании «назад в этнос» и обособлении в архаических общинах сельского толка или о распылении такого общества до индивидуальных единиц, преследующих свои личные цели и не учитывающих интересов своего класса. Сознательные представители буржуазии могли объединиться в партии и клубы (и делали это), но остальное общество (преимущественно сельское) оказывалось в подвешенном состоянии. Для искусственной консолидации общества в этих новых исторических условиях европейская буржуазия и изобрела «нацию» и сопутствующий ей «национализм».
Геллнер подчеркивает, что «нация» представляла собой искусственную механическую модель, созданную в сугубо прагматических целях. Буржуазное государство, распыляющееся на ничем не связанных индивидуум граждан, изобрело социальный концепт, призванный постулировать единство, цельность и общность там, где их нет и не может быть. Этот концепт и есть «нация». Бенедикт Андерсон называет нацию «воображаемой общиной» («imagined community»)560. «Община» это свойство этнического бытия, folk-society. В естественных условиях этнос настоящая, не придуманная, не воображаемая общность. И хотя сплошь и рядом этносы основываются лишь на вере в общее происхождение, эта вера органична и искренна, не подлежит сомнению. Она настолько глубока, что полностью тождественна реальности. Зазора между реальностью и объектом меры в этносе нет.
«Нация» — совершенно другое дело. Здесь в общность происхождения не верят сами создатели этого концепта. Он придуман и внедрен в массы с конкретными прагматическими целями: упорядочивания социума в новых исторических условиях повышенной энтропии, мобилизации трудовой деятельности, сохранения общества в строго определенных рамках.
Геллнер настаивает на том, что национализм не является следствием существования нации, но сами нации возникают как развитие идеи национализма.
«Именно национализм порождает нации, а не наоборот. Конечно, национализм использует существовавшее ранее множество культур или культурное многообразие, хотя он использует его очень выборочно и чаще всего коренным образом трансформируя. Мертвые языки могут быть возрождены, традиции изобретены, совершенно мифическая изначальная чистота восстановлена»561.
Национализм есть способ создания нации как особой индустриальной социальной культуры. Он распространяет городской принцип буржуазного капиталистического общества на все остальные зоны государства, которые ранее, в феодальный период, были так или иначе предоставлены сами себе и сохраняли этнический стиль бытия. Геллнер пишет:
«(…) национализм, по существу, является навязыванием высокой культуры обществу, где раньше низкие культуры определяли жизнь большинства, а в некоторых случаях и всего населения. Это означает повсеместное распространение опосредованного школой, академически выверенного, кодифицированного языка, необходимого для достаточно четкого функционирования бюрократической и технологической коммуникативной системы. Это замена прежней сложной структуры локальных групп, опирающихся на народные культуры, которые воспроизводились на местах — и в каждом случае по-своему — самими этими микрогруппами, анонимным, безличным обществом со взаимозаменяемыми атомоподобными индивидами, связанными прежде всего общей культурой нового типа. Вот что происходит на самом деле»562.
То, что Геллнер называет «высокой» и «низкой» культурой, точнее будет назвать «комплексным обществом» и «созвездием койнем». Но суть процесса создания нации описана удивительно точно.
Национализм изобретает нацию, т. е. общество, которого никогда не существовало, но использует при этом элементы, которые берутся в реальном историческом опыте конкретных групп (этносов и истории народа), вырываются из контекста, лишаясь при этом смысла, и превращаются в общеобязательную, навязанную с помощью всей мощи государственного аппарата социокультурную догму.
Геллнер подчеркивает, что нация состоит из механического набора анонимных и отчужденных друг от друга атомарных граждан, но пытается выдать себя за сельское деревенское мирное сообщество, уютное и знакомое, где все друг друга знают и все разделяют друг с другом общие привычки и синхронизм реакций. Чтобы добиться этого, в дело пускается государственная машина: образование, кодифицированный язык, произведения искусства, прославляющие славные подвиги нации, часть которых реальна, а другая часть придумана.
Этнос — органическое единство, народ — историческое единство, нация — не единство вообще, это искусственный механический симулякр, чучело, подделка.
Нация основана на ложной генеалогии: национализм пытается выдать ее за прямое продолжение этноса и народа, не замечая, что между самим этносом и народом существует фундаментальный социологический и концептуальный сдвиг, а между народом и нацией — отношения столь же противоречивые, как между традиционным и современным государствами. Этнос в народе проблематичен, хотя и наличествует. В нации он становится проблематичным вдвойне, и сам народ также становится проблематичным. Поэтому-то и следует говорить о «воображаемости» нации. Буржуазия через национализм создает искусственный объект, составленный из реальных социологических компонентов.
Две формы этносоциологического анализа нации
В этносоциологии нация как общество может быть рассмотрено с двух точек зрения. Мы назвали ранее эти подходы «этноанализом» и «анализом постэтнических обществ».
Нация является постэтническим обществом, и этносоциолог при анализе нации в первую очередь должен проделать операцию по выяснению того, когда и при каких обстоятельствах возникла данная нация; к какому современному государству она относится; какие исторические «мифы» и искусственные реконструкции она использует для оправдания своего существования; каков зазор между этой нацией и ее «реконструированным прошлым» и реальными, предшествующими ей, типами обществ — народом и этносом (этносами) и т. д.? Это постэтнический анализ, и он должен показать в первую очередь различие между нацией и ее претензией на историчность и органичность, т. е. продемонстрировать дистанцию между декларациями и постулатами базового буржуазного национализма (в смысле Э. Геллнера) и достоверной этносоциологической реконструкцией предшествующих этапов. Иными словами, эта фаза исследования состоит в том, чтобы показать, чем конкретная нация отличается от этноса и от народа, на «естественную» и «историческую» связь с которыми она претендует. Чтобы проделать эту операцию, необходимо последовательно проследить известные периоды истории данной нации и соответственно данного современного государства, особенно уделив внимание обстоятельствам ее возникновения и историческим, политическим, экономическим и классовым условиям, которые этому способствовали. В ходе данной фазы необходимо реконструировать этносы, на основе которых проходил (если он проходил) процесс лаогенеза, и проследить сам этот процесс. Особенно следует сосредоточиться на фазовых переходах: от этноса к его первой производной, народу, и от народа собственно к нации. На переходе ко второй производной от этноса следует сосредоточиться на проблеме города и третьего сословия.
Только проделав все эти операции, можно всерьез говорить о том, насколько обоснованы и состоятельны «мифы» и претензии данной нации и как велика ее дистанция от этноса и народа. Здесь в полной мере применим метод конструктивистов (Э. Геллнер563, Б. Андерсон564, Дж. Брейи565, К. Калхун566, И. Нойманн567 и т. д.). Такой подход должен ответить на вопросы: насколько данная нация является «воображаемой», а насколько ее официальная генеалогия чему-то соответствует; кто, когда, зачем и при каких обстоятельствах «вообразил» эту «воображаемую общность»?
Второй подход, т. е. собственно этноанализ, призван, со своей стороны, показать, каково действительное положение этноса или этносов в обществе национального типа и как в ней проявляется народ как историческая общность. Проведя серию строгих разграничений и отличий, описывающих, почему и до какой степени нация не есть этнос и не есть народ, а их вторая и первая (соответственно) производная, этноанализ теперь должен описать этнический слой общества и влияние народа на нацию (по ту сторону «националистической» мифологии). Этнос сохраняется в народе. Этнос сохраняется и в нации. Но его идентифицировать и описать в нации намного сложнее, точно так же как и народ. Если в традиционном государстве (реже — религии или цивилизации) народ очевиден, то в нации он скрывается, становится неявным, выступает лишь косвенно.
Влияние сословий, религий и социокультурных установок традиционного общества на классовое буржуазное общество эпохи Модерна (современное общество) тщательно исследовалось социологами-классиками. Образцом такого рода работы является шедевр Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма»568.
Этноанализ нации призван найти в нации то, чего в ней, строго говоря, нет, но симулякром, «чучелом» чего она является. При этом этноанализ ставит своей целью отыскать на нижних слоях нации,не только этнос, но и народ, т. е. следы традиционного общества, скрытые за фасадом «современности». С точки зрения методологии здесь более всего подходят теории «этносимволизма» Э. Смита569. Этнос и народ не присутствуют в нации сами по себе, но лежат в исторических основах общества, продолжая пребывать в сфере «социального бессознательного» и выступают «символически».
«Этносимволизм» Э. Смита как этноанализ прекрасно дополняет конструктивизм Э. Геллнера как форму постэтнического анализа. Соединив их вместе, мы получаем объемную и полную картину этносоциологического анализа нации.
§ 2. Национализм
Особенности национализма и его отличие от аналогичных форм в иных типах обществ
Как мы видели, Геллнер понимает под «национализмом» искусственную инициативу буржуазии по созданию нации. Это специфическое понимание «национализма», и мы можем использовать его только для изучения первого, начального этапа формирования нации. Когда современное государство создано, и общество, находящееся в его границах, оформлено как нация, национализм несколько меняет свои функции и значение.
Во всех случаях национализм следует понимать как чисто политическое явление. Как нация неразрывно связана с государством и политикой, так и национализм во всех формах и при всех обстоятельствах обязательно сопряжен с государством и политикой; так же, как и сама нация, национализм — явление сугубо современное и относится к Новому времени. Национализм возникает в эпоху Модерна570 и является одной из ее характерных черт. Ни этноцентрум этноса, ни жесткий, конфликтный дифференциализм народа с выделением «мы-группы» и «они-группы» («противотипа») нельзя смешивать с национализмом.
То, что этнос не видит «другого» и считает себя «всем», не имеет ничего общего с «национализмом». Этнос не знает политики и не может придавать чему-либо политического значения. Этнос не знает социальной стратификации и не может использовать представления и воззрения в качестве социально-политического инструментария (идеологии) в чьих бы то ни было интересах. Этнос верит, что есть только он, а «не-он» — это тоже он, либо ничто. Национализм же прекрасно знает, что рядом с данной нацией располагается другая нация, но искусственно провоцирует подчеркнутую экзальтацию «автостереотипа» и «гетеростереотипа» среди искусственно сконструированного коллектива (нации) в совершенно конкретных политических и экономических интересах. Этнизм не может быть национализмом сам по себе, но национализм может использовать обращение к этносу (мнимому или действительному) для реализации каких-то конкретных политических целей.
Народ при всей заложенной в нем агрессивности и воинственности (оперирование с фигурой «другого») основан на искренней вере политической элиты в то, что борьба с «другим» имеет «священный» характер. В ее основе лежит «миссия», судьба. Уничтожить и победить «другого» надо не для какой-то конкретной материальной цели, а следуя экзистенциальной природе самого героя. Поэтому часто традиционные государства ведут кровопролитные войны, чья рациональность и выгода могут быть поставлены под сомнение. Сплошь и рядом объектами войны могут выступать места и объекты религиозного культа (например, Крестовые походы), не имеющие никакого экономического значения. Политические элиты традиционного общества не используют фигуру «другого» для мобилизации масс, они и сами основаны конститутивно на асимметричном и драматическом стремлении к конфронтации с «другим», который является для них фундаментальной фигурой, определяющей их бытие. Это тоже отнюдь не национализм, т. к. здесь нет «нации», «рациональной» цели, манипуляции и стремления искусственно оформить экономическую стратегию. В этом и состоит отличие аристократа от его слуги — например, Дон Кихота и Санчо Пансы, мушкетеров Дюма и их слуг. Аристократы воюют за абстрактные рыцарские идеалы, которые для них действительны, поскольку являются «трансцендентными». Слуги же сетуют на эту «неразумность» и стараются рационализировать структуру событий на войне: запастись провиантом, набрать побольше трофеев, изобрести способы сохранить свою жизнь и нанести врагам удар исподтишка и издалека (отсюда берут свое начало технические изобретения дальнего боя). Народ создается аристократией, нобилитетом. Нация — слугами, оруженосцами, ординарцами, интендантами. Традиционное государство — дело рук Дон Кихота, д’Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса. Нация создается Санчо Пансой, Планше, Гримо, Базеном и Мушкетоном.
Для аристократии нет большого различия между противниками и своими собственными массами. Это лишь разновидности «другого» — внешняя и внутренняя. Поэтому для представителей высших сословий столь важно было заключать браки с партнерами своей касты, даже если те принадлежали иному народу. Более того, такие браки считались предпочтительными, особенно для царей и королей, т. к. укрепляли дистанцию между элитой и массой. Для традиционного государства не было необходимости обманывать население в целях его «национальной мобилизации». Элита в ненависти к «другому» действовала вполне искренне, а массам, принужденным участвовать в военных компаниях, большого выбора не предоставлялось: либо они должны были солидаризоваться с верой своих господ, либо просто подчиниться грубой силе. В бою можно выжить и прославиться, казнь за непослушание бывает скорой и унизительной. Никакой инструментализации здесь просто не требуется. Те, кто верят в свою миссию, поступают в соответствии со своей верой, а остальным приходится подчиниться.
Применять понятие «национализм» к явлениям, не относящимся к эпохе Модерна, не связанным с «современным обществом» и социальным укладом третьего сословия, с этносоциологической точки зрения некорректно.
Патриотизм
Рассмотрим некоторые разновидности национализма, который можно разделить на несколько категорий.
Первая форма национализма — патриотизм.
Патриотизм есть мобилизация всех граждан (нации) для защиты государства от внешней агрессии или для нападения на внешнего врага. Патриотизм строится на эмоциональном аффективном изображении собственного общества (нации), «мы-группы», противопоставляемой контрастному образу «противника» («они-группа»). Термин «патриотизм» образован от латинского слова patria, т. е. «родина», «отчизна», «земля отцов». Он обращен к культурной и исторической идентификации нации. Сплошь и рядом «патриотизм» основан на пристрастном и идеологически процензурированном изложении истории, призванном убедить в славном прошлом данной нации и злых и бесчеловечных (подлых) поступках ее врагов. Победы подчеркиваются (подчас придумываются), поражения смягчаются (подчас вовсе замалчиваются). При этом алгоритм патриотизма в некоторых случаях может быть полностью «вымышленным», что не отменяет его действенности.
В структуре патриотизма мы имеем дело с символической инструментализацией корневых энергий этноцентрума и исторического самосознания народа. Но и то, и другое (этноцентрум и народ) присутствует в патриотизме «символически», т. е. в совершенно ином, «национальном», контексте и для реализации конкретных политических целей.
Особенность патриотизма состоит в том, что эта форма национализма чаще всего обращена против внешних врагов, реальных или мнимых.
В национальных государствах чаще всего патриотизм рассматривается как добродетель и вполне легитимное свойство. Более того, воспитание чувства патриотизма почти всегда входит в программы и задачи государственного образования, являясь инструментом государственного управления. Патриотизм помогает правящему (буржуазному) классу консолидировать демос для возможного противостояния с конкурирующим государством — чаще всего в битве за те или иные материальные ресурсы, колонии и т. д. Обращаясь к органическим и историческим корням, патриотизм в Новое время выполняет сугубо политические и прагматические функции.
Ксенофобия, шовинизм, расизм
Крайней формой патриотизма является ксенофобия. Термин происходит от греческих слов «ξὲνος», «чужой» и «φοβὲω», «дословно "боюсь", "ненавижу"», «страх». Ксенофобия представляет собой социокультурный аффект, заставляющий человека или социальную группу относиться с ненавистью и страхом к чужим нациям и их символическим атрибутам (внешнему виду, типовым предметам и т. д.). Ксенофобия так же, как и патриотизм, может быть проанализирована на трех уровнях: она может отражать травматический — спонтанный или спровоцированный — подъем этноинтенционального мышления (этноцентрума); может быть рудиментом «трансценденталистской» пассионарности народа, конституирующей за своим пределом фигуру «другого»; а может быть крайней формой политической манипуляции со стороны власти для решения тех или иных политических задач.
Важно заметить, что во всех случаях «чужой» или тот, на кого обращены ненависть и страх, его качества и характеристики не имеют ничего общего с его образом, сформированным в массовом сознании рассматриваемой «нации». Это не более чем социологическая конструкция, возводимая (искусственно или спонтанно) в «противотип».
Если патриотизм сопровождается кичливостью, бахвальством, ограниченностью и узким культурным горизонтом, свойственным представителям «третьего сословия», он называется «шовинизмом». Это уничижительное название основано на имени персонажа комедии братьев Коньяр «Трехцветная кокарда», рекрута Шовена, воскликнувшего: «Франция и ничего кроме Франции». В основе этого образа — реальное историческое лицо из армии Наполеона, солдат Шовен.
Расизм в узком понимании (в отличие от многомерных форм расизма культурного, технологического, эволюционистского, методологического и др.) представляет собой форму ксенофобии и шовинизма, возведенных в статус мировоззрения, утверждающего, что представители других наций, культур, рас и этносов (чем те, к которым принадлежит сам субъект) являются «низшими», «неполноценными», «отсталыми» или «злыми», «подлыми» и «нуждающимися в искоренении или уничтожении». Если ксенофобия и шовинизм — это эмоциональное состояние, аффект, то расизм — это попытка выстроить на этих эмоциях самостоятельную «теорию», «подтверждающую» и «закрепляющую» их в форме системы и идеологии. И в этом случае, как и в случае ксенофобии, «гетеростереотип», с которым оперируют расисты, чаще всего не имеет ничего общего не только с реальной картиной другого общества, на которое направлена ненависть, но и автостереотипом, построенном на совершенно произвольных предположениях, возведенных в догму.
Для описания этого явления этносоциолог В. Мюльман ввел понятие «а-раса» и «б-раса»571. «А-раса» — это научная реконструкция на основании антропометрических, генетических и серологических методов принадлежности человека к той или иной расовой общности. Сама эта реконструкция представляет собой в высшей степени проблематичную и гипотетическую процедуру, т. к. среди ученых нет единства ни в отношении методов определения «а-расы», ни даже в отношении классификации и таксономии самих рас. Эти исследования требуют специальной подготовки и наукоемкой аппаратуры. Но даже если «а-расу» и можно будет установить, то совершенно непонятно, к какой классификации ее отнести, поскольку разные школы антропологов, биологов и генетиков ведут по этому поводу ожесточенные споры. Любой элемент фенотипа, серологических или генетических данных, может быть интерпретирован по-разному. Все это сказывается на ценности определения «а-расы»: даже установив ее, корректно интерпретировать полученные данные чрезвычайно трудно из-за множества конкурирующих гипотез. Все это касается только биологии и палеоантропологии. Если же мы попытаемся соотнести научные (крайне гипотетические и проблематичные) данные о «а-расе» с социологическими особенностями типового поведения, лингвистическими свойствами или культурными паттернами, мы просто провалимся в бездну, поскольку никаких достоверных данных о взаимосвязи биологической «а-расы» с социологическими свойствами общества не существует. Поэтому трудные и дорогостоящие исследования «а-расы», совершенно недоступные для людей без профессиональной научной подготовки, даже будучи корректно выполненными, не имеют ни малейшей ценности для социолога. Иными словами, «а-раса» социологически и культурологически иррелевантна.
Мюльман вводит понятие «б-расы» — на сей раз как социологического явления, т. е. как «символического» объекта. «Б-раса» не биологическая, но «воображаемая». Человек может причислять себя к какой-то «расе», и этот факт может иметь для него определенное социологическое значение (быть ценностью, повышать его статус в его глазах и т. д.). То же верно и в случае б-расы, к которой причисляют «других». Это также произвольно и «символично», но также действенно. По сути эта процедура есть не что иное как дистрибуция «авто-» и «гетеростереотипов». Отличие «б-расы» от «мы-группы» и «они-группы», а также от «противотипа» и различных форм национализма и шовинизма состоит только в том, что те, кто оперируют с б-расой, склонны рассматривать принадлежность к ней как фундаментальный и неотменимый врожденный статус, наделенный решающим значением как, например, гендер.
Расизм строится на манипуляциях с б-расой, хотя часто старается в целях внушения выдать б-расу за а-расу.
В нацистской Германии расизм был политически инструментализирован как средство для максимальной консолидации высших и низших классов национально-буржуазного общества в ситуации чрезвычайной политической мобилизации. Расизм играл также важную роль в догматическом оправдании рабовладельческой практики в отношении африканцев в колониальную эпоху (XVI–XVIII вв.). Идея того, что автохтонные жители Америки (индейцы) являются «низшей расой», лежала в основе практики их систематического истребления в Северной Америки и жестокого порабощения и подавления в Южной.
Также, как и все остальные формы национализма, расизм является феноменом Нового времени и появляется вместе с буржуазными реформами в европейских государствах. Расизм есть феномен сугубо современный и развивавшийся параллельно модернизации. С классовой точки зрения это явление однозначно буржуазное.
В юридических кодексах большинства современных буржуазно-демократических государств расизм, шовинизм и ксенофобия поставлены вне закона и их проявления влекут за собой юридические санкции со стороны государства.
Большой национализм: консерватизм и радикализм
Рассмотрим проявления национализма, фиксируемые внутри национального государства572. Они делятся на две составляющие: национализм этнического большинства (народа или этноса, на основании языка и культуры которого была построена искусственная национальная идентичность) и национализм этнических меньшинств (которые стремятся создать свои нации, выделившись из состава существующего современного государства). Национализм этнического большинства может быть назван «большим национализмом».
Смысл большого национализма состоит в том, чтобы укрепить единство нации политическими методами, сделать его устойчивым и консолидированным. Большой национализм, как правило, настаивает на абсолютизации суверенитета государства, поддержании и укреплении его территориальной целостности. Часто (но не всегда) это сопровождается тенденцией к укреплению вертикали власти и политической централизации. Хотя в некоторых современных федеративных государствах (например, в США) большой национализм может добиваться поставленных задач и иными средствами — без дополнительной централизации и ослабления административной автономии регионов.
Большой национализм, в свою очередь, делится на следующие разновидности: консервативную и радикальную. И консервативный, и радикальный большой национализм теоретически призваны решать одни и те же задачи, но принципиально различными методами.
Консервативный большой национализм настаивает на сохранении того импульса, на котором было построено национальное государство в форме «социального мифа», достаточно живого для того, чтобы скреплять атомарные индивидуумы граждан индустриального общества, но достаточно «условного», чтобы не провоцировать в них «излишнего» энтузиазма, благодаря которому «национализм» мог бы приобрести радикальные черты (ксенофобия, шовинизм, расизм) или затронуть этнические и народные пласты в обществе. Консервативный национализм стремится сохранить полной контроль над интеграционными методологиями общества в руках политического руководства и, соответственно, правящего класса (буржуазии), нюансированно прибавляя градус национализма всякий раз, когда обществу грозит распад и рассеивание, энтропия, и убавляя его, как только эта угроза перестает быть острой.
Консервативный национализм эвфемизированно называется просто «консерватизмом» и во многих современных государствах имеет легитимных представителей в лице партий, правящих коалиций или крупных политических деятелей. Консервативный национализм часто (если не всегда) сочетается с либеральной идеологией, рынком, буржуазной демократией и является социально-политическим субпродуктом Модерна.
Радикальный национализм также вытекает из политического стиля Модерна, является феноменом современным и довольно искусственным573. Смысл радикальных форм большого национализма состоит в том, чтобы углубить интеграционные процессы в национальном обществе, искоренить остатки локальных этнических культур, языков, обычаев и традиций, перевести чувство национальной идентичности в экзальтированную фазу. Цели радикального консерватизма точно такие же, как и у консервативного: сплотить граждан национального государства и укрепить степень однородности, гомогенности общества574. Но консервативный национализм добивается это методами унификации правового поля, экономического пространства, административного контроля, а радикальный национализм — подавлением локальной и региональной самобытности, культурной и языковой агрессивности, требованием введения дискриминационных практик против этнических меньшинств и мигрантов, а также мобилизацией образовательных, культурных и информационных стратегий. Радикальные националисты, как правило, настаивают на постановке этнических и культурных меньшинств в неравноправное политическое положение и частичном поражении в правах тех граждан, которые, по мнению националистов, не проявляют достаточного энтузиазма в деле интеграции в национальное общество или сознательно противятся этому.
Если консервативные националисты предпочитают действовать правовыми методами с использованиями демократических процедур, то радикальные националисты часто прибегают к экстремистским практикам и методам, в том числе к прямому насилию, а иногда к террору. Радикальный национализм чаще всего принимает форму ксенофобии, шовинизма и даже расизма, сливаясь с этими явлениями. Их следует различать только по одному признаку: ксенофобия, шовинизм является эмоционально-аффективными формами, расизм — попыткой теоретизации аффектов, а радикальный национализм — сознательной и рациональной политической стратегией, в основании которой стоит не эмоция и не идеология, а конкретный расчет. Радикальные националисты рассчитывают с помощью своих действий добиться вполне конкретного политического результата (точно такого же, как и консервативные националисты): повышения уровня социально-культурной и политической однородности общества на основе общего национального фактора575.
В различных обществах к радикальному национализму относятся по-разному. Иногда его используют для решения конкретных политических задач, но чаще всего он занимает маргинальное положение, и его представители балансируют на грани закона. В силу специфики профессиональной деятельности к радикальному национализму близки выходцы из силовых министерств и ведомств, которые, с одной стороны, частично разделяют стиль «националистов», а частично, используют их в ограниченном масштабе в ряде «деликатных» операций как свою сознательную и добровольную (или бессознательную) агентуру.
В некоторых случаях радикальные националисты объединяются в политические партии, как правило, крайне правого толка.
В ЮАР до конца режима апартеида радикальный национализм с рядом откровенно расистских черт оставался официальной политической идеологией. Ряд аналогичных черт легко опознаваем в современной политике демократического и в целом современного государства Израиль. В США рудименты радикального национализма белых колонизаторов до сих пор присутствуют в форме этнических резерваций, где проживают представители коренного населения — индейцы. Апогеем радикального национализма в ХХ в. были фашистский режим в Италии Муссолини и национал-социалистический режим Гитлера (национал-социализм основывался также на откровенном идеологическом расизме).
Консервативный национализм в той или иной форме свойственен всем современным государствам и буржуазно-демократическим режимам. В США его носителями традиционно считаются представители Республиканской партии. В европейской политике эти функции выполняют, как правило, партии Правого Центра.
Малый национализм: автономизм, сепаратизм
Рассмотрим малый национализм. Это явление, свойственное малым этническим и культурным группам, которые оказались внутри национального государства с унитарной национальной политикой и сохранили волю и силы к той или иной форме сопротивления большому национализму (во всех его формах).
Э. Геллнер описывает эту ситуацию с помощью условных концептуальных этносоциологических объектов, которые он называет Мегаломания и Руритания. При переходе от традиционного общества, народа (=Империя) к современному государству складывается следующая ситуация. Третье сословие бывшей империи, получившее политическую власть в столицах и крупных городах, строит на основании Империи (терпимо относившейся к полиэтнической и поликультурной модели, в том числе и к полиглоссии на уровне сельских, руральных областей) национальное государство — Мегаломанию. Ее строители придумывают ей стиль, историю, происхождение и с помощью государственного аппарата, экономики и монополии на печатный станок развертывают проект большого национализма. Так на месте общества-народа появляется общество-нация. Смысл нации — спроецировать норматив городского демоса на всю территорию государства. Мегаломания стремится быть тотальной в национальных границах.
Сельские районы (составляющие большинство территорий государства) образуют пространство Руритании (по концептуальному словарю Геллнера576). Это не единообразное, но многообразное социальное поле, в котором есть зоны, легко принимающие большой национализм Мегаломании, и зоны, отвергающие его. Части Руритании, отказывающиеся от большого национализма и, будучи помещены в новые социально-политические условия, выдвигают свой проект национализма, скопированный с Мегаломании, но направленный против него и ставящей целью выход из Мегаломании. Это и есть малый национализм.
Малый национализм всегда есть ответ на большой национализм. В рамках традиционного государства такого явления нет. Отдельные этнокультурные регионы начинают создавать свои националистические конструкции только в ответ на наступление Мегаломании, до этого момента в них нет никакой нужды, т. к. традиционное общество относится к этнической самобытности масс довольно безразлично и поэтому терпимо. Аристократия не имеет необходимости мобилизации населения специальными идеологиями, ей достаточно силы, воли и убежденности в необходимости бороться с «другим». Мегаломания, напротив, добирается до глубинных регионов и принимается последовательно и методично выкорчевывать их самобытность, подтачивающую общую связность в структуре нации. На это Руритания может ответить контратакой и выработать свой национальный проект.
Малый национализм является столь же искусственным, механистическим и прагматическим, как и любой другой национализм. Его социальными заказчиками является буржуазия Руритании, а исполнителями — интеллигенция, получившая образование либо в Империи, либо в Мегаломании. Эта интеллигенция, познакомившись с большим национализмом, строит его аналог в малой форме. Это такой же политический, инструментальный и прагматический проект, как и большой национализм, и оснований для реализации у него ровно столько же. Все зависит лишь от того, хватит ли сил у малого национализма противостоять большому национализму. Часто все решает исторический контекст: благоприятные условия для успеха малого национализма создают либо государственный кризис либо внешние обстоятельства. Тогда создается новая нация (с обязательными страдающими от этого новыми этническими меньшинствами), и часть Руритании в свою очередь становится Мегаломанией. В новом национальном государстве всегда есть население, относящееся к иной этнокультурной или религиозной группе, и процесс повторяется снова, но только в рамках уже современного национального государства. При этом и на новых этапах в основе всего продолжает лежать принцип Империи, предопределивший полиэтнический и поликультурный характер Руритании в целом, т. е. всех сельских территорий вообще, когда-либо оказывавшихся внутри традиционного государства (Империи).
Малый национализм — политическое явление, всегда ставящее перед собой задачу построения независимого и суверенного национального государства. Эта задача может реализоваться в два этапа: получение относительной административно-политической автономии (автономизация) и окончательный выход из состава данной нации и образование новой нации с полностью независимой государственностью (сепаратизм).
В основе обоих этапов малого национализма лежит один и тот же сценарий, одна и та же логика, один и тот же алгоритм. Появляется класс региональной буржуазии, заинтересованный в установлении своего прямого экономического контроля над региональными массами. Цивилизованная интеллигенция разрабатывает национальный проект, т. е. проект «воображаемой общности»577, состоящий из реальных данных, перемешанных с прагматическими «мифами», призванный «обосновать» право на независимую государственность, связь с теми или иными этносами, народами, государствами, цивилизациями, религиями древности и т. д. На основании этого какая-то пространственная зона начинает претендовать на автономию — вначале административную, культурную, языковую и экономическую. Далее к этому добавляется политический момент: требование создания федеративной единицы, «национальной» республики и т. д.
Вторая фаза малого национализма представляет собой требование сепаратизма и сецессии (отложения от существующей государственности и образования новой нации). На этой фазе дело может дойти до вооруженной борьбы, сепаратистской герильи, незаконных вооруженных формирований и терроризма.
В случае сепаратизма возникает типичная для национального порядка правовая коллизия. Нация есть не что иное, как продукт договора, социального контракта, заключенного группой граждан. Представители малого национализма являются группой акционеров-миноритариев, желающих пересмотреть договор (в котором они, вероятно, вообще не участвовали или были недостаточно ознакомлены с его условиями, которые в иных случаях просто были изменены акционерами-мажоритариями, т. е. представителями большого национализма). Могут ли они это сделать? Теоретически да, и это закреплено в структуре «международного права» в «праве наций на самоопределение». Но на практике реализация этого права наносит ущерб (политический и коммерческий) большой нации (Мегаломании, по Геллнеру). Решение внутриполитических проблем признается как суверенное право нации, и поэтому никто в процессе выяснения отношений с акционерами-миноритариями извне вмешиваться не может.
Создается двусмысленная ситуация, которая в каждом конкретном случае решается по-разному. В Западной Европе мы знаем типичные примеры: сепаратизм басков в Испании, ведущих подпольную вооруженную борьбу за национальную независимость, конфликт в Северной Ирландии между ирландцами-католиками и англичанами-протестантами, герилья сепаратистов Корсики. В Восточной Европе распад Югославии продемонстрировал недавно все оттенки и нюансы политико-правовых аспектов этой коллизии. Распад национального государства Югославия (устроенного на основании федеративного признака), проходил по принципу домино, создавая новые и новые нации с новыми и новыми меньшинствами, поднимающими волну сепаратизма.
Во всех случаях наличие малого национализма — в мягкой и жесткой формах — представляет собой прямую угрозу территориальной целостности национального государства. Если определить какую-то часть национального государства как «нацию» или «национальную республику», то мы автоматически подразумеваем под этим возможность и вероятность ее суверенизации, отделения и превращения в самостоятельное, отдельное и независимое государство. Момент, когда это произойдет, зависит от множества факторов: от конкретного баланса сил между большим и малым национализмом, от могущества центральной власти, от сбалансированности социально-экономической ситуации, от внешнеполитического конфликта и т. д.
Ирредентизм
Другой разновидностью национализма является ирредентизм. Это явление означает, что одно государство имеет претензии на контроль над территориями другого государства на основании предположительной «этнической» однородности населения этих территорий с «этническим большинством» этого государства или на основании действительных или мнимых исторических прецедентов вхождения этих территорий в состав данного государства. Как и во всех разновидностях национализма, речь идет не о достоверной «этнической» однородности, но об искусственных реконструкциях, инструментально используемых национальной буржуазией в своих практических интересах. Когда создаются нации, действительный этнический фактор игнорируется, «сообщество» воображается на чисто прагматической конструктивистской основе. «Все сходства с реальными историческими персонажами являются случайными совпадениями». Точно так же национализм порождает концепты «родственных» анклавов на других территориях национальных государств или приводит исторические свидетельства на права (создавая еще один «миф» — о преемственности современного государства государству традиционному, «Империи», на основании которой возникал Мегаломания578).
Ирредентизм носит столь же прагматический характер, как нация и национализм в целом. В определенных случаях он может стать предлогом для формирования сепаратистских тенденций и малого национализма, отличающихся лишь тем, что в данном случае существует соседнее государство, которое может оказывать ирредентистским тенденциям политическую, дипломатическую, моральную и экономическую поддержку. В определенных случаях ирредентизм становится поводом для военной агрессии одного государства против другого.
Часто ирредентизм возникает тогда, когда вновь созданная нация (Мегаломания) включает в себя население, культурно близкое тому, которое составляет ядро другой, соседней нации (другой Мегаломании). Часто это происходит после распада Империи (традиционного государства), когда рассеянные по всем территориям представители ядерного этноса народа, мобилизованные историческими деяниями, оказываются меньшинствами в контексте новых национальных государств.
Колониализм и антиколониализм
С национализмом, особенно с его практической стороной, связан еще ряд явлений, требующих пояснения.
Явлением, характерным для Нового времени и создания национальных государств, является колониализм. Иногда у поверхностно образованных людей складывается впечатление, что практика колониализма принадлежит к глубокой древности, и что современность началась с процессов деколонизации и предоставления колониям, уходящим корнями в «темные» эпохи Средневековья, независимости. На самом деле все обстоит прямо противоположным образом. Колониализм есть явление современное, относится к эпохе Модерна и возникает в период возникновения национальных государств в Европе с доминацией буржуазии как класса. Захват колоний — это историческое деяние западноевропейской буржуазии, начавшей процесс захвата территорий планеты, оцененных как источник получения дополнительных ресурсов и дополнительной прибыли. В основе колониализма лежит принцип оптимизации экономики, расширения зоны торговли и конкуренции. Идеологией колониализма стал либерально-демократический расизм, оформленный в культурно-просветительском духе. Европейские колонизаторы представляли в остальных частях Света высокую культуру, гуманизм и Просвещение, а «дикари» и «варвары», населявшие остальные уголки планеты, должны были платить за цивилизаторскую миссию, принесенную белым человеком, рабским трудом, покорностью и «добровольной» отдачей в пользование колонизаторов всего того, что они считали «ценным».
Колонизация осмысливалась европейцами как модернизация и гуманизация мира, поскольку все неевропейские культуры рассматривались как менее гуманные и развитые. Смысл колониализма состоял в том, чтобы присоединить к национальному государству дополнительные «ничейные» земли, населенные «недочеловеческими» существами второго сорта, с которыми можно было не считаться. Поэтому колонии сразу организовывались по принципу наций. В центре находились колониальные столицы, где сосредоточивалась администрация, а периферия мыслилась как «пустыня, заселенная дикарями». На «пустых» территориях колоний строить нацию как искусственный механический агломерат было гораздо удобнее, чем на территории самой Европы, где каждый метр пространства был связан с историей и культурой и где подобной однородности «лабораторных» условий было достичь не просто. С этим связана одна из теорий национализма (Б. Андерсон, П. Чаттерджи), утверждающая, что национализм как проект был изначально реализован именно в европейских колониях, и в первую очередь в США, а затем только вернулся оттуда в Европу579.
Колониализм может рассматриваться как неотъемлемая черта национализма, свойственная первой стадии формирования наций. Можно истолковать колониализм как большой национализм, в зону действия которого включены, предположительно, «ничьи» территории, расположенные на определенном удалении от основного местонахождения нации (Мегаломании).
Антиколониализм, национально-освободительная борьба, в таком случае, будет проявлением малого национализма и полным повторением сценария, который мы рассматривали применительно к Руритании. Важно подчеркнуть, что антиколониализм заведомо содержит в себе чисто националистическую программу, со всеми ее обязательными элементами: созданием симулякра в виде «национальной идеи», появлением местной буржуазии, выстраиванием рациональных, секулярных и экономических стратегий, направленных на получения конкретной выгоды и т. д.
Этнические чистки, этноцид, геноцид
С национализмом связано такое явление, как «этнические чистки». Под «этническими чистками» следует понимать депортацию, вытеснение, изгнание или искусственное помещение в гетто или перемещение за пределы зоны политического контроля социокультурных групп, препятствующих реализации националистических проектов.
В процессе создания или защиты уже созданной нации ее политическое руководство может столкнуться с противодействием отдельных этнокультурных групп, отвергающих процесс формирования нации. Как правило, это выражается в претензиях на создание собственной нации, настаивании на сохранении данной зоны в составе предшествующей государственной модели или на присоединении анклава к соседнему государству (ирредентизм). Такие группы демонстрируют отсутствие лояльности к националистам, строящим или укрепляющим нацию, и отказываются играть по их правилам. Среди различных мер, направленных на преодоление сопротивления и его слом, используются «этнические чистки».
Смысл их состоит в освобождении территории от компактно проживающих на ней нелояльных доминирующему национализму групп. Так как нация основывается на полном контроле над территориями, и границы составляют ее сущность, то в крайних случаях контроль над пространством и создание однородного демоса на всей национальной территории осуществляется путем освобождения проблемных зон от бунтующего непокорного населения.
Примером этнических чисток можно считать создание системы резерваций — концентрационных лагерей смягченного типа для местных жителей (индейцев), отказывавшихся интегрироваться в американскую нацию, создаваемую колонизаторами.
Крайней формой этнических чисток является этноцид или геноцид, т. е. физическое уничтожение людей на основании факта их социокультурной, религиозной и этнической принадлежности. Цель этноцида (геноцида) точно такая же, как и у этнических чисток: установление полного контроля над национальной территорией и усиление степени однородности нации за счет уничтожения чужеродных социокультурных элементов.
Этноцид и геноцид являются феноменами Нового времени и имеют смысл исключительно в контексте нации и тех рационально-прагматических задач, которые она решает. Самым масштабным случаем геноцида (этноцида) стал в ХХ в. геноцид евреев в национал-социалистической Германии Гитлера, где национализм и расизм были возведены в ранг политической идеологии.
Пример Турции как иллюстрация этносоциологии нации
Ряд теоретических принципов этносоциологии и рассматриваемых ею явлений можно проиллюстрировать на примере политической истории Турции580.
В основе современной Турецкой Республики мы видим Османскую империю — традиционное государство, в котором потомки турков-османов (перемешанные с представителями самых разнообразных, но волевых и пассионарных этносов) составляли правящее сословие, элиту. Ядром Османской империи был полиэтнический, состоящий из множества социокультурных, языковых, религиозных групп, турецкий народ. Этнически этот народ строился вокруг тюркоязычия правящей верхушки осман с участием целого ряда других тюркских групп. Вместе с тем на турецкую знать огромное влияние оказали иранская и арабская культура, что сказалось, в частности, на османском языке, полном арабизмов и иранизмов.
Захватив Византийскую империю, турки сохранили ее внешние формы, заменив религию с православия на ислам, а правящую элиту греков-ромеев — на османскую знать.
Османская империя, Порта, сохраняла парадигму традиционного общества вплоть до начала ХХ в. Но уже с конца XVIII в. светские национальные государства Европы (Англия и Франция), а также имперская православная Россия стали поддерживать сепаратизм христианских этносов (греков, болгар, сербов, македонцев, армян, румын, молдаван и т. д.) для ослабления геополитического и экономического конкурента. Англия активно провоцировала анти-турецкие тенденции в арабском мире, приложив тем самым руку к созданию арабского национализма (вспомним эпопею американского агента влияния Лоуренса Аравийского, одной из ключевых фигур в конструировании арабских националистических движений). Этнокультурные и религиозные меньшинства периодически поднимали восстания против слабеющей власти османов, и часто эти выступления кончались жестокими этническими чистками вплоть до этноцида (особенно страдали от этого сербы и армяне) и всевозможными репрессиями.
Когда Османская империя окончательно ослабла, внутри нее возникла группа «младотюрков», куда входил молодой Мустафа Кемаль (будущий Ататюрк), ставящая своей целью формирование буржуазной нации. Младотюрки создали модель турецкого национализма, и, когда Империя начала рушиться, выступили в роли творцов нации.
Под руководством Мустафы Кемаля мобилизованные перед лицом распада государства жители Анатолии (отуреченные, исповедующие ислам, но с этнической точки зрения имеющие самое разное происхождение — от потомков древних анатолийских этносов, лувийцев, хеттов, до греков и славян, расселившихся там позднее) вступают в сражение с греками, армянами (представителями малого национализма) и англичанами (добивающими конкурента) и отвоевывают контроль над рядом территорий, где ранее располагалось ядро Османской Империи. На победах Ататюрка и географии этих побед строится совершенно новое явление — турецкая нация.
Хотя и в период Османской империи малый национализм христианских народов и арабов карался жестоким образом, новый национализм младотурков отличался еще более радикальной жестокостью. В Республике Ататюрка национализм становится основой политического устройства и все культурно-языковые, конфессиональные и этнокультурные меньшинства (курдов, армян, славян, греков и т. д.) жестким образом подавляются. Османской империи было в целом безразлично, как устроены этнокультурные милеты, области империи, на каком языке говорит население и какой веры придерживается. Репрессии начинались только тогда, когда меньшинства принимались за проекты малого национализма и сепаратизма. В новом национальном государстве Турецкой Республики все меняется: начинается массовое и глубокое отуречивание населения, жесткое внедрение унифицированного культурного, социального, политического типа. Религия становится частным вопросом, светскость же общеобязательной нормой. Конструктируется особая официальная версия истории современных турок (жителей Турции), непрерывно идущая от древних кочевников евразийских степей через осман к современности.
В такой ситуации в наихудших условиях оказываются компактно расселенные этнические группы курдов, сохраняющие свою этническую, языковую и культурную идентичность. Курды, самое большое меньшинство в современной Турции, начинают борьбу и создают проект курдского малого национализма (цель — автономия и сепаратизм).
Вокруг Турецкой Республики на территории бывшей Османской империи создаются другие нации, реализуются другие националистические проекты. Создается современная Греция, Федеративная Республика Югославия, Болгария, арабские государства (Египет, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия и т. д.). В этих национальных государствах теперь уже турки подвергаются репрессиям и этническим чисткам, и в большинстве случаев изгоняются из этих стран. Лишь в Болгарии остается количественно значимое турецкое меньшинство, а позитивные отношения у Турции развиваются лишь с населенной мусульманами-босняками Боснией.
Параллельно на острове Кипр складывается смешанная ситуация, когда на острове живут и турки, и греки; и те и другие имеют рядом национальные государства. Напряжение двух национализмов выливается в кипрские события 1967–1968 гг., когда в зоне компактного расселения греков происходят погромы турок, а в зоне расселения турок — погромы греков. В результате на остров вторгаются войска Турецкой Республики и создаются два государства: Республика Кипр (признана) и Турецкая Республика Северного Кипра (не признана).
Здесь мы видим все классические этапы формирования нации и все формы национализма.
Все начинается с распада Империи. Она изнутри атакуется различными проектами малого национализма, к которому на первом этапе следует отнести и малый национализм младотурков, стремящихся построить современное национальное турецкое государство на месте империи. Остальные же национализмы требуют построения независимых государств. Они находят поддержку извне. Отношения с Россией и поддержка ее военных планов в этом регионе становятся одной из причин армянской трагедии, жертвами которой стали сотни тысяч армян, подвергшихся репрессиям сначала со стороны гибнущего османского режима, а затем и от лица младотурков.
Распад Империи позволяет реализоваться сразу нескольким Мегаломаниям: Республика Турция, Греция, Югославия, Болгария и другие страны становятся независимыми нациями. В ходе выяснения границ наций идет кровопролитная война, сопровождающаяся радикальным национализмом и этническими чистками. Это осложняется и вмешательством Англии, по исключительно колониальным соображениям стремившейся ограничить самостоятельность турок и не дать им вернуть себе империю или хотя бы построить самостоятельную державу (потенциального конкурента Англии на Ближнем Востоке).
Турки, оказавшиеся в Болгарии и других странах, становятся меньшинством, и среди них начинает складываться малый национализм и ирредентизм. Малый национализм формируется и среди турецких курдов. На примере Кипрского кризиса можно наблюдать, как окончательно рушится этническая чересполосица имперской структуры милетов на последнем осколке этносоциологической зоны, где турки и греки жили бок о бок и где продолжали сохраняться нормы сосуществования именно народа, а не нации. Здесь мы видим, как через этнические чистки и этноцид происходит раздел территории на две неравные зоны (турки на острове в меньшинстве, греки в большинстве) и как ирредентизм турок-киприотов провоцирует вторжение Турции.
Эта картина демонстрирует нам практически все стороны национализма и все основные моменты формирования нации с этносоциологической точки зрения.
Глава 11
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГЛОБАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (СОЦИУМ)
§ 1. Социология гражданского общества
Гражданское общество как основной предмет социологии
Перейдем к следующей производной от этноса — к гражданскому обществу. Здесь мы переходим к собственно к социологии как таковой, без добавления «этно». Именно социология изучает общество в целом, подразумевая под этим сложное и комплексное общество, но рассмотренное (теоретически, на старте исследования) в отрыве от государства и, следовательно, от нации. Такое «общество» в чистом виде (Gesellschaft, по Теннису) и есть гражданское общество, состоящее из граждан как минимальных социальных единиц, способных объединяться в малые и большие группы и осуществлять различные формы взаимодействий.
Социология, возникшая в условиях развитого Модерна, в западных буржуазных обществах с развитой индустриальной структурой, рациональной наукой, сложившимися политэкономическими классами (буржуазией и пролетариатом), секуляризированной культурой и т. п., рассматривала общество, в котором она появилась, как подлежащую изучению базовую данность и невольно придавала ему нормативный статус. У Огюста Конта это проявляется наглядно581: он провозглашает необратимость прогресса, ведущего общество от религии через метафизику к торжеству позитивной науки. Следовательно, социальная история наделяется телосом, целью, реализуемой поэтапно — от худших и менее совершенных форм общества (традиционных) к наилучшим современным его формам. При этом, будучи социалистом и учеником Сен-Симона, Конт видит сущность истории не столько в появлении современных государств и наций, сколько в гражданском обществе, которое может и должно мыслиться вне государства как нечто самостоятельное и (концептуально и телеологически) первичное. Лишь позднее, применяя методы и принципы, выстроенные на основе изучения современного общества как гражданского общества, социологи стали изучать государство (социология политики), религию (социология религия), архаические культуры (социальная антропология и этносоциология) и их исторические трансформации (социология истории). Базой классической социологии были и остаются именно современные общества и развертывающиеся в них процессы.
Поэтому гражданское общество досконально, глубоко и разносторонне исследовано классической социологией, которая и была создана для этой цели и за более чем за сто лет своего существования прекрасно справилась с поставленной задачей. В этом отношении о гражданском обществе мы знаем намного больше, чем о любом другом, и можем опереться на огромный пласт социологических авторов и школ, отождествляемых с социологией как таковой.
Но это богатство имеет и негативную сторону. Огромный массив социологических теорий, школ, учений, авторов, концепций, методологий может породить впечатление, что общество, изучаемое социологией, т. е. современное гражданское общество, и есть общество как таковое, всегда было таким или стремилось таким стать. Поэтому в других обществах, отличных от современного западноевропейского и высокодифференцированного общества, мы заведомо будем сталкиваться с чем-то несовершенным, незаконченным, рудиментарным, примитивным и представляющим лишь относительный интерес. Все «несовременное» в этом случае будет мыслиться как принципиально снятое, рудиментарное и атавистическое, как источник дисфункций, аберраций и аномалий. Отсюда рождается прогрессистская мораль, свойственная некоторым направлениям современной социологии, утверждающим, что общество следует не просто изучать, но совершенствовать, модернизировать и улучшать. Ярче всего это видно у Маркса, предложившего метод «активной социологии», в которой изучение общественных отношений и социальных закономерностей должно быть тождественно идеологической и политической борьбе за построение «лучшего мира». В такой ситуации несовременные общества изучаются по остаточному принципу и в рамках в целом «негативной» программы. Прагматический смысл исследования архаики состоит приоритетно в том, чтобы проследить ее влияние на современность и его преодолеть.
Иными словами, современная социология смотрит на общество как таковое глазами современного общества и принимает нормативы современности за истину, не подлежащую сомнению и требующую лишь совершенствования, развития, модернизации. Тем самым гражданское общество и эпоха Модерна в каком-то смысле утрачивают свое историческое содержание и могут превратиться в «абстракции» или идеологизированный и политизированный дискурс.
Значение антропологии и этносоциологии
С учетом специфики классической социологии, изучающей в качестве нормативного современное гражданское общество, можно лучше понять значение социальной, культурной и структурной антропологии и собственно этносоциологии (ранее мы показывали, что, в сущности, это одно и то же, поэтому далее мы будем говорить только об этносоциологии в широком смысле). Особенность этносоциологии состоит в том, что она, в отличие от классической социологии, отказывается от базового допущения нормативности современного общества и строит свои теории на основании равноправия, равнозначности и равноценности всех типов обществ — древних и современных, простых и сложных, высокоразвитых и «примитивных». Такой подход основывается на широком «инклюзивном» («всевключающем») гуманизме, признающим, что мы имеем дело с «обществом людей» («menschlche Gesellschaft» Р. Турнвальда), начиная не только с эпохи гуманизма и Нового времени, но и ранее, во всех типах обществ и на всех этапах истории. Если нам, современным людям, в том или ином обществе нечто кажется «негуманным» или «недостаточно гуманным», это значит лишь то, что мы, в духе культурного расизма и некритического «этноцентризма», проецируем свойственное нашему обществу представление о «человеке» на иные общества и настаиваем на универсальности и эксклюзивности именно нашего толкования. Именно такой подход этносоциология отвергает и считает ненаучным, необъективным и аморальным.
Этносоциология очерчивает (в первом приближении) особую научную топику, в которой сама социология рассматривается как феномен социальной истории и проявление лишь одного типа общества наряду с другими. Проекция же методов классической социологии на несовременные общества видится не чем иным, как некритическим и нерефлекторным выражением социологических мифов о прогрессе, универсальности западноевропейской культуры и технологическом, социологическом и экономическом превосходстве сложных систем над простыми582.
Таким образом, этносоциология ставит на повестку дня тему о социологии самой социологии — причем в ключе, отличном от попыток, которые предпринимались самими социологами583. Задача этносоциологии состоит в описании и соотнесении между собой различных типов обществ как законченных, рядоположенных друг другу структурных явлений, без попыток их иерархизации и выстраивания исторической телеологии.
Простые общества существует во времени не только прежде сложных, но и наряду со сложными и после сложных обществ. Социальная история реверсивна, и если мы находимся в той или иной фазе цикла, не следует опрометчиво прнимать ее за нечто постоянное и однонаправленное, за нечто «монотонное» (в математическом смысле постоянного возрастания или сокращения величины). Именно эту реверсивность общества продемонстрировал в своих работах (особенно позднего периода) выдающийся русско-американский социолог П. Сорокин584.
Если классическая социология изучает несовременные обещства с позиции современных (т. е., обобщенно, с позиции гражданского общества), то этносоциология, напротив, начинает с изучения архаических и традиционных обществ через непредвзятый поиск тех критериев, которые определяют эти общества, без соотнесения с обществами современными и, соответственно, без какой бы то ни было оценки. И лишь проделав эту предварительную процедуру, этноосоциология переходит к рассмотрению обществ современных, вступая в пространство классической социологии. При всем сходстве методов и терминов, это представляет собой тем не менее совершенно новаторский подход: гражданское общество (современное общество) досконально изучено только инструментами самого гражданского общества, т. е. самим собой. В социологию самого себя оно не впускает «другого», т. е. современная классическая социология является автореферентной, эксклюзивной и «солипсистской». Лишь структурализм и некоторые методики Постмодерна ставят это обстотяльество под вопрос и предлагают иные подходы. Этносоциология идет еще дальше, и предлагает рассматривать сложное общество (гражданское общество) глазами простого общества, т. е. в термине «этносоциология» акцент делает не на «социологии» (как науке высокого Модерна), а на «этносе» (как первичном типе простого общества, койнеме). Поэтому когда мы говорим о гражданском обществе в контексте этносоциологии, мы не только выявляем место этноса в этом сложном и высокодифференцированном обществе, но проводим оценку и анализ этого общества с позиции этноса. Простое старается объяснить сложное. В этом состоит новизна и неожиданность этносоциологического анализа, рассматривающего постэтнические социальные формы как производные этноса.
Дойдя до третьей производной в форме гражданского общества, мы максимально удаляемся от простоты этнического общества. Но важно то, что дистанция отсчитывается именно от этой простоты, а не от сложности современного общества. Тем самым мы получаем возможность при рассмотрении гражданского общества, так же как в случае с народом и нацией, усложнив инструментарий, сохранить непрерывную связь с койнемой и ее изначальной структурой.
Гражданское общество как антитеза этноса
С точки зрения этносоциологии гражданское общество представляет собой реально существующий тип общества, находящийся на максимальном удалении от этноса. Другими словами, гражданское общество этнично в меньшей степени, нежели все остальные. Если народ есть полиэтническое усложенное общество, нация есть «псевдо-этническое» (нация как симулякр этноса) общество, то гражданское общество мыслится как не имеющее этнического измерения. Мы подчеркиваем, что речь идет о «реально» существующем обществе, т. к. теоретически можно представить себе и еще более удаленную от этноса социологическую модель, которую мы называет «постобществом» или «обществом Постмодерна». Мы рассмотрим его в следующей главе как возможность и тенденцию, но в настоящее время «постобщество» имеет статус проекта, который в будущем может реализоваться, а может и не реализоваться.
Постобщество мыслится как еще менее этничное, чем гражданское общество, образование, но в отличие от первого гражданское общество существует в реальности и поддается эмпирическому анализу, а постобщество в реальности представлено лишь отдельными деталями. Поэтому в рамках действительного мы имеем три производные от этноса: народ, нацию и гражданское общество. Четвертая производная возможна, теоретически проработана, но социально реализована лишь в лабораторном режиме в узко ограниченном сегменте общества гражданского.
С учетом такой поправки можно говорить о полярности и противоположности модели этноса и модели гражданского общества. Но эта противоположность будет совершенно неправильно истолкована, если мы проигнорируем (как это часто бывает) две промежуточные фазы — народ и нацию. Сравнивать между собой гражданское общество и этническое общество совершенно некорректно. На практике они могут прийти и приходят при определенных обстоятельствах друг с другом в соприкоснование. Но для того, чтобы достоверно восстановить структуру их соотношения, необходимо учитывать те трансформации, которые происходят с этносом на этапах народа и нации. Более того, необходимо всякий раз тщательно уточнять, что именно мы соотносим с гражданским обществом: собственно ли этнос (как простейшее общество, койнему) либо какую-то из его производных, первую или вторую? Без этого любой анализ превращается в недоразумение.
Гражданское общество, с учетом только что сделанных уточнений, может быть сопоставлено и с этносом, и с народом, и с нацией. Но в первую очередь следует соотнести его именно с нацией, т. к. в отношении нации гражданское обещство является первой производной, и его структура выстраивается в сопряжении именно с нацией — как ее продолжение, преодоление, снятие и отрицание.
Гражданское общество и нация
Концепт гражданского общества появляется почти вместе с европейскими нациями и внутри европейских наций. В его основе лежит та же базовая модель индивидуальной идентичности типичного горожанина третьего сословия, что и в буржуазном национализме. «Гражданин» — это «горожанин», житель города как особое социологическое явление. Это не этнос (сельские социальные группы), ни высшие сословия (клир и аристократия). «Гражданин» и этимологически и по смыслу означает строго то же самое, что и «буржуа». Поэтому гражданскеое общество мыслится как буржуазное общество, как общество горожан третьего сословия. Мы видели, что именно на основании этой социальной и политичсекой идентификации строится национальное общество, национальное государство. Поэтому гражданское общество и нация имеют строго общие корни и принадлежат к общему историческому «моменту». Они появляются в Новое время, в Европе и укрепляются по мере прояснения и расширение парадигмы Модерна. Нация состоит из граждан, поэтому национальное государство и является тем социологическим инструментом, который создает предпосылки для гражданского общества, делает его возможным, приближает его становление. Существование полноценной буржуазной нации и, соответственно, буржуазного национализма, который, как мы видели у Геллнера585, является не следствием нации, но инструментом ее становления, является необходимым условием появления гражданского общества.
Сходство гражданского общества с нацией состоит в том, что и то и другое основано на индивидуальном принципе гражданства. И нация, и гражданское общество есть добровольно объединившаяся совокупность граждан. И то и другое — явления западные, принадлежат к Новому времени и парадигме Модерна586. Обе общности основаны на принципе добровольности, рациональности, пользы, равенства возможностей и нормативных (врожденных) статусов всех членов (естественное право). И нация и гражданское общество являются искусственными конструкциями, разработанными интеллектуальными элитами Нового времени (философами, политиками, экономистами).
Но при этом гражданское общество отличается от нации в том, что отрицает субстанциальность коллективной идентичности (национальной в современном государстве), отказывает ей в нормативности, обязательности и неизбежности. Это напрямую связано с отношением гражданского общества к государству. Если нация имеет смысл только и исключительно в контексте государства, гражданское общество ставит под вопрос неизбежность и историческую оправданность существования последнего.
Гражданское общество представляет собой такую организацию общества, которая возможна вне государства, вне вообще каких бы то ни было искусственных (и тем боле естественных) форм коллективной идентичности. Более того, в теориях гражданского общества такая возможность считается позитивной, желательной и, в определенном смысле, предопределенной. История есть путь социального развития, направленный к гражданскому обществу. Гражданское общество мыслится как венец социального прогресса.
Фигура Гражданина (А. Кожев)
Философ-гегельянец А. Кожев, посвятивший ряд работ гражданскому обществу, применял диалектику Господин/Раб Гегеля (как общий вид модели социальной стратификации) к гражданскому обществу587. В традиицонном обществе эта пара выступает наглядно и напрямую: Господин силен и смел, Раб — слаб и труслив. Господин смотрит смерти в лицо. Раб поворачивается к ней спиной. Господин платит за свое господство смертью, Раб получает в качестве компенсации за рабство жизнь. В национальном государстве эта пара — элиты и массы — смягчает свою оппозицию и переносит ее в сферу экономики. Но, как показал Маркс, с которым Кожев в целом согласен, противоречия тем самым не снимаются, но только обостряются. Господин становится богатым и еще более богатеющим эксплуататором, капиталистом, буржуа. Раб — бедным и еще более беднеющим, эксплуатируемым, пролетарием. От господства, основанного на силе и феодальной сословности, происходит переход к господству, основанному на богатстве. В этой новой конфигурации господства как чисто экономического фактора и состоит специфика буржуазных наций как социополитического и экономического образования.
Гражданское общество, по Кожеву, должно преодолеть эту оппозицию диалектически. Но не через пролетарскую революцию, как это предполагал Маркс, а через замену фигур Господина и Раба на третью фигуру, которую Кожев называет «Гражданином». Гражданин — это синтез Господина и Раба. Гражданин не сталкивается со смертью лицом к лицу, но и не бежит от нее. Он отказывается от экстраполяции насилия. Смерть становится его личной индивидуальной проблемой. Гражданин создает общество с отмененным неравенством. Неравенство помещается внутрь человека.
Показательно, что Кожев берет в качестве синтетической фигуры именно «гражданина», т. е. «буржуа», тогда как Маркс предлагал создавать бесклассовое общество («социализм») на основании фигуры «пролетария». Гражданское общество Кожев мыслит как либеральное общество, где продолжает доминировать фигура представителя третьего сословия, но только дифференциал между богатыми и бедными и экстраполяция страха и смерти на соседние конкурирующие национальные государства смягчается и постепенно сходит на «нет». Господин (богатые) делится своим «господством» с Рабом (бедными) и искусственно подтягивает его до своего уровня. Это возможно в силу того фактора, что буржуазное общество по природе своей рационально и расчетливо. И в определенный момент оно может рационально взвесить издержки, которые приходится платить за межнациональные конфликты (мировые войны ХХ в. и всей предшествующей истории Европы Нового времени) и классовые битвы внутри самих наций, разделенных на антагонистические социальные страты. Поделиться избытками с нуждающимися, отказаться от экстериоризации ужаса и межнациональных конфликтов, оставить в стороне «национальные мифы» и перейти к мирному сосуществованию, распылить власть из пункта ее концентрации (в руках экономической элиты) на всех граждан намного разумнее, выгоднее, прибыльнее и экономичнее, чем продолжать существовать в рамках межнациональных конфликтов и классовой борьбы. К движимым «волей к власти» феодалам с такой идеей обращаться было нелепо и несвоевременно. Но рациональные буржуа на основании критического и расчетливого осмысления издержек политико-экономической истории Нового времени, вполне могут пойти на такой шаг добровольно и учредить фигуру Гражданина как альтернативы Господину и Рабу, как их синтез.
Смена пары Господин/Раб (буржуа/пролетарий) на обобщающую фигуру Гражданина является наиболее внятным современным обобщением проекта построения гражданского общества. В нем мы видим два принципиальных момента, отличающих его от нации и позволяющих говорить о том, что мы имеем дело именно с производным от нации. Это отказ от коллективной идентичности в форме нации (откуда вытекает отмена государств как субъектов права и истории) и упразднение социальной стратификации (оставшейся в современном государстве от государства традиционного — хотя и в производной форме).
Эгоцентрум
Форма чисто индивидуальной самоидентификации, при которой человек отождествляет себя лишь с собственной индивидуальностью и ни с чем иным, может быть определена как особая форма — эгоцентрум. По аналогии с этноцентрумом картина мира развертывается здесь вокруг определенной оси. Но если в этноцентруме этой осью является сам этнос как органическое предшествующее всякой индивидуальности всеобщее, цельное, интегральное начало, то в эгоцентруме этой осью служит индивидуум. Эгоцентрум так же «субъективен», как этноцентрум, и так же «наивно» выстраивает мир вокруг себя, как интенциональный процесс. Он оперирует с ноэзисом и ноэмами, которые являются не общеэтническими, а сугубо индивидуальными. Жизненный мир в эгоцентруме индивидуален и некритичен. Он подчиняется определенной логике, которая строится не на коллективной норме, а на выстраивании произвольных ассоциаций. Это явление эгоцентрума тщательно изучается в феноменологической социологии А. Шюца588 и в «этнометодологии»589 Г. Гарфинкеля. Эгоцентрум выстраивает свои временные и пространственные горизонты, оперирует со своими субъективными истинами и достоверностями. Модерируя, он пропускает сквозь себя потоки «общественного мнения», как правило, совершенно не заботсясь об их достоверности.
В отличие от обществ национальных государств и тем более от народа (с его четко выраженными иерархиями и сословными парадигмами), эгоцентрум считается свободным от давления внеиндивидуальных нормативов. Он конфигурирует мир, как ему удобно и «сподручно» при отсутствии каких бы то ни было внеиндивидуальных императивов. Если в рамках нации носителем базовой рациональности является государство: оно поддерживает и финансирует науку, образование, издает законы и следит за их исполнением, формулирует стратегии и конфигурирует идентичности, развертывает и модифицирует национальную идею, то в гражданском обществе рациональность переносится на индивидуума и становится внутренним делом эгоцентрума.
«Эгоцентрум рационален и действует рационально», гласит закон гражданского общества. На этой позиции стоят представители «понимающей социологии» М. Вебера и большинство социологов американской Чикагской школы. Но эта рациональность эгоцентрума является достоверно фиксируемой, пока мы имеем дело с сильным обществом (национальным или социалистическим), которое, так или иначе, заботится о формировании именно рационального гражданина. В более либеральной модели рациональность эгоцентрума, будучи данностью, не подлежащей постановке под вопрос, считается его личным делом, что открывает пути автономизации этой рациональности, ее индивидуальному и субъективному толкованию. То, что одному индивидууму кажется рациональным в рамках его эгоцентрума, другому может показаться иррациональным и т. д. Эта проблема в гражданском обществе решается в сторону все большего расширения границ рациональности, т. е. в пользу признания «рациональным» того, что сам индивидуум считает рациональным.
Это наглядно проявляется в вопросах диагностики психических заболеваний. В сильном обществе психическая норма довольно жестко описана и отклонения от нее квалифицируются как «заболевания». Эта норма имеет социальный характер и полностью зависит от того, каковы социальные критерии болезни в данном обществе. В гражданском обществе критерии «психического заболевания» существенно расширяются и по-настоящему «психически больным» человек признается только в случае перманентного полностью неадекватного поведения (типа кататонии, слабоумия или тяжелых психических расстройств) или когда он сам воспринимает свое состояние как «болезнь». Все остальные случаи попадают в категорию «индивидуума со «своеобразным поведением», «чудака», «экстравагантного типа» и т. д. Иными словами, суверенность эгоцентрума в гражданском обществе тяготеет к ее максимализации. В конечном счете, рациональным, логичным, обоснованным признается то, что сам индивидуум признает таковым.
Другой пример эгоцентрума состоит в гендерном волюнтаризме, т. е. в возможности выбора гендера в гражданском обществе. Если мы продолжим линию доверия эгоцентруму, то в какой-то момент вынуждены будем признать, что человек обладает тем полом, к которому он сам себя относит. Гражданское общество основано на презумпции невмешательства во внутренние дела эгоцентрума, на уважении к его суверенной индивидуальности. Общий критерий, социально зафиксированный во всех остальных типах общества, здесь подвергается сомнению. Поэтому то, что в иных формах общества воспринимается как перверсия и патология, в гражданском обществе признается выполне приемлемым, пока оно не задевает напрямую других индивидуумов, не вторгается на территорию иных эгоцентрумов. Оставаясь в рамках своей индивидуальности, любой может думать и делать что угодно, считать себя и других кем угодно и делать все, что угодно.
Гражданское общество и пацифизм
Важнейшим принципом, который отрицается гражданским обществом, является принцип национализма как неотъемлемого свойства нации, национального государства.
Национализм есть экстериоризации понятия «другого» как врага и в этом качестве всегда предполагает потенциальный или актуальный военный конфликт. Война является естественной формой сосуществования национальных государств, это их неотъемлемая функция. Государства в значительной степени и создаются для защиты от агрессии и для осуществления (в определенных случаях) этой агрессии. В большинстве исторических ситуаций грань между обороной и нападением является чрезвычайно зыбкой. Поэтому нация предполагает возможность войны, а главным атрибутом суверенности государства является способность оказать отпор внешней агрессии.
Пока буржуазное общество устроено по принципу наций, война остается неотъемлемой частью его судьбы, а национализм (в мягких или радикальных формах) — необходимым аспектом политической идеологии.
Против этого гражданское общество выдвигает противоположный принцип пацифизма. Он является важнейшим пунктом гражданского общества. Пафицифизм имеет несколько измерений. Он утверждает, что:
– ведение войн между нациями затратно, убыточно и нерационально, а мирные договоренности способны всегда решить проблемы более выгодным способом, поэтому необходимо в междунароной политике перейти целиком к экономике и отказаться от силовых методов решения спорных ситуаций;
– никакие материальные выгоды не должны ставиться выше человеческой жизни, т. к. нет ценностей, более весомых, чем жизнь индивидуума, гражданина, и он не должен ею жертвовать ни для каких целей (это вытекает из строго индивидуальной идентичности и отсутствии веры в иные формы жизни, кроме индивидуального земного существования);
– современные буржуазные государства, основанные на общей социально-политической и экономической логике, имеют намного больше общего, чем различий, и по мере их модернизации и рационализации, должны осознать, что интеграция и сотрудничество для них есть выражение социоально-исторической судьбы.
Пацифизм, таким образом, отменяет основные моменты нации, а именно:
– национализм и экстраполяцию образа врага на другую нацию («противотип»);
– вес и значение (искусственной) коллективной идентичности (нации в целом) для индивидуума;
– самоидентичность нации как самостоятельного суверенного образования, способного отстаивать в своих границах национальную же модель общества.
Гражданское общество и либерализм
Если пафицизм есть форма обоснования гражданского обещства в области межнациональных отношений, то либерализм есть идеология, которая претендует на обобщение основных принципов гражданского общества в нормативном ключе.
Либерализм исходит из принципа строго индивидуальной идентичности гражданина. Само слово «libertas», на латыни означающее «свободу», подразумевает «свободу от»590 всех форм внеиндивидуальной идентичности — этнической, религиозной, государственной, сословной или национальной. «Индивидуум есть только индивидуум», настаивает либерализм. И любые формы «социального договора», заключенного индивидуумами между собой, могут быть расторгнуты и перезаключены заново. Оптимальным будет такое общество, которое построено на принципе абсолютной свободы индивидуума и полной добровольности создаваемых им социальных, политических и экономических конструкций.
Либерализм рассматривает в качестве приорита именно экономическую деятельность индивидуума. Человек есть «homo ecomomicus», «человек экономический». Все в человеке есть сугубо индивидуальное дело, он может быть тем, кем захочет и каким захочет, но именно в материальном обеспечении своих нужд он сталкивается с другими людьми и, следовательно, вторгается в сферу их приватности. Поэтому именно здесь требуется установить правила, которые будут гарантировать всем участникам экономического процесса соблюдение их свобод и оградят их от посягательств со стороны других индивидуумов. Эти правила называются «свободным рынком». Рынок есть область взаимодействия индивидуумов, исключающая применение силы. Конкуренция, соревнования, противоречия — все это остается в сфере предпринимательской экономической деятельности и никогда не должно переходить в область физического насилия. Отмена принципа насилия в пользу приниципа экономической свободы есть цель либерализма.
Существуют разные версии либерализма, и некоторые из них вполне сочетаются с нацией и сильным государством. Так, например, основывающейся на либерально-индивидуалистическом понимании человека Томас Гоббс591 считал человеческую природу «греховной» и «злой» (откуда принцип «человек человеку волк») и был уверен, что обеспечить всем свободу и безопасность друг от друга может только добровольно созданное, но сильное и имеющее право на законное насилие государство. Исходя из пессимистического взгляда на природу индивидуума, либерализм требует создания крепкой нации. Но если отнестись к природе человека как к чему-то заведомо добродетельному или, по крайней мере, нейтральному (как, например, Дж. Локк592), мы получим иную версию либерализма, которая допускает, что человек, выросший и воспитавшийся в нормальном социальном окружении, скорее всего, не будет нуждаться в насильственном укрощении своих «злых импульсов» и станет поступать с другими так, как он бы хотел, чтобы с ним поступали другие.
Именно эта «оптимистическая» версия либерализма (развитая Локком и, особенно, поздним Кантом) лежит в основе гражданского общества. Индивидуумы сами по себе считаются добрыми или нейтральными. Они могут согласовать свои интересы и построить свободное общество по принципам рынка и без государства. Более того, государство в какой-то момент начнет им мешать. Поэтому либералы этого направления полагают, что надо сразу строить общество на универсальных принципах экономической свободы и индивидуальной идентичности, постепенно двигаясь к отмене государств и наций в духе ранее отмененных иных форм коллективной идентичности593.
Гражданское общество и социализм
Особым направлением гражданского общества стали социалистические теории. На первом этапе (в первой половине XIX в.) они не конфликтовали напрямую с либерализмом и представляли собой две стороны общего «прогрессистского» направления в буржуазной мысли. Социалисты представляли собой наиболее последовательных сторонников гражданского общества, выступали за равноправие граждан, за пацифизм, за сглаживание социальных противоречий в обществе. Если для либералов принципиальным было равенство возможностей на старте, которое могло привести и приводит всегда к неравенству конкретного и действительного положения отдельных членов общества (классовая дифференциация), то социалисты стремились уравнять не только возможности, но и сгладить реальную дифференциацию, т. е. искусственно перераспределить материальные блага в пользу бедных, неимущих, экономических слабых.
Именно социалисты были, как правило, самым последовательными противниками национального государства и сторонниками объединения наций в единое сверхнациональное общество. При этом они выступают за сглаживание не только внешних (межнациональных, межгосударственных) противоречий, но и за примирение классов и смягчение межклассового напряжения. Социалисты считают, что либерализм создает слишком высокий социальный дифференциал между богатыми и бедными, что делает общество чрезмерно конфликтным и нестабильным. При этом классовые противоречия могут перерасти в войны и вовлечь в репрессии государство и его карательную полицейскую систему. Поэтому социалисты выступали за такое государство, которое было бы пацифистским вовне и уравнивающим богатых и бедных внутри. Индивидуальная свобода должна, по их мнению, уравновешиваться социальной справедливостью — только тогда можно построить «общество благополучия», т. е. гражданское общество.
Гражданское общество и коммунизм
Крайней формой социализма является коммунизм, основные принципы которого были сформулированы Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом594. Основные принципы коммунизма состоят в обостренном конфликтологическом подходе к рассмотрению социально-политической истории обществ, что находит свое выражение в теории классовой борьбы, главной для коммунистической идеологии.
Капитализм и создание буржуазных наций в Европе Нового времени для коммунистов представляет собой высшую форму социальной дифференциации, переведенной из опосредованных классовых противоречий в непосредственное столкновение труда и капитала. В докапиталистических обществах классовые противоречия были завуалированы иными — нематериальными, неэкономическими формами: религией, сословиями, традицией и т. д. При капитализме сущность противоречий обнажается. Буржуазия и пролетариат воплощают в себе движущие антагонистические силы истории в чистом виде.
Национальное государство является высшей исторической формой капитала. Оно основано на национализме в отношении с другими национальными государствами и на классовой оппозиции между богатыми (правящий класс, держащих в руках государство) и бедными (в первую очередь, городским пролетариатом). Для Маркса «добром» является труд и пролетариат, бедные и угнетенные, являющиеся объектами эксплутации, угнетения и обмана со стороны буржуазии, которая является «злом». Борьба «добра» со «злом», по Марксу, должна проходить следующим образом:
– сознательный промышленный пролетариат развитых капиталистических стран создает партию;
– основой партии становится идеология — одновременно антикапиталистическая и интернациональная;
– коммунистические партии разных стран объединяются друг с другом, чтобы вести борьбу с мировым капитализмом там, где открывается для этого возможность;
– капитализм периодически входит в зону кризисов и войн, что надо использовать для захвата партиями пролетариата власти через революционную борьбу;
– захватив власть в ряде развитых кпталитических стран, необходимо распространить революционную борьбу на остальные страны (мировая революция);
– в результате будет построен мировой коммунизм, в котором будут отменены и межнациональные трения (сами государства исчезнут), и классовые противоречия (капиталисты будут уничтожены);
– возникнет мировое бесклассовое коммунистическое общество, основанное на полном равенстве.
В итоге должно возникнуть постнациональное и постклассовое общество, которое отличается от гражданского общества следующими деталями: оно будет основано не на нормативной фигуре «гражданина» как «буржуа», а на нормативной фигуре «пролетария», «рабочего» и возникнет революционным путем через уничтожение буржуазии. Вместе с тем теория «мирового коммунизма» имеет много общих черт с концепцией «гражданского общества»: обе предполагают снятие межнациональных (упразднение госсударств) и классовых (уничтожение классов) противоречий. Способы, темпы и формы достижения этой цели в обоих случаях существенно отличаются.
Гражданское общество и глобальное общество
Гражданское общество мыслится как этап, следующий за национальными обществами. На этом этапе национальные государства слабнут, релятивизируются, а затем и полностью отменяются. Поэтому гражданское общество, будучи реализовано на практике, автоматически влечет за собой конец суверенитета, упразднение государств и исчезновение наций595.
Форма коллективной идентичности, преобладавшая в нации, в гражданском обществе полностью снимается. Нация и гражданское общество несовместимы. Нация есть то, что препятствует гражданскому обществу состояться в полной мере.
Поэтому гражданское общество мыслится обязательно интернациональным и надгосударственным. Иными словами, реализованное, состоявшееся гражданское общество не может не быть глобальным. Глобальный характер гражданского общества напрямую вытекает из отношения концепта «гражданского общества» к «государству» и «нации».
Гражданское общество видит в нации и государстве лишь преграду, помеху, препятствие. И хотя в отношении сословного общества (народа, традиционного государства) нация выполняла «прогрессивную» роль (с точки зрения сторонников гражданского общества), с точки зрения дальнейшего «развития» и «прогресса» она же становится преградой. Нация дробит общество на индивидуумов, т. е. создает граждан. Она способствует захвату власти представителями третьего сословия (буржуазии). Она переводит социальные противоречия (элита/массы) в плоскость чисто классовых и экономических (буржуазия/пролетариат). Она сплачивает атомарное население (демос) и ликвидирует остатки этносов (урбанизация) и народа (отмена сословных привелегий наследственных элит). Она конституирует демократию и превращает ранее разнородные локальные группы в однородный демос. Она продвигает секулярную культуру и рациональную науку.
То есть нация создает предпосыки для гражданского общества. Но в то же время нация становится в какой-то момент ограничением для финального развития этих тенденций.
Искусственная и техническая национальная идентичность и национализм начинают сковывать дальнейшее освобождение индивидуума. Она отвлекает буржуазию на межнациональную конкуренцию от реализации глобального рационального проекта и оптимизации ресурсов земли. Она создает предпосылки для классовой борьбы, которая расшатывает капиталистический мир изнутри. Она ограничивает демократию конкретными административными и политическими границами, занижая ее универсальное значение. Поэтому для того, чтобы гражданское общество состоялось по-настоящему, нация должна исчезнуть отмереть. И на место нации должно прийти иное общество, которое может быть только глобальным596.
Поэтому гражданское общество и глобальное общество в определенном смысле являются синонимами. Когда гражданское общество будет окончательно построено, оно станет глобальным. И даже сегодня, когда оно только еще строится, оно уже замысливается как глобальное явление. Поэтому гражданское общество и глобальное общество есть одно и то же, и мы рассматриваем их как третью производную от этноса, хотя и выделяем в два типа обществ.
Поясним это несколько подробнее.
Гражданское общество как фазовый переход к глобальному обществу
С точки зрения теоретического концепта гражданское общество и глобальное общество суть строго одно и то же. Но мы вынуждены проводить между ними различия по той причине, что гражданское общество уже есть (пусть частично), а глобальное общество пока существует лишь в потенции, как цель, как горизонт. Есть серьезные основания считать, что оно может быть реализовано в ближайшее время, но, т. к. пока оно все же остается лишь замыслом (хотя и вполне реалистичным), мы не можем считать его эмпирическим фактом. Разница между гражданским обществом и глобальным обществом состоит лишь в том, что первое есть, а второго нет. Теоретически, когда (и если) глобальное обещство реализуется, оно будет ничем иным, как гражданским обществом глобального масштаба. Но это так лишь в теории. На самом деле, мы не можем быть уверенными, так ли это произойдет. История имеет множество версий, и будущее является открытым. Отсюда и необходимость строго отделять гражданское общество от глобального, несмотря на теоретическое тождество и того и другого.
Гражданское общество начинает вызревать уже на заре Нового времени597. Оно сопутствует рождению национальных государств: с эпохи Возрождения и Реформации в Европе существуют проекты объединения всех европейских государств в единую конфедерацию. Эти проекты часто становятся основаниями различных мистических организаций, таких как итальянские неоплатоники, немецкие и английские розенкрейцеры598, с начала XVIII в. масонские ложи599. Более того, на заре Нового времени идеи гражданского общества являлись более распространенными, чем в эпоху расцвета национальных государств, так что гражданское общество как проект развивалось не поступательно, а циклически.
В любом случае национальные государства создавали предпосылки для становления гражданского общества, которые постепенно накапливались по мере урбанизации, индустриализации, внедрения национального «идиома», политизации широких масс, вовлечения населения в секулярную, светскую культуру — через образование, распространение книг и наук. Элементы гражданского общества особенно развивались в культурных, филантропических организациях, социальных движениях, масонских ложах, прогрессистских партиях, центрах искусств и культуры, в университетах и академиях, в научных кругах, в профессиональных объединениях и свободных ассоциациях граждан вокруг любых серьезных или игровых занятий и интересов. Гражданское общество постепенно формировалось в тех секторах современного государства, где национальная идентичность общегосударственная политизация были ослаблены, частным лицам или группам лиц была предоставлена свобода поведения и действий в отрыве от каких бы то ни было нормативно-коллективных обязательств. Одной из приоритетных форм таких объединений традиционно были приватные клубы.
Гражданское общество, таким образом, постепенно приобретало зримые социальные формы. Задуманное исторически вместе с национальными государствами, оно шло к своему воплощению через ряд диалектических трансформаций, распространяя свое влияние на все более широкие слои национальных государств. При этом гражданское общество выступало в целом как оппозиция национальным государствам и как форма социальной организации, противоположной всем разновидностям национализма. Именно в этой среде гражданского общества приоритетно развивались все антинационалистические и антинациональные проекты, складывались теории, жестко критикующие все формы национальных государств. В частности, одним из самых последовательных проектов этого толка стала теория либерала Карла Поппера об «открытом обществе»600. «Открытое общество» и есть гражданское общество в его глобальном выражении.
Гражданское общество в его реальности можно рассматривать как фазовый переход к глобальному обществу, который еще не произошел в полной мере, т. к. национальные государства сегодня еще играют в мировой политике и во внутреннем устройстве наций решающую роль. И вместе с тем, горизонт глобального общества становится все более и более близким и конкретным, и определенные моменты глобализации стали фактом.
Идеология прав человека
Принцип эгоцентрума выражается политически и идеологически в концепции «прав человека». При всей видимой очевидности такого понятия мы имеем дело с искусственным конструктом. Концепция «прав человека» является конкретным модулем перехода от принципа гражданства в его привязке к нации (гражданство как правовая, юридически фиксируемая величина), к гражданству в смысле принадлежности к глобальному гражданскому обществу, в котором каждый человек фактом своей принадлежности к человеческому роду обладает присущим ему гражданским правом. Тема «прав человека» заведомо несет в себе сверхнациональный (и в чем-то антинациональный) смысл, поскольку она стремится поставить значение норматива гражданского обещства над нормативом общества национального. Гражданин национального государства (теоретически) защищен гражданским кодексом, конституцией, гарантированными правами. Он не нуждается в дополнительном вторичном подтверждении своего гражданского статуса. Лишь тогда, когда национальное законодательство не соблюдается самим госуларством, ему может понадобиться вмешательство правозащитных орагнизаций, призванных контролировать соблюдение прав человека. В этом случае силой, поддерживающей права человека вопреки национальному государству, эти права не соблюдающему, выступает совокупность национальных государств, где институты гражданского общества и идеология прав члоевека имеют больше влияния на политику и считаются главенствующей нормативной социополитической моделью. В этом случае на конкретное национальное государство оказывается давление со стороны пока еще не зафиксированного точно, но находящегося в стадии своего воплощения глобального гражданского общества. Концепция «прав члеовека» является важнейшим атрибутом этого общества. Там, где есть правозащитники, развертываются процессы глобализации и десуверенизации национальных государств. Это происходит в силу самого содержания идеологии прав человека, которая стремится зафиксировать глобальные и сверхнациональные нормативы в понимании гражданства вопреки гражданству, понятому в национальном ключе.
Еще ярче сверхнациональный характер прав человека проявляется в случае индивидуумов, у которых есть проблемы с гражданством. Это касается людей, не имеющих документов, перемещенных лиц, депортированных, бродяг, беженцев, нелегальных мигрантов и т. д. Их статус с точки зрения национального законодательства приравнивает их к негражданам, т. е. они поражены в гражданских правах. Нация всегда отделяет граждан от неграждан, в этом ее принципиальное политико-правовое устройство. Но с точки зрения гражданского общества любой человек есть гражданин, если он человек. И у него есть право принадлежать к гражданскому обществу. Для нации у него нет прав, он негражданин, а для гражданского общества они есть, и он гражданин. Здесь видно, что мы имем дело с двумя нормативными политико-правовыми и идеологическими категориями: национальной и глобальной, всечеловеческой. Смысл идеологии прав человека состоит в том, чтобы поставить нормативы гражданского общества выше национальных нормативов, подчинить национальное понимание гражданства — глобальному, заставить нацию признать гаржданское общество высшим приоритетом, и на этом основании распространить свое представление о гражданстве на тех, кто его, с государственно-правовой и административной точки зрения, иметь не может. Если нация идет на это, она глобализируется и десуверенизируется. Если она сопротивляется и ставит национальное понимание гражданства выше глобального, она подвергается давлению со стороны тех стран, которые продвинулись по пути признания идеологии прав человека главенствующей еще дальше.
В гражданском обществе человек есть правовой статус, у него есть права. Человек есть заведомо гражданин. По мере того, как нации будут признавать такое положение дел, они будут постепенно глобализироваться, десуверенизироваться и передавать полномочия внегосударственным и вненациональным инстанциям.
Евросоюз как этап глобального общества
Интеграция европейских государств в единое политическое и экономическое целое — Евросоюз — является прекрасным примером того, как от теорий гражданского общество можно перейти к конкретной политической и экономической практике. Создание Единой Европы в последние 50 лет стало примером реализации этого проекта. В относительном смысле в пределах самой Европы можно считать создание Евросоюза фактом осуществившейся глобализации. В Европе в ХХ в., и особенно в период после Второй мировой войны, были созданы развитые институты гражданского общества в рамках национальных государств и на основе общности социокультурного типа. Еще успешнее эти процессы шли в интеграции отдельных отраслей европейской экономики. Постепенно все это привело к тому, что европейские государства приняли политическое решение о передаче власти, суверенных полномочий сверхгосударственной инстанции в лице Евросоюза. Отныне Европа представляет собой государство с общим Президентом, парламентом и рядом общеевропейских политико-административных и финансовых структур. Это не только пример объединения ряда государств в одно целое, но и первый исторический случай построения нового типа общества на наднациональной основе. Европейское общество замыслено и реализовано как гражданское, наднациональное и вненационанальное. В ограниченном контексте можно считать его примером успешно осуществленной глобализации. Конечно, это не совсем глобальное обещство, т. к. над европейскими национальными государствами устанавливается еще одна форма государственности — Евросоюз. Но, учитывая серьезнейшие противоречия между национальными государствами, которые раздирали Европу в течение последних веков, сам факт выхода за эти пределы, является чрезвычайно важным. Он показывает, что гражданское общество может быть настолько сильным, чтобы предопределить политическую конфигурацию постнационального устройства, и что глобализация — пусть пока в ограниченном масштабе — вполне возможно, а следовательно, глобальное общество на наших глазах приобретает зримые черты.
Соединенные Штаты Америки как пример успешного гражданского общества
Другим примером гражданского общества могут служить США. Структура этого государства с самого начала строилась по искусственным лекалам, как лабораторный эксперимент по воплощению в жизнь крайних протестантских утопий601. Америка считалась для многих европейских сектантов «землей обетованной», на которой они задумали построить общество нового типа, основанное на рациональности, просвещенности, научности и эффективности, чему в самой Европе мешали средневековые традиции и культурные ограничения. США создавались преимущественно представителями третьего сословия, и буржуазная модель общественного устройства лежит в самом основании северо-американской государственности. В США никогда не было сословной аристократии, т. е. это государство сразу образовывалось как нация — при этом без предыстории народа или традиционного государства. США были созданы на «пустом месте» (предварительно очищенном от автохтонных этносов, индейцев, населявших его до прихода колонизаторов). И политическая система «штатов», обладающих значительной степенью правовой и административной автономии, вся система американского федерализма, а также многие другие особенности американской политической и управленческой системы (например, отсутствие федерального правительства) может быть рассмотрена как образец децентрализации, являющейся одной из главных черт гражданского общества.
В подтверждение того, что некоторые этносоциологи (Б. Андерсон, П. Чатерджи) считают, что первыми прототипами европейских наций были как раз колонии и, в первую очередь, США, именно в США мы встречаем раньше всех развитые институты гражданского общества — секты, клубы, филантропические организации, масонские ложи, профессиональные объединения, гуманитарные кружки, спортивные союзы и т. д. Американская индентичность изначально была сопряжена с эгоцентрумом, с признанием полной свободы быть кем-угодно, считать себя кем-угодно и стать кем-угодно за любым членом общества — на этом основана американская мораль.
В современных США эти тенденции так же сильны, как и на предыдущих этапах истории этой страны, и многие аналитики считают, что американское общество представляет собой образец гражданского общества. Эта версии качественно отличается от Евросоюза; совершенно по-разному складывалась и история возникновения обоих этих обществ. Но в определенном контексте США могут рассматриваться как одна из самых законченных моделей, где многие стороны гражданского общества были реализованы на практике602. Именно это и принято называть «american way of life».
Глобализация и районирование планеты: белый Север и небелый Юг
Глобализация постепенно обрисовывает новое географическое и социологическое районирование территории Земли. По мере сосредоточения власти в руках наднациональных инстанций и десувернизации национальных государств происходит выявление реалий, называемых геополитиками «богатый Север» и «бедный Юг», или иначе «ядро» и «периферия»603. К зоне «богатого Севера» относятся те страны, где гражданское общество развито в максимальной степени и где формируются центры экономической жизни. К «богатому Северу» можно смело отнести США и Евросоюз, т. е. страны Атлантического Альянса. Это и есть «ядро», здесь сосредоточены основные финансовые, политические и военно-стратегические ресурсы человечества. С социологической точки зрения «богатый Север» может быть взят как синоним и матрица «глобального общество», поскольку именно в США и Европе мы видим первые успешные примеры воплощения глобализации в жизнь. «Ядро» есть «ядро» глобального мира604.
«Бедный Юг» представляет собой государства и культуры третьего мира. В этой зоне модернизация не завершена, экономические институты не развиты, социально-политическая система находится в переходной стадии. Социологически «бедный Юг» представляет совокупность стран, находящихся на ранних стадиях формирования наций, где сильны этнические общества и частично общества традиционные. Но колониализм оставил в них губокий след в виде наспех образованных наций, и часто элита этих стран так или иначе «вестернезирована» и «модернизирована» (за редким исключением). Но что точно там отсутствует, так это адекватные структуры гражданского общества. Поэтому «бедный Юг» представляет собой серьезную проблему для создания глобального общества, поскольку в этой зоне не только не завершилось создание буржуазных наций, но часто структуры архаических этносов и традиционного общества (народ) намного сильнее и устойчивей, нежели формальные демократии и институты рынка. Поэтому термин «периферия» полностью подходит к этой зоне не только в экономическом, но и в социологическом смысле. Это периферия глобального общества, т. к. здесь отсутствуют необходимые социологические структуры и парадигмы.
С точки зрения этнической можно заметить, что общества государств «богатого Севера», «ядра» в большинстве случаев созданы на основе индоевропейских народов и говорят на тех или иных версиях индоевропейских языков. Фенотипически эти общества, будучи полиэтническими, представлены, как правило, «белыми». Общества «бедного Юга», «периферии», населены в большинстве своем представители неиндоевропейских этносов и народов и имеют иные фенотипические черты.
Хотя значительный и постоянно растущий процент «небелого» населения успешно интегрируется в общества «богатого Севера» и подчас занимает высокие позиции в его элите (феномен президента Барака Обамы в высшей степени символичен в этом отношении), в целом пропорции остаются пока именно такими: гражданское общество — преимущественно белое и индоевропейское, а периферийные переходные типы обществ со слабо развитыми или вообще отсутствующими институтами гражданского общества — преимущественно «цветные» и говорящими на языках неиндоевропейской группы.
Эта закономерность при определенных обстоятельствах может лечь в основание новых «глобалистских» форм расизма: глобализм ассоцируется с «белыми», а сопротивление глобализму или просто неспособность развивать «гражданское общество» — со всеми остальными народами и этносами.
Полупериферия
Глобальное районирование планеты обнаруживает и еще одну специфическую зону, которую некоторые социологи (например, И. Валлерстайн605) называют «полупериферией». К ней относятся страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). С социологической точки зрения эти страны представляют собой довольно специфические общества, в которых модернизация проникла глубже, чем в странах «периферии», что дало возможность развивать высокие и эффективные промышленные, научные и военно-стратегические технологии, позволящие конкурировать со странами «ядра», «Богатого Севера». При этом сами эти общества воспроизводят особенности традиционных обществ, нации в них сложились лишь частично, и они сохранили целый ряд архаических черт.
Это особый феномен, который позволяет предположить возможную альтернативу будущему глобальному миру. Здесь мы имеем дело с вероятной реверсивностью в будущем. Если страны «полупериферии» (БРИК) окажутся политически, экономически и социально конкурентоспособными со странами, где гражданское общество состоялось и утвердилось, то картина будущего мира может поменять свои очертания. В странах «полупериферии» в той или иной форме сохраняется «традиционное общество», т. е. народ. Процесс формирования нации находится на ранней стадии, а капиталистические формы не являются доминирующими, хотя и широко присутствуют. При этом потенциал стран БРИК с точки зрения экономики, энергетических ресурсов, масштаба территорий, демографии, культурной консолидации населения и политической автономии достаточно велик для того, чтобы представлять собой серьезную и реалистичную альтернативу глобализации по западному образцу.
Гражданское общество в странах «полупериферии» развито чрезвычайно слабо или не развито вообще, кроме отдельных искусственных вкраплений, инициированых «богатым Севером». Вместо этого сохранились структуры общества традиционного и значительное число архаических, чисто этнических, локальных групп, вообще не затронутых модернизацией. Поэтому если эти общества окажутся состоятельными с экономической, военно-стратегической и политической точек зрения, они могут стать образцом для нового этапа реверсивности. Именно эта зона может стать весьма привлекательной для «бедного Юга», социологически более близкого именно к «полупериферии», что переориентирует вектор его модернизации в ином направлении.
Трения и, возможно, конфликты с «богатым Севером» в такой ситуации неизбежны. Если победителем выйдет «периферия», то процесс построения глобального гражданского общества будет отложен на неопределенный срок или вообще снят с повестки дня. Вместо однополярного западноцентричного мира, в центре которого находится «богатый Север», будет выстроен многополярный мир с несколькими равновеликими по влиянию, но устроенными по-разному, центрами. Не будет ни «Мирового Правительства», ни «Соединенных Штатов Мира», ни идеологии «прав человека». Мир будет разделен на отдельные «большие пространства» на основании цивилизационного признака.
«Цивилизация», как мы видели, относится в этносоциологии к народу/лаосу. Именно такой сценарий рассматривает в своих работах политолог и социолог Самуил Хантингтон, выдвинувший тезис о «столкновении цивилизаций»606. Заметим, что использование понятия «цивилизация» в условиях глобализации уже подразумевает реверсивность социальной истории, поскольку фактор цивилизации считается полностью преодоленным, снятым и отмененным при переходе от народа к нации.
В этом случае «богатый Север» утратит свое глобальное значение и перейдет к формату одной локальной цивилизации наряду с другими. Это будет означать реверсивность западного общества внутри его собственных границ. Признаки такой возможности мы видим в явлении американского неоконсерватизма, представители которого откровенно рассуждают в терминах Премодерна, говоря о «гегемонии», «Империи», «элите», апеллируя к религиозным ценностям, традиционной морали и т. д.
Будущее открыто: в нем могут возобладать тенденции глобального общества, тогда логика социальной истории Запада будет распространена на все остальные страны, а могут и тенденции возврата к предшествующим формам, к сохранению национальных государств или к еще более ранним типам общества — таким, как империи и цивилизации, включая религиозные. Не исключено, что параллельно будут протекать и процессы локальной архаизации, т. е. возврата к этническим формам. Это явление отмечено в концепции «глокализации», разработанной Роландом Робертсоном607, смысл которой состоит в фиксации процессов, сопровождающих глобализацию и протекающих на локальном уровне в прямо противоположном направлении — не к дальнейшей индивидуализации, модернизации, усложнению и автономизации эгоцентрумов, а к возрождению этнических и региональных общин или к появлению новых.
Демографические процессы в глобальном мире
В современном мире многие процессы приобретают глобальный характер. В частности, это затрагивает миграцию и демографию.
Глобализация запустила процесс активного движения от сельской местности (зона этноса) к городу на планетарном уровне. Этому соотвествует также усиливающийся поток миграции от зоны «периферии» к «ядру», от «бедного Юга» к «богатому Северу». И урбанизация, и миграция в сторону «ядра» представляют собой с социологической точки зрения один и тот же процесс модернизации и движения к гражданскому обществу, поскольку гражданство предполагает «город» как приоритетную социальную, техническую и культурную среду. А вся территория «ядра» может рассматриваться, в свою очередь, как «глобальный город».
В настоящее время со статистической точки зрения произошел важнейший сдвиг: больше половины человечества (51%) живет отныне в городах, а 49% — в сельской местности. Это означает, что большая часть человечества является «гражданским», а меньшая — этническим. Этот аргумент может быть серьезным подтверждением тому, что процессы глобализации являются основательными и весомыми. С другой стороны, миграционные процессы и нарастающая концентрация населения в городах уравновешиваются сохранением в странах «периферии» и «полупериферии» социальных структур традиционного общества (города, в том числе огромные и густонаселенные, существовали и в Древнем мире, однако в нации и тем более в гражданское общество эти системы, так и не переросли) и ярко выраженной пролетаризацией городского населения (мигрантов и горожан в странах «бедного Юга»). Потенциала интеграции в класс мелкой буржуазии собственных пролетарских масс у стран «Богатого Севера» пока хватает (это делается через внедрение клише «буржуазного сознания» и идеологии «комфортизма» даже в те среды, которые влачат жалкое экономическое существование, а также через систему постоянного роста объема потребительского кредита, что стало причиной нынешнего экономического кризиса). Но для нарастающих волн мигрантов из третьего мира его явно не достаточно. Низкоквалифицированные массы остаются носителями традиционного или архаического сознания, интегрируются в гражданское общество Запада с большим трудом, предпочитая создавать гетто или анклавы внутри западного мира, пользуясь определенными социальными льготами, но игнорируя при этом парадигмы этноцентрума, идеологию «прав человека» и иные атрибуты гражданского обещства. Таким образом, мигранты становятся аналогом национального пролетариата, отчужденным классом, внутренним «другим». Отказываясь интегрироваться в гражданское общество, мигранты подрывают успешную реализацию глобального проекта.
С другой стороны, глобализация напрямую влияет на демографические процессы. Модернизация системы здравоохранения приводит к увеличению рождаемости и понижению детской смертности даже в странах «периферии». При этом сельские условия жизни и традиционные религиозные предписания препятствуют «контролю над рождаемостью». Отсюда резкий демографический рост населения «бедного Юга».
С этим контрастирует противоположная тенденция в зоне «Богатого Севера». Здесь идет устойчивое сокращение и старение населения.
Вместе эти два параллельных процесса меняют пропорции социальной системы в масштабе земли. Дело не в том, что рост приходится на «цветное» население, а падение — на «белых». Само по себе это не является социологическим показателем. Но дело в том, что демографические процессы в области «периферии» увиличивают процент носителей архаического или традиционного общества и сокращают число адептов общества гражданского. Запад как ядро глобализации становится миноритарной социологической инстанцией, своего рода сжимающейся в объемах мировой элитой. Эта элита рекрутирует новых членов в странах «полупериферии» и даже «периферии», но здесь все чаще дает о себе знать социокультурная инаковость новых представителей. Самуил Хантингтон назвал это «модернизацией без вестернизации»608. Этот феномен представляет собой типичный случай, когда представители традиционного общества из высшего класса получают западное образование, но после этого возвращаются в свои общества, сохраняют традционные ценности и используют полученные навыки для укрепления своих собственных культур в их конкурецнии с Западом. От «модернизации» они берует лишь техническую сторону, а идеологичсекие основы гражданского общества, права человека, эгоцентризм, либерализм, толерантность и т. д. отбрасывают в сторону.
В целом, миграционные процессы и демографический контраст бросают вызов глобальному обществу не через прямое сопротивление его становлению, но через расширение зоны активной глобализации на те территории Земли, которые имеют социальную культуру, резко отличную от социальной культуры западных стран. Интенсивность глобализации подрывает ее изнутри, создавая новые риски.
Глобальное общество и его границы
Обратимся вновь не к практике глобализации, где, как мы видели, существует множество противоречивых сторон и неопределенных тенденций, но к ее теории, к глобальному обществу как теоретическому концепту.
«Глобальное общество» имеет серию различных синонимов — «One World» («Единый Мир»), «человечество», «планетаризм», «мондиализм» и т. д. Можно представить его себе как повторение опыта Евросоюза в планетарном масштабе или как перенесение модели американского общества на весь мир (Соединенные Штаты Мира).
В этом случае все человечество может быть рассмотрено как население (демос) единого Мирового Государства (World State), управляемое единым «Мировым Правительством» и имеющее другие глобальные политические институты, повторяющие в основных своих чертах западную, американо-европейскую модель.
Это глобальное государство мыслится государством в минимальной степени, и только перед лицом фигуры, которую можно было бы поставить за пределы человечества, поскольку национальное государство имеет смысл только перед лицом другого национального государства. Претенденты на эту роль есть пока только в фантастичсеких романах и фильмах в лице «инопланетян» и «пришельцев», которые выступают в роли «другого» для человечества, ставшего глобальным. В некоторых фантастических сценариях в роли «другого» выступает и внутренний враг, например, вышедшие из-под контроля «роботы», «машины» или «компьютеры», а также киборги и мутанты. Они заменяют функционально противоборствующие классы индустриальных политических систем.
Но эти границы, способные установить общие параметры коллективной идентификации — земляне/пришельцы, люди/машины и т. д. — являются экстравагантными далеко не случайно. С одной стороны, они иллюстрируют своей фанастической гипотетичностью, их маловероятность, «воображаемость», «не-реальность», а с другой стороны, они выполняют социологические функции конкретных пределов, необходимымх для конституирования любой коллективной идентичности, даже самой приблизительной. «Фантастичность» и «экзотичность» фигур «другого» (внешнего и внутреннего) призваны косвенно подтвердить, что глобальное общество не будет новым изданием национального государства планетарного масштаба, но скорее именно внеполитическим обществом, обществом как таковым, в котором будут преобладать неполитические формы. В первую очередь, мир станет «глобальным рынком», т. е. зоной свободного обмена, не имеющей никаких экономических барьеров или границ. Во вторую очередь, это будет сетевая реальность, объединяющая людей не по их местоположению, но по их волеизъявлению: мировые коммуникации облегчат молниеносную связь с любой точкой планеты, а реальная локализация станет второстепенной по сравнению с виртуальной. И, наконец, главным будет эгоцентрум как открытая возможность свободного и произвольного конструирования собственного микромира. В таком случае идеология прав человека достигнет своего апогея, и любой житель планеты будет автоматически рассматриваться как «гражданин мира».
Если бросить взгляд за границы глобального общества (внутренние и внешние), то мы столкнемся с новой социологической конструкцией, которую мы определяем как «постобщество».
§ 2. Этносоциологический анализ гражданского и глобального общества
Постэтничеcкий анализ производных этноса
Нам остается рассмотреть гражданское общество с позиции этносоциологии. Вначале рассмотрим то, почему в нем нет этнического фактора и какова концептуальная дистанция, которая отделяет его от простого общества, койнемы, этноса.
Гражданское общество — это общество предельно дифференцированное. При этом дифференциация, комплексность затрагивает все его сферы и фрагментирует его в вертикальном и горизонтальном направлениях. Если этнос есть нечто простое и цельное, то гражданское общество есть нечто предельно сложное и фрагментарное, расколотое, дробное.
Между полюсами цельности и раздробленности находятся две промежуточные производные этноса — народ и нация. При переходе от этноса к народу изначальная цельность рушится и на ее месте создается двойственность. Здесь происходит фундаментальный раскол, и полюса этого раскола уходят в самые далекие горизонты. Размах дифференциации в традиционном обществе (по сравнению со всеми другими типами общества — и этносом, и нацией, и гражданским обществом) максимален. Именно здесь рождается Логос, трансцендентность, высшее напряжение и высший травматизм. Цельность этноса расщепляется, как атом, и высвобождается гигантский поток энергии (пассионарность). По своему масштабу именно в народе реализуется пик качественной непростоты. Двойственность радикально дифференцирует небо и землю, элиты и массы, «своих» и «чужих». Это воплощено в великих империях, грандиозных религиях и восхитительных сверхчеловеческих культурах древности. Все это окрашено предельными формами героизма, высшего напряжения, столкновением с головокружительными безднами, которые открылись на месте всевключающего и непоколебимого, вечного, гармоничного этнического бытия.
От максимальной качественной целостности в этносе, в народе мы переходим к предельной дуальной расколотости, не имеющей аналогов по своему напряжению и драматизму ни в одном другом типе обществ.
При переходе от народа к нации структура общества, с одной стороны, технически и механически усложняется, поскольку структуры власти, экономики, техники становятся все более (сложными) комплексными, но с другой стороны, героическое напряжение падает. Высший качественный дифференциал героического дуализма, эксклюзивность Логоса рассеивается на множество граждан, индивидуумом, эгоцентрумов. Поэтому переход от народа к нации можно рассматривать как усложнение системы с точки зрения технологии, но одновременно как снятие напряжения, сброс драматического накала и, следовательно, как упрощение. Но это не возврат в этнос (что тоже бывает, хотя и не в фазовом переходе от народа к нации), который означал бы настоящее упрощение, а перевод героической энергии традиционного общества в дух капитализма, предпринимательскую активность, буржуазный национализм, географические открытия, колонизацию, развитие науки и искусства. Трансцендентализм, героическое столкновение со смертью, логос, рациональность — все это распределяется по третьему сословию и через него по всему населению, демосу. В этом специфика демократии: она одновременно и сложнее сословных обществ, и проще их. Власть переходит от элиты, предельно далекой от этнических масс, к буржуазии, которая становится наполовину элитой (в классовом смысле), но остается наполовину лакейским сословием, рекрутируемым из низов. Нация есть изощренный ход городской буржуазии, граждан, направленный на то, чтобы уйти от драматической расколотости и высочайшего качественного дифференциала средневековых элит, но не вернуться к этнической простоте деревни и Gemeinschaft. Поэтому нация и есть «воображаемое сообщество»: его «вообразила» буржуазия вместо сословной модели и вместо сельских этнических обществ.
В гражданском обществе этот импульс, ярко выраженный в рождении национальных государств, продолжает развиваться в том же ключе. Гражданское общество еще более сложно технически, чем национальное, но еще «проще» его качественно, с точки зрения героического трансцендентального потенциала. Здесь логос, рациональность, трансцендентализм, пара субъект/объект, а также конфронтация со смертью и «другим» полностью и окончательно делегируются индивидууму, без коллективного выражения (как в случае нации). Индивидуум становится отныне «миром», расколотым, как народ и его полюса, но замкнутым, как этнос и его структуры. В индивидууме гражданского общества вся ответственность возлагается исключительно на него самого, но реальное могущество сокращается прямо пропорционально росту ответственности. Индивидуум может все, он полностью свободен, но реализация его воли блокирована волей другого, точно такого же всемогущего индивидуума. Поэтому оптимальной сферой реализации свободы становится виртуальное пространство как новая зона максимальной усложненности. В нем индивидуум действительно свободен и не может при этом причинить вреда «другому», поскольку каждый находится для другого по ту сторону экрана, где происходят все события. При этом драматизм, нагруженный на индивидуума, и технологизм окружающей среды возрастают, но вместе с тем и распыляются, рассредоточиваются, рассеиваются энтропически в бездушном слиянии с высокоточными аппаратами — компьютерами, мобильными телефонами, многофункциональными приборами.
Эгоцентрум гражданского общества есть сложный фрагмент, наделенный при этом слабой энергетикой и обращенный лицом к среде энтропической виртуальности.
Гражданское общество в цепочке этносоциологических производных
Вся цепочка от этноса к гражданскому обществу выстраивается как необратимый процесс только и исключительно в европейской истории. В других случаях мы видим сплошь и рядом переход от этноса к народу, но в случае кризиса народа происходит возврат снова к этносу. Народ рассыпается на этносы. Гумилев приводит в своих работах множество примеров этого цикла (учтем, что он называет «этногенезом» то, что мы называем «народом» или «лаогенезом»). При этом в традиционных государствах часто создаются развитые города, населенные демосом и формируется значительный слой третьего сословия. Но практически всегда этот класс разделяет судьбу народа и не выходит самостоятельно на историческую арену в форме нации.
Фазовый переход от народа к нации, а не к этносу, как происходит в подавляющем большинстве случаев, осуществляется только в Европе и только в Новое время. И хотя отдельные нации и современные государства в определенные моменты также распадаются на народы и этносы, в целом европейская система буржуазных национальных государств оказывается относительно устойчивой и в ней закрепляется вторая производная от этноса — нация.
Устойчивость нации позволяет развиться и тенденциям, направленным к появлению гражданского общества. Само собой разумеется, что гражданское общество может быть построено исключительно в контексте европейских буржуазных наций или их постколониальных зон. Сегодня мы живем в эпоху очередного фазового перехода к третьей производной, которая должна исторически подтвердить или опровергнуть саму возможность ее реализации и устойчивости. Элементы гражданского общества бесспорно наличествуют. Но глобального общества в полном смысле пока не построено, и невозможно быть твердо уверенными, что оно вообще когда-либо состоится. Пока речь идет о тендениях, теориях, идеологии (права члеовека) и формировании отдельных сверхнациональных институтов. Произойдет ли полный отказ от национальных государств и когда это случится, заведомо сказать нельзя.
Трансформации языка: койне-идиом-искусственный язык
В цепочке производных этноса можно проследить трансформацию языка. Этнос говорит на языке. При появлении народа возникает такие явления, как койне и полиглоссия. Нация приносит с собой «идиом». Но «идиом», будучи относительно искусственной конструкцией, формируется на основании какого-то конкретного диалекта, принятого за норматив.
Гражданское общество должно выработать еще более абстрактную модель. Ее можно назвать «искусственным языком». Речь идет о разработке такой системы знаков, которая соответствовала бы различным предметам объективного мира, выступая как своего рода инструмент для знаковой номенклатуры вещей.
Язык в этносе представлял собой автореферентную систему: в нем самом были заложены и значения и смыслы, и интенсионалы и экстенсионалы. Язык и был и миром и человеком одновременно.
В народе цельность языка расщепляется. У знака как элемента языка появляются внутренний смысл и внешнее значение. Язык меняет свою природу.
«Идиом» в нации стремится зафиксировать именно значение знака, в ущерб его внутреннему смыслу, но, т. к. в основе «идиома» лежит все же живой язык, это удается сделать лишь отчасти — в отдельных лингвистических зонах (науке, юриспруденции, политике, образовании и т. д.). Там, где государство сильно, слову соответствует конкретное значение или группа значений, а внутрилингвистические и психологические ассоциации передаются в распоряжение деятелей искусства — поэтов, литераторов и т. д.
Сдвиг к эгоцентруму предполагает дробление «идиома» на отдельных индивидуумов. Государство снимает с себя ответственность за обеспечение слов значениями. Поэтому резко повышается субъективность производной языка в гражданском обществе, теоретически каждый получает право говорить на своем индивидуальном языке.
Но для сохранения межиндивидуальных взаимодействий гражданскому обществу, наряду с индивидуальным псевдо-языком с произвольными смыслами и ассоциациями и волюнтаристской изменчивой структурой интенсионала, необходим еще один язык — язык вещей, кодовая система, позволяющая оперировать с одной и той же вещью различным индивидуумам. Для этого вещь должна быть названа. Но встает вопрос: как? Если гражданское общество стремится выйти из национального контекста, то «идиом» для этого не подходит. Отсюда возникает идея создания «искусственного языка». Концепт «искусственного языка» обоснован тем, что он должен состоять из знаков с присвоенными им значениями (экстенсионалами). Смысла же в этом языке (как интенсионала или как текстуальной и контекстуальной связи с другими знаками) быть не должно. Некоторые искусственные языки, которыми пользуется наука (иногда называмые метаязыками), являются примером такой конструкции.
Примером такого языка может служить эсперанто, идо и интерлингва, а в XIX в. в качестве такого «искусственного языка» выступал «волопюк». Все этим языки были созданы на основе индоевропейских языков и на слух могут восприниматься как нечто отдаленно напоминающее итальянский или испанский для тех, кто этих языков не знает. Точно так же, как «идиом» создавался на основе какого-то народного языка (чаще всего койне), так и «искусственный язык» берет за основу те общества, где гражданское общество исторически более развито — т. е. западноевропейские языки. Но «искусственный язык» — это не просто жестко зафиксированный диалект с приданным ему правовым и общеобязательным политическим статусом, как «идиом». Это своего рода «антиязык», поскольку он строится как конструкция, призванная облегчить эгоцентрумам контакт между собой относительно внегингвистических объектов. Это язык бирок, ценников или индивидуальных номеров, присвоенных вещам и классам вещей. В этом языке нет обобщающей структуры, нет семантического поля, нет контекста. На искусственном языке невозможно написать текст — можно лишь обозначить ряд предметов внешнего мира и предложить их композицию. Это не язык людей, общества, но язык вещей, предметов, товаров. Он подходит для технической инструкции к купленному в магазине аппарату, т. е. имеет строго утилитарное значение.
Современный английский как «искусственный язык»
В наши дни «искусственные языки» пока не получили должного распространения. Возможно, следует ожидать и более широких версий «искусственных языков», которые включили бы в себя знаки, звуки и морфемы не только индоевропейских, но и неевропейских языков. Пока же в качестве «искусственного языка» выступает английский.
Сам по себе анлийский язык в корнях своих является этническим языком германской группы. Но по ходу истории Англии он подвергся серьезному влиянию автохтонных для Британии кельтов (чьи языки сохранились в уэлльском и ирландском языках) и еще в большей степени латыни — через язык норманских завоевателей (старофранцузский), католическую мессу и средневековую ученость. Долгое время английский язык был койне для Великобритании с сохранением полиглоссии (кельские языки) — типичный случай традиционного государства. На следующем этапе, около 1500 г., т. е. строго в период превращения английского общества в нацию, на основании среднеанглийского диалекта сложился современный английский как «идиом». В эпоху Британской империи этот «идиом» стал нормативным для населения всех колоний. Это сохранилось до сих пор, например, в Индии, где высшие классы общаются на английском языке и значительная часть национальной прессы англоязычна. Английский стал «идиомом» и в северо-американском государстве — США, а такжде преобладающим «идиомом» двуязычной Каналы (наряду с французским языком). Последствия британского колониализма и глобальная стратегия США, а также активное распространение технологий, товаров и методологий, созданных в англосаксонских странах, привели к тому, что сегодня английский представляется собой наиболее распространенный язык, который может считаться предпочтительным языком глобального общества. Так как на английском общаются между собой представители самых разных национальных, народных и этнических групп, чаще всего имеющих свои языки или их производные (койне и «идиомы»), то семантика этого некогда естественного этнического языка качественно изменена и в значительной мере просто утрачена. Многие граждане Земли, неплохо владеющие английским в технической сфере и способные на нем свободно общаться, явно затрудняются с пониманием классической английской художественной литературы XIX в. — Диккенса, Чосера или Теккерея. Планетарный английский, как и чисто «искусственные языки», есть язык вещей, инструкций, технических рекоммендаций. Это не язык, но метаязык. Смыслы в нем сведены к минимуму, ассоциации и внутренние связи изгнаны. Контексты корректного употребления терминов и грамматических конструкций никому не известны. В США английский язык уже подвергся десемантизации, приобретя многие искусственные и чисто прагматичсекие черты. Став языком глобального общества, он сделал еще один шаг в этом направлении.
Однако, будучи языком естественного происхождения, английский при любых своих трансформациях не может считаться полностью «искусственным языком». Вернее сказать, в настоящее время он выполняет функцию «искусственного языка», не будучи таковым до конца. Поэтому по мере наращивания темпов глобализации, введение «искусственного языка» будет становиться все более острой и насущной проблемой.
Пока английский язык остается субститутом «мирового языка», грань между западным культурным империализмом и собственно глобальным гражданским обществом остается неопределенной и непройденной. В целом, именно это положение в лингвистической сфере точно отражает специфику того исторического перехода, в котором живет современный мир. Переход к глобальному гражданскому обществу продолжается, но еще не совершился окончательно.
Этнос—лаос—демос—идиотес
Проследим трансформацию антропологического типа по полной цепочке рассматриваемых нами обществ.
В этносе нормативной является фигура шамана, в народе — героя, в нации — буржуа. Этому соответствует последовательность: этнос–лаос–демос.
В гражданском обществе любые коллективные формы рассеиваются на индивидуальные единицы. Гражданин мира не представляет никакого коллектива, кроме самого себя. Он не является ни членом этноса, ни частью народа, ни звеном нации. Он есть только он сам.
В греческом языке для определения подобного социального статуса индивидуума существовал особый термин — «идиотес» («ιδιοτες»), образованный от корня, означающего «тот же», «тот же самый». «Идиотес» представлял только самого себя. Житель города-государства считался частью демоса, и принадлежность к демосу составляла сущность его гражданского статуса. Гражданином полиса считался только тот, кто имел к нему историческое отношение, кто разделял с ним особую историю, связанную, в том числе, и с культами местных божеств, и с определенным имущественным цензом и т. д. Гражданами были только свободные взрослые и состоятельные мужчины, исторически укорененные в структуре полиса. Другими словами, гражданство было качественной категорией и показателем довольно высокого статуса.
Приблизительно по этому же принципу определялось гражданство на заре национальных государств. Тогда гражданином также считался только мужчина, имеющий определенный имущественный ценз и принадлежащий к третьему сословию — буржуа.
Все остальные люди, оказавшиеся в черте полиса, делились на «метеков» и «идиотес». «Метеки» были не-граждане, которым, однако, разрешалось селиться на территории полиса и исполнять определенные виды работ. У них, в отличие от рабов и женщин, были определенные права, но существенно урезанные по сравнению с гражданами. Все осталаьные рассматривались как «идиотес», т. е. как люди, представлявшие только самих себя как индивидуумов. «Идиотес» не было изначально ругательством. Этот термин описывал странников, пришельцев, мигрантов или гостей города, которые не представляли никакой внятной коллективной общины или общества. Они не были ни носителями сакрального статуса (как паломники), ни представителями другого полиса (дружественного или враждебного), ни людьми какой-то строго определенной профессии или какого-то одного сословия. Они были индивидуумами, «эгоцентрумами», тождественными сами себе.
Именно «идиотес» составляют основополагающий нормативный тип члена глобального гражданского обещства. Идеология прав человека призывает сконцентрироваться на фигуре «идиотеса», индивидуума как такового, без каких-либо коллективных, социальных свойств. Показательно, что философ М. Хайдеггер, описывая процессы глобализации, использовал для их определения специальный термин «планетэр-идиотизм», имея в виду как раз этот смысл. Гражданин мира в отрыве от всех форм коллективной идентификации может быть только «идиотес»609.
Таким образом, мы можем дополнить цепочку нормативных социально-антропологических типов различных производных от этноса:
Шаман (этнос) – Герой (лаос) – Торговец/Буржуа/Гражданин (демос, нация) – Идиотес (гражданское общество, глобальный мир)
Обнаружение этноса в гражданском обществе
Теория гражданского общества не имеет в себе вообще никакого этнического компонента или измерения. Оно создается строго после того, как нация и капитализм завершили свою работу по расчленению естественных колективов и сословных структур, существовавших в иных типах общества. Нация есть аггломерат индивидуумов, но при этом она описывает себя как исторический «коллектив», не являясь таковым. Гражданское же общество отменяет этот «симулякр» и призыват воспринять буржуазное общество таким, каким оно является по существу — как общество гражданское.
Этнос исчезает задолго до появления гражданского общества. Уже социально дифференцированная структура народа снимает этнос как основополагающую форму общества, качественно и многократно усложняет социальные структуры. Но в народе еще живо этническое начало — особенно в народных низах, массах, которые продолжают оставаться этносом. Обнаружить этнос в народе относительно легко. Надо лишь посмотреть на его низшие страты.
В нации все становится более проблематичным. Нация есть нечто, совершенно отличное от народа и, тем более от этноса, но претендующее на то, что оно есть продолжение того же самого или даже то же самое. Согласно Энтони Смиту610, этническое начало в нации присутствует «символически», на уровне интеллектуального концепта и искусственных символов. С другой стороны, не все нормативы нации по-настоящему воплощаются в реальности. Одно дело нормативно приравнять всех граждан к городской промышленной и торговой буржуазии, а другое — лишить жителей сельских регионов их социологических особенностей. Поэтому и в нации мы можем отыскать этничность — особенно в сельских районах или среди отдельных этнических групп, сопротивляющихся универсализации и дроблению, исходящих от национального государства. Этничность в буржуазных нациях найти трудно, но тем не менее можно611 — для этого надо обратить внимание на «символические» мифы буржуазного национализма и на отдельные процессы сельских общин. Кроме того, в культуре удерживаются многие признаки традиционного обещства — религия и цивилизация, а отношение к современному национальному государству в низах вполне может продолжать отношение масс к государству традиционному.
В гражданском обществе этнический срез упраздняется. Самые отделанные уголки слабо заселенных территорий включаются через развитие транспорта, коммуникаций и сетевых технологий в единое информационное пространство. Это пространство активно завершает работу буржуазии по расчленению естественных и исторических коллективов, дробит идентичность до уровня эгоцентрумов, «идиотес»612. И на сей раз в этот процесс вовлекается все население (не только городское, но и сельское). Но чем более агрессивным является стермление искоренить этнос окончательно, тем живее проявляется протест этнических глубин общества. Этнос в такой ситуации выступает уже не сам по себе, но как общий вектор сопротивления глобальным стратегиям гражданского общества.
Этнос и мировой пролетариат
В этом смысле пролетариат может быть рассмотрен как диалектическое выражение этнического начала, противостоящего на новом витке распылению органической целостности. Пролетарий социологичсеки есть тот, кто приезжает в город позже буржуа. Следовательно, в психологии рабочего класса больше крестьянского начала, т. к. в город пролетарий приезжат практически всегда именно из деревни. Но этнос не то же самое, что нация, и поэтому у пролетариата может быть к нации двойственное отношение. С одной стороны, национальная буржуазия может играть на этничности пролетариата, предлагая классовый пакт во имя интересов нации (эту стратегию применили в жизнь германские национал-социалисты и итальянские фашисты). С другой, пролетариат может осознавать классовое родство с пролетариатом других стран, т. к. буржуазия и буржуазный национализм есть для пролетариата «другое». Отсюда пролетарский интернационализм, представляющий собой консолидацию «этнического» начала против начала национального, т. е. буржуазного, гражданского. В условиях глобализации эта связь этнического фактора и мирового пролетариата становится еще более проявленной. «Бедный Юг», как мы видели, представлен преимущественно цветными этносами, «богатый Север» — «белыми». Европейские народы воплотили свою социологическую конструкцию в гражданском обществе, став синонимом мирового капитализма и мировых капиталистов (белый = капиталист, буржуа). Неевропейские народы поставляют основную массу мирового пролетариата.
Все больше коммунистических и рабочих движений и партий в странах «бедного Юга» сочетают антикапиталистические мотивы борьбы с экономическим империализмом, глобализацией и универсализацией «западного образа жизни» с этническими, религиозными, культурными и цивилизационными сюжетами.
Это приводит нас к очень важному выводу: этническое измерение в глобальном гражданском обществе следует искать в секторе мирового пролетариата.
Этнос на периферии глобального общества
Подобно тому, как мы обнаруживаем этнос на низших словях современного гражданского обещства, в том чсиле в лице пролетариата, мы сталкиваемся с ним на географической окраине, в зоне тех обществ, которые относятся к мировой «периферии». Дело в том, что до сих пор на Земле существуют анклавы (в Азии, Африке, Латинской Америке, в Арктическое зоне, в Тихоокеанском регионе), где этносы обитают в первозданных условиях. Как эти этносы не обращали внимания на их интеграцию в дифференцированные структуры народа, так они игнорируют глобализацию и экспансию гражданского общества. Поддерживая в цельности этноцентрум, они маркируют любые предметы, приходящие извне, как известные и знакомые и включают их в свою цельную структуру, не задумываясь об их предназначении и смысле в других обществах. Они до сих пор не знают «другого».
Поэтому этнос можно найти не только на дне гражданских обществ, но и в стороне от них, в «мировой резервации», население которой до сих пор составляет значительный процент населения Земли. Точно так же в обществах более дифференцированных, религиозных и социально стратифицированных остаются значительные зоны чистой архаики. И даже на территории самых современных обществ, например, в США, остаются островки чисто этнической культуры (зоны компактного расселения автохтонов-индейцев).
Этот синхронизм архаических этносов чрезвычайно важен для этноосоциологии, т. к. он наглядно показывает, что нельзя доказать строгой последовательности в социальном развитии. Если в одной части земли происходит смена социальных структур, то в другой части ее вполне может этого не быть. Невозможно применять логику одной социальной группы, переходящей от этноса к гражданскому обществу, ко всем остальным социальным группам Земли.
Если теперь рассмотреть явление глобализации именно как распространение исторического опыта западноевропейского общества на все человечество, мы легко можем понять природу такого явления, как «глокализация» Р. Робертсона, о которой уже упоминалось613. Подъем этнической идентичности на локальном уровне сопровождает глобализацию как универсализацию западного социального кода, как распространение гражданского общества в качестве общеобязательного норматива именно потому, что давление чуждой для большинства населения Земли культурной формы (гражданское общество) вызывает закономерное противодействие. Вполне сохранившиеся этнические и народные, традиционные общества не пассивно, но активно и настойчиво стремятся изменить курс глобализации в сторону локализации. И чем более она настаивает на своей глобальности, тем сильнее архаические анклавы, в свою очередь, акцентируют локальность, превращают ее в программу, проект, сознательную политику. В результате появляются глокализации.
Если бы глобализация была естественной фазой всех или большинства обществ, то она испытывала бы сопротивление только со стороны национальных государств. Но в данном случае дело не только в нации, т. к. в открытое противостояние с глобализацией вступают как непосредственно предшествующие глобализации социальные формы, так и все остальные этносоциологические слои, чья весомость в обществах «периферии» и даже «полупериферии» остается и в настоящее время решающей. Считая только свое, западное, время универсальным, гражданское общество забывает о том, что в других обществах время течет иначе и часто даже в ином направлении. Стремясь утвердить свои стандарты, оно сталкивается с тем, что локальности начинают не просто противодействовать, но и размывать глобализационный код, подрывать саму суть процессов глобализации, насыщать его совершенно чуждыми элементами.
Пространство как выражение неравновесности мировой системы вступает в игру. Глокализацию можно вполне рассматривать как контрудар этносов и их первых производных. Эта же энергия подпитывает и нации, упорствующие в том, чтобы не исчезать окончательно перед лицом глобального гражданского общества и идеологии «прав человека».
Поэтому для глобального гражданского общества будет справедлива формула: этнос не только внизу соционально-экономической системы (в виде мирового пролетариата), но и рядом с этой системой, наряду с ней, в стороне от нее, параллельно с ней.
Этнический жизненный мир и жизненный мир эгоцентрума
И, наконец, можно обнаружить этническое измерение и в самом центре глобального общества. На сей раз не внизу и не рядом, но внутри него. В данном случае речь идет о структуре эгоцентрума.
Фигура «идиотес» как норматив глобального гражданского общества представлет собой взгляд цельной и самосознающей социальной системы на того, кто не обладает никакими признаками, отвечающими ее критериям. Но сам «идиотес», пришедший в город (полис) в среду «демоса», откуда-то взялся. То есть он обязательно должен был принадлежать к какому-то конкретному этническому сообществу или к какому-то народу. Как «идиотес» он не обнаруживает этих признаков или просто их не замечают, не идентифицируют жителей города, демос. Иными словами, «идиотес» — это всегда «вещь-для-других». Сам по себе, как «вещь-в-себе», он не «идиотес», но наделен определенными свойствами трансиндивидуального свойства. Иным словами, человек не может не быть членом этноса, народа или нации. Он может не акцентировать это, не предавать этому большого или вообще какого бы то ни было значения, не задумываться об этом, но он не может не иметь этого измерения. Этнос, народ или нация, а иногда и все вместе формируют все содержание эгоцентрума. Специфика сознания индивидуума так или иначе предопределена или этносом (в этом случае он является носителем этнонациональности, языка, верований и обычаев), или народом (и в этом случае он говорит и думает либо на койне, либо на одной из этнических глосс, разделяет культуры и дифференциал, имеет место в стратификации и статус), или нацией (в этом случае он — продукт образования, политического воспитания, индоктринации, носитель «идиома» и субъект права). Все эти уровни социализации и предопределяют, в конечном итоге, содержание эгоцентрума. Индивидуум может воспринять эти образующие влияния в ослабенной формой, схватить лишь отдельные фрагменты и пропустив остальное мимо сознания, но он остается в любом случае закодированным социальными алгоритмами, т. к. социализация начинает с момента рождения.
Если поставить задачу освободить индивидуума от жесткого форматирования его структуры нацией (а именно это и предлагает гражданское общество, либерализм и идеология прав человека), это вполне достижимо, но снос этого уровня формирования личности просто обнаружит более глубокие пласты — народные и этнические. Индивидуум не станет автоматически пустой и свободной формой, он будет лишь выглядеть таким «для других». «Для себя» и «в себе» индивидуум просто столкнется с уровнями народа и этноса, помещенными в бессознательное. Перестав испытывать давление формальной коллективности, эгоцентрум откроет в себе влияния неформальной коллективности. А если настаивать в рамках воспитания нормативного члена гражданского общества еще и на сносе уровня принадлености к народу, т. е. к стратифицированному традиционному обществу, то единственным содержанием эгоцентрума вообще станет только этнос. Этнос в данном случае будет проявляться не как полноценный этноцентрум с устойчивой и гармоничной структурой. Он скорее будет представлять собой поток нефти, бьющий из скважины, прорыв бессознательного, слабо артикулированного, но настойчивого.
Этот процесс можно рассмотреть на примере философской концепции «жизненного мира» Э. Гуссерля614, к которой философ пришел через стремление обнаружить чистую подоплеку мышления, предшествующую появлению дифференцированной логики и основанной на ней рациональности. «Жизненный мир» — это структура, в которой живет человек, когда он не мыслит научно и критически, всякий раз соотнося свои мысли со строго верифицируемым положением дел в объективной реальности. Исследуя «жизненный мир», Гуссерль имел дело с представителями современного буржуазного общества. Он стремился заглянуть в самые корни их сознания — туда, где логическое мышление еще не сформировалось и не сложилось в полноценную структуру научного рассудка. Картина, полученная Гуссерлем, оказалась чрезвычайно близкой структуре мышления этноса. Поэтому многие этносоциологи и культурные антропологи (Р. Турнвальд и особенно В. Мюльман) построили на феноменологии Гуссерля свои методики изучения этнических структур.
Целесообразно соотнести между собой две феноменологические кортины: «жизненный мир» как этнический мир, этноцентрум, структуру коллективного мировосприятия, предшествующую строгому введению логических, рациональных и научных критериев, и «жизненный мир» как структуру эгоцентрума, который по своим историческим свойствам представляет продукт вычитания из нормативного социологического портрета личности всего того, что было привнесено дифференциальными социальными инстанциями — народом, цивилизацией, религий, государственностью, нацией, классом и т. д. «Жизненный мир» этноса предшествует рациональной социальности, а «жизненный мир» «идиотеса» следует за ней.
Мы получаем два «жизненных мира»: один строго «предлогический», а другой — «постлогический». Соотнесение их друг с другом показывает сходства и различия. Сходством является в обоих случаях интенциональность мышления, отсутствие акта субъективного сопоставления представления о вещи с самой вещью, точнее, объективному значению вещи, гарантируемой наукой, логикой и философией и применением их строгих процедур. Интенциональность оперирует с ноэзисом и ноэмой, но не с субъектом и объектом классической научной топики. Иными словами, дологическое мышление этноса и постлогическое мышление эгоцентрума (чистого автономного индивидума) в равной степени некритично и «естественно».
Различие заключается в следующем:
1) этнос внеиндивидуален, коллективен и включает в себя социальность и природу, среду бытия как свое естественное продолжение; эгоцентрум же строго индивидуален и зона его компетенции ограничена его телом и тем, что к нему непосредственно примыкает — одежда, средства личной гигиены, автомобиль, рабочий кабинет, территория компьютерного экрана, электронные приборы и т. д.;
2) этнос вообще не знает логоса, сомнения и раскола, поэтому он чувствует себя гармонично и уверенно в бытии; индивидуум же гражданского общества получил логос в свое индивидуальное пользование, но он не знает, что с ним делать, как поступать, не может выдержать его напряжения самостоятельно, и поэтому соскальзывает в дологические формы мышления — «идиотес» знает о логосе, но предпочитает от него отделаться.
Еще одно, причем самое основное, различие заключается в том, что этнос несет свое содержание в самом себе и работат на поддержание этого знания, а эгоцентрум получает его откуда-то извне, не имеет цели его поддреживать или передавать другим. «Идиотес» сформирован высокодифференцированным обществом, но по остаточному принципу, без нажима на придание ему содержания, с предоставлением ему возможности быть свободным от общества. Поэтому, обратившись к самому себе, человек гражданского общества имеет дело либо с высокодифференцированными культурными установками (но это удел элиты), либо с фрагментами и, особенно, с низшими слоями общества, где преобладают структуры этнического сознания. Эгоцентрум становится выразителем этноса вопреки самому себе и вопреки той культуре, которая его сформировала. Его освободили от нации, чтобы он смог реализовать свою чистую индивидуальность. Но за наполнением этой индивидуальности у «идиотеса» нет иной возможности, как обратится к бессознательному615. А бессознательное сформировано этносом.
Можно сказать, что эгоцентрум воспроизводит на индивидуальном уровне структуру этноцентрума вопреки самому себе и гражданскому обществу, которое сделало эгоцентрум эгоцентрумом. Такой «этнизм» можно назвать спонтанным.
С другой стороны, эгоцентрум не осознает своей бессознательной включенности в этнос, не признает ее, а поэтому не работает на ее поддержание и не передает ее другим, не укрепляет ее в других. Он проживает этнос, но не отдает ему своей энергии; он проматывает этнос. В результате эгоцентрум становится носителем энтропии, через которую этнические энергии, смыслы, комплексы символов, представлений и ассоциаций уходят в никуда.
Это критический порог, которого достигает индивидуум в структуре гражданского обещства. На этом пороге может произойти два события: либо группа эгоцентрумов со сходным этническим бессознательным сплачивается и образует новый этнос, останавливая тем самым энтропию; либо энтропия становится необратимой, захватывает эгоцентрум и ведет его дальше, к еще большему расщеплению — еще ниже базового слоя этноса. Первый случай — это оригинальная и связанная с феноменологией гражданского общества модель реверсивности. В результате мы снова имеем дело с этносом, этноцентрумом и соответствующими явлениями, рассмотренными ранее. Второй случай предполагает переход от индивидуума (дословно «неделимого», на латыни) к «дивидууму» («делимому», на латыни), и соответствнно, от общества к постобществу.
Постобщество, «дивидуума» и постчеловека более подробно мы рассмотрим в следующей главе.
Бруно Латур: аналитика нонмодерна
Чрезвычайно интересную и плодотворную версию рассмотрения Нового времени, общества модерна предлагает современный французский социолог Бруно Латур. Его метод в целом может быть рассмотрен как этносоциологический подход к осмыслению структуры современного общества в целом, и к его наиболее совершенной форме — гражданскому обществу. Сам Латур называет себя представителем «нонмодерна», т. е. он отказывается от того, чтобы разделять аксиомы эпохи современного общества, но не причисляет себя при этом ни к постмодернистам, ни к антимодернистам (традиционалистам). Он предлагает рассматривать Модерн и, соответственно, «гражданское общество» не как нечто исключительное и жестко отличное от всего предыдущего, но как закономерное звено в цепи социальных форм, имеющих разное оформение и выражение, но общую основу. Отсюда следует главный тезис Латура «Нового времени не было»616. То общее, что, по мнению Латура, есть у Модерна и Премодерна (традиционного общества) вполне может быть рассмотрено как «этнический пласт», который обнаруживается в постэтнических обществах. Таким образом, методология Латура может быть отнесена к этносоциологическому анализу современного гражданского общества. Отказывая Модерну в радикальном отличии от предшествующих социальных структур, Латур концентрирует внимание на их сходстве. При этом в отличие от постмодернистов он не упрекает в этом Модерн и не ставит это ему в вину. Он просто констатируют факт. При этом он, естественно, признает отличия Модерна от традиционного и архаического обществ (от народа и этноса), но не считает это отличие подлинным разрывом, подлинной «революцией». Латур полагает, что Новое время искренне верило в свою «новизну» и строилось на основании этой веры. Но это была не более чем «вера», соответствующая реальности лишь частично.
Гибриды и Конституция
Новое время, согласно Латуру, поставило перед собой задачу максимальной дифференциации субъекта и объекта и построило критику «Старого времени» (предшествующего Новому) на том, что эта дифференциация там не проводилась или проводилась недостаточно. Для описания этой особенности Латур вводит терин «гибрид».
«Гибрид», по Латуру, это такая вещь, которая является одновременно и субъектом и объектом, т. е. имеет в себе элементы культуры (человеческое измерение) и природы (нечеловеческое измерение). Традиция всегда оперирует с гибридами, не проводя внутри них четкие грани, не «очищая» их друг от друга, но осуществляя постоянную «медиацию», посредничество между ними, переводя («traduction», по-французски «перевод») одно в другое, передавая («tradition» — по-французски «передача») свойства одного другому. Архаическое общество, т. е. этнос в чистом виде, и есть гибрид — в этноцентруме вообще не делается никакого различия между человеком и внешним миром, этноцентрум в равной смере включает в себя и то и другое. В терминологии Латура, этнос есть гибрид по преимуществу, более того, есть синтез субъекта и объекта, предшествующий разделению на две составляющие617.
В условиях гражданского общества возникает проект жесткого разделения гибрида на две несводимые половины. По Латуру, это соответствует сфере политики и общества (вслед за Гоббсом, сформулировавшим принципы Левиафана и политического устройства, основанного на социальном контракте граждан, субъекта) и сфере естественной науки (вслед за Бойлем, заложившим основы критериев современной науки, базирующихся на лабораторном опыте и предполагающих наблюдение за объектами природы). Политика и общество соответствуют субъекту, естественная наука — объекту.
По Латуру, Новое время закрепляет это разделение в Конституции. Латур понимает под этим термином не политическое уложение, регламентирующее лишь социально-политическое устройство государства, главной идеей которого является принцип разделения властей. Конституция как социологический термин самого Латура (он пишет его с большой буквы) означает неписанный, но строго соблюдаемый закон Нового времени, настаивающий на том, что субъект и объект, общество и природа, человек и нечеловеческие существа разделены между собой ясной и непреодолимой гранью. Иными словами, Конституция Нового времени делает аксиомой и догмой невозможность «гибридов» между субъектом и объектом. Эта Конституция упраздняет их, лишает их легальности и онтологического права.
Мы легко можем увидеть в Конституции Латура формальную декларативную программу гражданского общества, т. е. его идеологический фасад. В той степени, в которой это общество верит в Конституцию, оно и является третьей производной от этноса, в которой от этноса уже номинально ничего не должно остаться. Конституция ставит гибриды вне закона, и в той степени, в какой она действительна, этнос как гибрид по преимуществу упраздняется.
Однако главный тезис Латура состоит в том, что Конституция, поставившая гибрид (этнос) вне закона, постоянно и неустанно (в тайне от своей саморефлексии) производит все новые и новые гибриды, сложные составные системы, где человеческое и нечеловеческое, субъектное и объектное сливаются до неразличимости.
Обнаружение сущности Конституции
В сфере политики гибридность заложена в самой идее Левиафана. По Гоббсу, люди (субъекты) составляют «общественный договор», на основании которого добровольно для защиты друг от друга передают все права суверенной власти, как собственного представительства «князю», т. е. государству, Левиафану. И далее, они все обязаны подчиняться ему как «рукотворному богу», обладающему абсолютной властью над ними. Исток этой власти имманентен самим людям (субъектам), но ее осуществление и авторитет приобретает статус объективности и «фатальности». Маркс и социология (традиции Дюркгейма) окончательно утверждают за обществом характер объективной реальности, предшествующей волеизъявлению субъектов.
В науке бессловесные нечеловеческие вещи — объекты, частички природы — помещаются в искусственный контекст лаборатории и опытов, где квалифицированные социальные группы выносят суждение относительно реальности или нереальности, доказанности или недоказанности того или иного природного явления или закона. Природа есть, по Конституции, чистый объект, совершенно не зависящий от субъекта, но на практике ученые изучают ее в искусственных, сугубо человеческих (лабораторных) условиях, в искусственно созданной «субъектной» среде, столь же субъективно интерпретируют и выносят на суд узкой группе квалифицированных компетентных специалистов. Только после этой «субъективной» и вполне «социологической» процедуры объект признается объективным.
Латур показывает, что даже в самых крайних и четких формах «очищения» субъекта от объекта (политика, социология) и объекта от субъекта (естественные науки) мы имеем дело именно с гибридами, которыми у Гоббса уже является Левиафан (в широком смысле не только гусударство, но и общество), а у Бойля — лаборатория. В дальнейшем же Новое время только умножает их, скрещивая общество с техникой, изучение природы с ее покорением, государство с экономикой, политику с экологией и т. д.
Так складывается парадоксальная ситуация: Конституция (программа гражданского общества) декларирует нормативное расчленение гибридов, и всякий раз, когда Модерну кто-то противоречит, он отвечает именно этим расчлением, точнее, указанием на расчлененность в позиции критиков (да и внутри самого Модерна это «очищение» составляет сущность «прогресса», «развития» и дальнейшей «модернизации»). Но при этом, когда на него не направлено пристальное критическое внимание, Модерн только и занимается тем, что множит гибриды, выступая против своих собственных базовых установок. По Латуру, несовременность Модерна в этом и состоит. В своем крестовом походе против этноса (гибридов, колективной идентичности, мифа, религии, иррациональности и т. д.) Модерн лишь мультиплицирует этноцентризм (те же гибриды, игибридные идентичности, новые мифы, квазирелигии и параноидальные иррациональные системы, закамуфлированные под «рациональность»). На поверхности, оставаясь в парадигме гражданского общества, это распознать невозможно. Но стоит лишь встать в позицию нон-модерна, признав в современном обществе одновременно архаические пласты и претензии на уникальность и отличие от общества традиционного, мы получаем уникальную возможность корректного исследования и «Конституции» (претензий Модерна), и гибридов — как вновь созданных, так и продолжающих существовать в новых условиях, но уходящих корнями в архаику.
Метод Латура и позицию нон-модерна, таким образом, мы можем отнести к арсеналу этносоциологических инструментов, особенно пригодных для работы с гражданским обществом как с обществом, само существование которого основывается на отрицании этноса, этнцентрума и свойственных им моделей идентификации.
Концепции и теории Латура подводят нас вплотную к постмодерну и проектам постобщества, которые будут рассмотрены в следующей главе.
Глава 12
ПОСТОБЩЕСТВО
§ 1. Феноменология будущего
Постмодерн как концепт
Нам осталось рассмотреть последнюю социологическую конструкцию, завершающую цепь производных от этноса. Эта конструкция представляет собой четвертую производную от этноса (койнемы) и именно она должна (может) прийти на смену глобальному обществу после того, как (и если) оно установится и утвердится. Мы видели, что гражданское общество в определенных формах уже существует в реальности, но пока оно все еще не стало глобальным, т. е. не реализовалось вполне. Поэтому следующая производная, логически вытекающая из предпосылок гражданского общества, ставшего глобальным, представляет собой еще более далекий горизонт. А поскольку нельзя быть уверенным в том, что глобальное общество при всех нынешних тенденциях вообще когда-либо реализуется (это вопрос открытый), то постобщество представляет собой чисто гипотетическую конструкцию или теоретическую модель.
Однако вместе с тем эта модель активно разрабатывается современными интеллектуалами и постепенно приобретает отчетливые черты в сфере философии, социологии, технологии, культуры, политики, экономики и т. д. Все вместе это принято называть Постмодерном. Постмодерн представляет собой гипотетическую конструкцию постобщества, и отдельные элементы Постмодерна активно проникают в социальную реальность — в первую очередь, там, где гражданское общество достигло наибольших успехов и укоренилось в социальных и политических областях. В этих зонах — в первую очередь, в США и Европе, а также в развитых капиталистических странах Азии (наиболее наглядно это в Японии) — внутри гражданского общества все отчетливее можно заметить постмодернистские черты, которые намечают вектора массивного и конкретного становления Постмодерна. При том, что программа гражданского общества до конца не выполнена (пока оно не стало по-настоящему глобальным), новая конструкция уже во весь голос дает о себе знать. Пока Постмодерн остается по большей части лишь философской и социологической теорией, но ее влияние постоянно растет по мере проникновения в самые различные сферы общества. Частично фрагменты Постмодерна обретают зримые черты феноменов, фиксируемых эмпирически.
Сделав эти уточнения, можно в общих чертах наметить модель постобщества, описать его основные параметры и соотнести их с этносоциологической топикой. Как анализ вероятного будущего это может быть отнесено к сфере, которую мы назвали «модальной социологией»618.
Концепт постобщества
Общество, соответствующее (в теории и в серии отдельных феноменов) Постмодерну, можно назвать «постобществом». Такое название оправдано тем, что в основе Постмодерна лежит идея доведения до последних пределов либерального тезиса об отказе от любых форм коллективной идентификации. Постмодерн не предполагает никаких нормативных связей одного индивидуума с другим и тем самым упраздняет базовую предпосылку общества как сверхиндивидуальной и межиндивидуальной инстанции. Постмодерн помещает всю динамику бытия внутрь индивидуальных пределов и отрицает онтологию любых трансиндивидуальных структур. Одним словом, Постмодерн строится на отрицании общества. Этимологически латинское слово «socium» означает «связь», «соединение». Этот термин подразумевает «связь» индивидуумов между собой в нечто больше, чем их математическая сумма (хотя либеральная идеология и оспаривает это положение, стремясь объяснить общество как продукт социального контракта, т. е. «договорной связи индивидуумов между собой»). В любом случае «socium» есть «связь». Постмодерн отрицает необходимость, неизбежность и автономность этой связи и предлагает рассматривать возможность такого бытия индивидуума, что внешние связи с окружающим миром,и в первую очередь, с окружающими людьми, будут необязательны, произвольны и случайны. В Постмодерне индивидуум мыслится полностью свободным от общества. А совокупность индивидуумов становится в таком случае условным, чисто статическим множеством, не имеющим никакого значения для каждого из них по отдельности. Общества как такового, во всех его разновидностях — от этноса, общины, народа, нации, государства, до гражданского общества и глобального общества — в Постмодерне нет. Следовательно, сфера классической социологии здесь заканчивается, и для исследования этого гипотетического объекта нам требуются новые инструменты и новые теории.
Изучение постобщества требует постсоциологии. В полном смысле слова такой дисциплины еще не выстроено, но отдельные философы и социологи разрабатывают концепции, теории, термины и понятия, призванные послужить основанием для ее появления. В этом ключе интерес представляют работы таких социологов, как Жан Бодрийяр619, Зигмунт Бауман620, Энтони Гидденс621, Майк Физерстоун622, Крис Рожек623, Уолтер Андерсон624, Скот Лэш625, Барри Смарт626 и т. д. Философским аспектам постмодерна и постобщества посвящены также наши работы «Постфилософия»627, «Радикальный субъект и его дубль»628, отдельные главы книги «Социология воображения»629.
Критика Модерна
В основании Постмодерна лежит критика Модерна. Эта критика исходит из замечания того, что поставленные Модерном задачи по освобождению человека от структур традиционного общества (религии, догм, властных иерархий, предрассудков, мифов, насилия, жестких гендерных стратегий, авторитаризма и т. д.) не были выполнены. Модерн, современное общество мыслило себя как радикальная альтернатива обществу традиционному и на этом основывало свои стратегии, установки, принципы. Постмодернисты показывают, что «освобождение от Премодерна» — всего лишь иллюзия и самообман. Модерн просто видоизменил традиционные иерархии и формы исключения, доминации, сегрегации и эксплуатации, но суть общества осталась прежней. На место религии пришла столь же догматическая наука. На место сословной иерархии — капиталистическая эксплуатация. На место Бога — человек, субъект. На место циклического времени, теории грехопадения и эсхатологии — прогресс.
При этом, как считают постмодернисты, с изменением фасада, сущность общества осталась той же самой. Таким образом, современное общество есть не что иное, как традиционное общество, только «скрытое», «завуалированное», «прикровенное». Этот постмодернистский подход заключал в себе идею, что необходимо совершить на практике то, что провозглашал, но чего не смог и не хотел осуществить Модерн. Некоторые постмодернисты (например, социолог Бруно Латур) в критике Модерна доходят до крайностей и утверждают, что «Модерна вообще не было»630. Этим они хотят сказать, что задача освобождения от иерархического общества с высокой степенью дифференциации Модерном не была выполнена и что поэтому необходима новая парадигма общества, способная реализовать ту степень свободы и независимости индивидуума, которую планировала программа Нового времени.
Постмодернисты уверены, что эпоха Модерна не справилась с глубинной модернизацией общества, и в этом ее принципиальное свойство. Современное общество, стремясь освободиться от религии, насилия и иерархии, на новом уровне воспроизвело «религию», «насилие» и «иерархию». В терминах этносоциологии это может быть описано как «неспособность буржуазных наций, и даже гражданского общества создать социальные системы, которые бы действительно порвали с Премодерном, т. е. с народом и этносом». Постмодернисты замечают в современности ту же тенденцию, что и этносоциологи, распознающие в основе различных производных неизменный этнос (койнему), но интерпретируют ее как принципиальный недостаток Модерна и ставят перед собой цель этот недостаток преодолеть.
Поэтому постмодернисты требуют сделать решительный шаг вперед и радикально освободиться от всех форм коллективной идентичности и от жестких форм дифференциальности (стратификации, иерархии и т. д.), свойственные, по их мнению, не только традиционному обществу (что очевидно), но и Модерну.
Критика Модерна со стороны Постмодерна состоит не в том, что Модерн плох сам по себе, а в том, что Модерн не совершил того, что провозгласил, и позволил тому, против чего он боролся, проникнуть внутрь него и предопределить его структуру.
Постмодерн берет на себя задачу совершить то, что Модерн запланировал, но осуществить не смог. В этом программа Постмодерна — сделать за Модерн его работу, которую тот провалил. Но ни о каком возврате к традиционному обществу в Постмодерне и речи идти не может. Постмодерн хочет сделать шаг в том же самом направлении, что и общество Модерна, но только дальше, глубже, радикальнее.
Постчеловек
Главной преградой на пути Постмодерна становится «человек», антропология Модерна. На человека, по мнению постмодернистов, переносится отныне вся иерархическая, репрессивная структура государства и общества. Если либерализм стремился освободить человека от государства и общества, придать ему статус автономного и самодостаточного бытия (это и есть эгоцентрум), то Постмодерн обнаруживает, что структура индивидуума (эгоцентрума) в точности повторяет иерархическую насильственную структуру государства и основана на подавлении «желаний», репрессии «бессознательных» импульсов, создании отвлеченных абстрактных нормативов, далеко не совпадающих с эмпирической структурой человека и его телесности. Иными словами, в человеке Модерна постмодернисты распознают всю ту же жесткую форму нормативной идентичности, что и в нации, традиционном обществе, религии, империи и т. д. Именно из-за этого Модерн не сумел осуществить свою «освободительную» программу, считают они. Он ставил своей целью освобождение индивидуума, человека, а следовало стремиться к освобождению от человека, от индивидуума. Так, в ходе критики человека как «тоталитарного» и «авторитарного» существа постмодернисты пришли к концепции постчеловека или к постгуманизму.
Смысл концепции «постчеловека» состоит в том, что человек отныне мыслится не как «индивидуум» (латинское «individuum» означат дословно «неделимое»), а как «дивидуум» (латинское dividuum — «делимое»). Человек есть не целое, но совокупность гетерогенных частей, каждая из которых обладает некоторое долей автономии. Части человека находятся друг с другом в сложных отношениях, подчас противоречат друг другу, а иногда даже враждуют. Очевидный конфликт развертывается между телом и мышлением, желаниями и рассудком, подсознанием и сознанием.
Эгоцентрум оказывается расколотым на несколько фрагментов, а между телесной сферой и сферой мышления обнаруживается настоящая «классовая борьба». Сознание постоянно репрессирует желания, поднимающиеся со дна телесности. Телесность мстит психическими дисфункциями, что обширно иллюстрируется психоанализом.
Так индивидуум превращается в полицентрическую сферу противодействующих друг другу агломератов — сознательных, бессознательных, вегетативных, органических, телесных, психических и т. д. И если в эпоху Модерна все сводилось к укреплению сознательной структуры личности, к рациональности и, в крайнем случае, гармонизации психических явлений со структурами сознания (ранний психоанализ), то постмодернисты склонны встать на сторону «желаний», на сторону «бессознательного» и поддержать «тело» в его революционной борьбе с рассудком. Отсюда рождается ряд философских концептов Постмодерна — «тела без органов» (А. Арто, Ж. Делез), «ризомы» (Ж. Делез, Ф. Гваттари), «киборга» (Д. Харравэй), «постчеловеческих условий» (Р. Пепперель) и т. д. Все они предлагают заменить классический «эгоцентрум» Модерна новыми конструктами.
Тело без органов
Концепцию «тела без органов» впервые сформулировал французский литературный критик, сюрреалист Антонен Арто631 как «поэтический образ». Статус философского концепта ему придал философ-постструктуралист Ж. Делез632. Основываясь на идеях социолога Леруа-Гурана633, он предложил рассматривать формирование человеческих органов как своего рода «разделение труда» внутри индивидуума и развитие технических средств, с неизбежностью ведущих (по Марксу) к отчуждению от окружающей среды и к формированию классовых отношений. Но постмодернисты видят классовые отношения и развитие орудий труда в самом индивидууме. Так, они постулируют «тело без органов» как форму изначальной и сбалансированной телесности человека, которая свободно скользит по «гладкому» пространству. Согласно Делезу, это и есть нормативное состояние телесности, которое и впоследствии старается пробиться через все надстройки технического инструментария и дать о себе знать. «Тело без органов» хочет вернуться к своему состоянию и скользить по «гладкому» пространству. Но оно стеснено органами, которые, в свою очередь, представляют собой продукт адаптации к «негладкому», «изборожденному» пространству. В этом исток перводрамы. Делез называет это «территориализацией», т. е. развитием телесных органов, привязанных к неровной поверхности окружающего мира. Этот процесс сказывается на том, что человеческое тело становится в оппозиции своей изначальной телесности. Эта телесность («тело без органов»), стремиться избежать привязки к «органам», что проявляется в феномене «детерриториализации». По Делезу, рука есть «детерриториализированная» нога. Когда человек встает вертикально, у него руки освобождаются. У них нет больше прямых технических функций, и в этом он видит локальный триумф «тела без органов».
Сознание, по Делезу, есть орган по преимуществу и является техническим инструментом и источником репрессий всякого рода. Само сознание отражает импульсы телесности, но искажает их, помещает в сложные технические циклы эксплуатации и подавления. Сознание есть центр власти, насилия и подавления, т. е. прямой аналог государства, нации, правящей касты или буржуазный класс эксплуататоров. Человек как таковой в своей конфигурации есть «тоталитарное» репрессивное существо. Индивидуум постоянно подавляет свою телесность, «территориализирует» ее. На этом основывается государство, власть, капитализм, но на этом же основывается и сам индивидуум. Делез предлагает встать на сторону телесности («тела без органов»), как Маркс в свое время встал на сторону пролетариата. В борьбе тела и сознания Постмодерн выбирает тело. Но не отдельное анатомически сконфигурированное, «территориализированное» тело, но скорее «телесность» как изначальный концепт. Эта телесность есть носитель доиндивидуальных (но в то же время неколлективных и не трансиндивидуальных) желаний («машина желаний»). И этим желаниям надо дать свободу, свободу от органов и тем более от сознания.
В такой перспективе философы-постмодернисты обращаются к теме безумия634 как революционной силы. Они считают, что психиатрические нормативы вменяемости, ментального здоровья и т. д. носят «репрессивный», «тоталитарный» характер и требуют признать за умственными расстройствами статус «альтернативной рациональности». Шизофрения особенно привлекает их внимание, т. к., согласно этимологии («по-гречески «шизофрения» означает «раскол сознания»), этот вид психического заболевания основан на «расщеплении» сознания, что постмодернисты интерпретируют как вступление в диалог с сознанием «тела без органов» и различных его проявлений. «Постчеловеческое общество» Делез описывает как явление «шизомасс», т. е. хаотическое и спонтанное взаимодействие глубоко больных (пост) людей. Это рассматривается как социальный идеал будущего, как горизонт «модернизации» самого Модерна.
Ризома
Другим постчеловеческим концептом, который Ж. Делез разрабатывал вместе со своим постоянным соавтором Феликсом Гваттари, является «ризома» (от греческого «корень», «корневище», «корнеплод»). Концепт ризомы призван заменить собой индивидуума. Ризома в ботанике представляет собой такую растительную систему, которая распространяется горизонтально, под землей, продвигая корневища вдоль поверхности земли сразу во всех стороны. В отличие от обычных растений и деревьев, растущих по оси вертикальной симметрии на одном и том же месте (корни — вниз, стебли, стволы — вверх), ризома дает ростки и пускает корни в случайном месте. Если вырезать корни и стебли, сама ризома не пострадает и продолжит свое распространение вдоль горизонтальной поверхности. Для обычного растения такая операция будет означать конец существования.
Индивидуум, по Делезу, подобен обычному растению. Его корни — телесность и бессознательное, его стебель (ствол и ветви) — сознание. Симметрия индивидуума иерархична и строго определена. Ризома призвана заменить собой индивидуума в обществе. Ризома — это форма постчеловеческого существования, это и есть «дивидуум», постчеловек. Ризома не отождествляется с индивидуумами, она может произвольно и игровым образом порождать различные индивидуумы — с различным прошлым и будущим, бессознательным и сознанием.
Примеры ризоматического бытия мы видим в сетевых системах. Пользователь Интернета может выступать под разными «никнеймами», придумывать себе личную историю, включая пол, место рождения, возраст, этнос и т. д. Он может также создавать себе «виртуалов» — как своих, так и других пользователей — и при желании сколь угодно долго вести игру, перевоплощаясь в ту или иную известную или менее известную личность. Затем он легко может поменять ситуацию, стирая искусственного индивидуума, как аккаунт в блоге или участника социальной сети. Здесь еще сохраняется индивидуум, хотя он рассеивается на несколько виртуальных индивидуумов, умножая самого себя, создавая вымышленных «акторов» или влезая в «кожу» другого реально существующего индивидуума. Пока мы находимся в гражданском обществе и в эпохе Модерна, идентичность индивидуума (пользователя), в частности, его идентификационный номер, IP или карточка, служат центром консолидации и точкой отсчета. Но легко себе представить, что постоянное пребывание в сети Интернет создает условия для реального рассеивания индивидуума по серии своих клонов, виртуалов, никнеймов, фиктивных или реальных историй, знакомств, романов, дискуссий, вступлений в группы и выхода из них. То, что приходит на место человека, есть в таком случае «постчеловеческая ризома».
Киборг
Еще одна версия постчеловека американским социологом и философом Донной Харауэй, активисткой феминистского движения, названа «киборгом».
В своем «Манифесте Киборга»635она утверждает необходимость сращивания человека с аппаратами. Этот процесс Д. Харауэй считает неизбежным и желательным, поскольку сам человеческий организм с его упорядоченной вертикальной симметрией является «тоталитарной» структурой, репрессирующей телесные желания. Преодоление этой репрессивной структуры возможно только через радикальную трансформацию всей формы тела, усовершенствования определенных органов с помощью технических средств и генной мутации человечества в сторону более гибкой постчеловеческой телесности. «Киборг» становится философской метафорой для преодоления всех дуалистических расколов и дифференциацией, на которых, для марксистки и феминистки Донны Харауэй, строится вся структура общества, состоящая из отчуждений, границ и репрессий. Киборг — это трансгрессия между человеком и машиной, техникой и природой, индивидуумом и обществом, мужчиной и женщиной. Это образ трансгрессии, по модели которой должно строиться (пост) общество XXI в.
Идею Донны Харауэй подхватывает литературный критик Кэтрин Хэйл. В своей книге «Как стать постчеловеком»636 она анализирует, как процессы развития потоков информации в мире постмодерна минимализируют телесность и делают ее «гипотетической», «воображаемой», «игровой»; как рушится либеральная и рациональная антропологическая модель индивидуального субъекта, доминировавшая в Новое время и как происходит формирование киборга как нового актора глобального мира. Киборг у Кэтрин Хэйли воплощает в себе постчеловека, в котором субъектность является игровой и переменной, который движется в информационных потоках, произвольно меняя свою телесность, и который, помимо зловещих черт, пугающих наших современников, может иметь и позитивную сторону, расширяющую границы жизненного опыта.
Постгендер и чистая сексуальность
Идеи постчеловека в форме «киборга» предполагают преодоление гендерного дуализма, т. е. разделения полов на мужской и женский. Пол рассматривается постмодернистами как одно из проявлений тоталитаризма структуры индивидуума и требует преодоления. Постчеловек должен быть носителем постгендерной идентичности, т. е. не быть ни мужчиной, ни женщиной.
Преодоление пола может происходить разными путями.
Самая простая модель расширения гендерных нормативов — это гомосексуальные практики, постепенно все активнее претендующие на социальный норматив. На этом уровне стремление постмодернистов преодолеть гендер еще не вступает в противоречие с либерализмом и толерантностью, на которых основано гражданское общество. То, что пол может быть свободно выбираться индивидуумом, признают и либералы и постмодернисты. Но постмодернисты идут дальше и настаивают на упразднении пола как такового. Это подразумевает трансгендерные операции и перемену пола. По мере развития хирургических практик эти операции могут быть неоднократными, и один и тот же индивидуум может менять свой гендер несколько раз. В определенных случаях эти операции могут ставить своей целью исключение одних анатомических признаков данного пола, но сохранение других. Так, в развитых странах все чаще практикуются трансгендерные операции, создающие «shemale», полумужчин — полуженщин.
Этому соответствует переход от понимания желания как свойства дифференциала между полами, к желанию как таковому, как выражению чистой телесности «тела без органов». На место секса, предполагающего пару людей, приходит сексуальность вообще («диспозитив сексуальности», по М. Фуко637), теоретически не предполагающая никого конкретного, даже самого индивидуума.
Социология клонов и сверхчеловек
По мере развития постгендерного представления о структуре желания встает вопрос о внеполовом размножении человечества. Это направление сосредоточено в генной инженерии и опытах по клонированию живых организмов. Клонирование представляет собой научную сферу воспроизводства точной генетической копии живого существа путем искусственных манипуляций по копированию генокода. Задача клонирования имеет самое прямое отношение к постобществу и постчеловеку:в обществе, где будет отсутствовать пол, необходимо обеспечить воспроизводство внеполовым путем. Поэтому так или иначе постобщество будет строиться на клонах, и именно они будут главными действующими фигурами Постмодерна.
С другой стороны, расшифровка человеческого генома позволит влиять на те или иные качества, улучшать и совершенствовать определенные функции человека, подавлять вероятные заболевания — одним словом, выводить более совершенный биологически вид. Таким образом, в перспективе постчеловека обнаруживается измерение улучшения человеческой природы, т. е. выведение «сверхчеловека» как генетической особи, обладающей большими способностями и лучшими характеристиками, чем обычные современные люди.
Идея сращивания человека с машиной позволяет включить в процесс усовершенствования и механические приборы, которые могут быть вживлены в человеческий организм, как совершенные протезы или искусственные органы. Таким образом, в сфере аппаратов и механизмом лежит еще одно измерение для совершенствования человека.
И, наконец, нельзя исключить возможности комбинаций генов с особями других животных видов, т. е. создание «химер» и «гибридов», которым были бы присущи как человеческие, так и животные свойства.
Пока эти опыты находятся в зачаточном состоянии и дают лишь обильную пищу для произведений научной фантастики. Но если сопоставить самые смелые мечты Жюля Верна, казавшиеся немыслимыми в период создания фантастом его произведений, с техническими достижениями ХХ в., мы увидим, что подавляющее большинство из них стало рутиной в наше время. Поэтому клоны, мутанты и киборги представляют собой не такую уж и немыслимую стадию в применении на практике современных научных методов и технологических процедур.
Постчеловеческое общество в теории не просто учитывает постчеловеческие формы жизни, но и предлагает к ним заранее адаптироваться.
Поствремя и постистория
В Постмодерне меняется время. Вместо линейного времени и концепции прогресса приходит концепт постистории, впервые введенный в современный философский оборот антропологом и философом Арнольдом Геленом (1904–1976) и превращенный в ходовое понятие современной социологии Жаном Бодрийяром638.
Постистория отличается тем, что совокупность событий как проявлений «нового» перестает складываться в ту или иную интерпретационную структуру, как это было в эпоху классической для Модерна (и даже премодерна) истории, когда она мыслилась как система выстраивания «нового» («событий») в семантическую последовательность. Новое время ориентировало эту семантическую последовательность по логике прогресса, накопления данных, движения к совершенствованию и улучшению социальных условий жизни.
Постистория порывает с историей как с семантической матрицей, как с алгоритмом дешифровки «событий», которая выстраивала бы их в соответствии с определенной ожидаемой или эвристически открываемой структурой. Постмодерн замечает, что такой подход есть не что иное, как «придумывание» истории, т. е. подгонка событий под заведомо заданный смысловой паттерн, являющийся референтом общества. Но такое «новое» есть не что иное, как подтверждение «мифа». Следовательно, утверждают постмодернисты, история есть инструмент тоталитарного насилия над «новым», не позволяющий «новому» себя проявить таким, как оно есть. Но вопрос о том, каково это «новое» в отрыве от семантических структур классической истории, заведомо утрачивает смысл. То есть «новое», «событие», открывающееся в постистории, должно быть с необходимостью бессмысленным. Если оно поддается осмыслению, то попадает в жесткую «тоталитарную» матрицу классической истории, ее нормативного «дискурса».
Постистория есть такая форма социального времени, которая состоит только из потока «нового», не имеющего смысла639. Но если главным является отсутствие смысла, можно заново обратиться к «старому», которое станет «новым» в тот момент, когда потеряет свой исторический смысл. Поэтому Постмодерн практикует метод рециклирования, т. е. воспроизводства событий (стилей, мод, обычаев, концептов и т. д.) прошлого в отрыве от их исторического содержания. Обессмысливая событие «старого», мы делаем его «новым», т. к. вне семантического поля оно еще к нам не поступало. Таким образом, открывается гигантский резервуар нового: «новым» оказывается все то, что является исторически бессмысленным, т. е. то, что не поддается исторической интерпретации. Ликвидация истории и переход к постистории делает «новым» все вообще. Постмодернисты считают, что это чрезвычайно увлекательно.
Информационное общество
Поствремя находит свое выражение в информационном обществе. Информация есть «новое», еще не подвергшееся интерпретации. Информационное общество предполагает увеличение объема информации и сокращение доступа к интерпретационным системам, вплоть до их полного упразднения. Все должны быть в курсе всего, но при этом не понимать ничего из той информации, которой они владеют. Информационное общество делает мир все более прозрачным и открытым, но за счет снятия контрастности (позволяющей различить фигуры) и упразднения измерения тайны и глубины. Все начинается и заканчивается плоскостью экрана, заполненного стремительно сменяющими друг друга образами. Смысл информационного кванта состоит в том, чтобы быть потребленным. Это и есть знаменитая формула канадского социолога Маршалла Маклюэна (1911–1980) «Medium is a message»640, что означает, что информация есть не цель, но состояние, чей смысл заключается в самом процессе ее получения. Послание в информационном обществе не имеет смысла, информация — это знание, лишенное смысла. Она не предполагает включения в интерпретационный семантический контекст. Поэтому она может рециклироваться бесконечно. Главное — она должна оставлять ощущение новизны. И работа со стилизацией произвольной информации с целью придания ей качества «новизны» составляет смысл существования информационных институтов, как их понимает Постмодерн.
Постпространство
В Постмодерне трансформируется и пространство. Оно становится виртуальным, информационным, сетевым. Структуру сетевого общества, пространство которого представляет собой переплетение сетей, подробно изучил испанский социолог Мануэль Кастельс641. Он является автором концепции «сетевого общества». Это общество имеет дело с новым типом пространства, являющимся фрагментарным, глобальным и структурированным вокруг маршрутов, по которым осуществляются те или иные сетевые процессы (например, вокруг транспортных терминалов, дорог, аэропортов), или пунктов местонахождения серверов, соединенных между собой оптоволоконными кабелями.
Вдоль этих маршрутов и особенно вокруг терминалов пространство чрезвычайно возделано, снабжено развитой информоструктурой, представляет собой высокотехнологические зоны. Эти терминалы, к которым относятся и отдельные пользователи сетей, представляющие собой микротерминал, живут в ритме сети и ориентированы прежде всего на нее, а не на то, что их окружает в реальном мире. Весомость виртуального пространства постепенно возрастает, а весомость и значение реальной окружающей среды, напротив, теряет значение. Легкость связи и перемещений по миру делает необязательным знание ближайших окрестностей, в которых человек обитает. Так пространство становится искаженным, меняет свои пропорции: далекое расстояние становится ближе близкого, то, что происходит за углом дома, представляется иногда бесконечно далеким.
Сетевое пространство является глобальным и постглобальным. Помещая всю планету в сферу сетей, и малые и крупные терминалы начинают организовываться по логике, не имеющей ничего общего с классическими дистанциями и расстояниями. Более того, смысл сети состоит в постоянном перемещении — в потоках данных, денег, товаров, людей и т. д. Пространство становится подвижным, переменным, турбулентным, захватывающим в себя и приводящим все в движение. Человек начинает рассеивается по сетям, вовлекаться в их энергию. Индивидуум превращается в постоянного «кочевника», «номада». Если учесть индивидуальный характер постмодернистской антропологии, то по сетям движется не сам человек, а его элементы — клоны, никнеймы, двойники. В каждой отдельной сети индивидуум представлен своей частью. Сети меняются и перекрещиваются друг с другом — точкой их перекрещивания и является мгновенное бытие пользователя, его временная, эфемерная индивидуальность, которая упраздняется и стирается, как только динамика сетей изменяется.
Сетевое виртуальное пространство является ризоматическим. Оно распространяется во все стороны подобно тому, как рассеиваются грибницы или клубневые растения. Наталкиваясь на препятствие в одном месте или будучи вырванным с корнем, оно проявляется в другой точке без большого для себя ущерба.
Обобщающий образ постобщества
Постобщество представляет собой общество, в котором социальность будет упразднена, а вся проблематика перенесена внутрь индивидуума. При этом в отличие от классического либерализма и нормативов гражданского общества, внимание переносится на субиндивидуальный уровень.
Постмодерн как крайний горизонт глобального общества представляет собой пока чисто теоретическую конструкцию, в которой предполагается отмена как общества, так и индивидуума. Поэтому мы не можем пока говорить об обществе, но вынуждены использовать термин «постобщество». Все те реалии, с которыми оперирует социология, в Постмодерне качественно меняются, «мутируют», и перед нами открывается (пока чисто теоретическая) картина постчеловечества, живущего в радикально новых условиях, где нет ни привычного набора версий социального времени (ни классического для Модерна, ни свойственного Премодерну), ни социального пространства, ни человека (со всем веером его возможных коллективных и индивидуальных идентификаций).
В настоящий момент такая картина относится к сфере научной фантастики и авангардных произведений искусства. С ней имеют дело философы и культурологи, строящие абстрактные конструкты, на логическом предвидении тех сил, векторов и тенденций социального развития, которые достоверно присутствуют в нашем обществе. Но если сторонники глобального общества останавливаются на «конце истории» (как Ф. Фукуяма), то постмодернисты заглядывают по ту сторону конца и пытаются описать то, что «начнется» после него.
При всей кажущейся экстравагантности постмодернистских описаний постобщества надо учитывать два момента:
1) теоретический, заключающийся в том, что логическое продление основных тенденций и трендов Нового времени, общества Модерна, философских и антропологических основ гражданского и глобального общества, приводит нас именно к модели Постмодерна, которая основана не на пустом месте или праздных фантазиях экстравагантных «оригиналов», но на здравом и корректном анализе сущности процессов, лежащих в основе гражданского общества и общества глобального: за обществом, понимаемом в либеральном глобальном ключе, действительно, должно последовать постобщество как естественное продолжение тенденции к освобождению индивидуума от любых форм коллективной идентичности; иными словами, доведенная до своего логического конца программа Модерна сама собой переходит в программу Постмодерна, а общество — в постобщество;
2) практический: элементы Постмодерна активно внедряются в нашу жизнь, не дожидаясь построения глобального общества — особенно это заметно в развитии информационных технологий, в культуре, в молодежных модах и стилях поведения, в современном искусстве, в рекламе и т. д.
Поэтому в постобществе мы имеем дело не просто со случайной абстракцией, а с обоснованной и частично (пусть в небольшой пропорции) реализованной программой. Поэтому к постобществу следует относиться серьезно, как к вероятному образу будущего, в отдельных своих аспектах реализующемуся уже сегодня.
§ 2. Этносоциологическая цепь производных
Постобщество и глобальное общество
Мы рассматриваем постобщество как четвертую производную от этноса и как вторую производную от глобального общества. Это позволяет интегрировать постобщество в систему этносоциологической дисциплины и предложить его постэтнический анализ и этноанализ.
Постэтнический анализ состоит в том, чтобы показать качественное отличие постобщества от глобального общества. В основных своих чертах постэтнический анализ описан в начале данной главы, где мы дали характеристику постобщества.
Основное отличие постобщества от глобального общества состоит в что, что происходит переход от индивидуальной идентификации к дивидуальной и на первый план выходит постчеловеческий горизонт в своих различных воплощениях.
Можно считать постобщество производным именно от глобального общества, поскольку между ними наличествует качественная граница, аналогичная предшествующим фазовым переходам. Каждый из фазовых переходов, рассматриваемых этносоциологией, сопровождается радикальным скачком от одной формы идентичности и идентификации к другой. На каждом переходе меняется структура и самого общества, и соотношения в нем личности и целого. Всякий раз мы имеем дело с радикально отличным обществом, которое основывается на разных формах и структурах его внутреннего членения. Постобщество отличается от гражданского общества не менее радикально, нежели само гражданское общество отличается от нации и т. д.
Эксцентрум в цепочке трансформаций этноса
Можно проследить фазовый переход от гражданского общества к постобществу через мутацию эгоцентрума. В гражданском обществе (и соответственно, в обществе глобальном как высшей и совершенной стадии гражданского общества) эгоцентрум, пространство индивидуума, становится главным и нормативным. При этом считается, что это пространство должно быть максимально свободным от влияния на него каких бы то ни было внешних факторов, претендующих на «обязательность», «образец», «догму». Общество подтачивается в своих основаниях уже и здесь, т. к. индивидуум, эгоцентрум, предоставленный самому себе больше никак не связан с другими индивидуумами и не имеет нормативного соотношения с целым. Глобальное общество само по себе есть шаг за пределы общества. И лишь иерархическая структура индивидуума, его жесткая структуризация, восходящая к предшествующим социальным формам, является гарантом сохранения остаточных и рудиментарных социальных связей, а соответственно, и самого общества. Глобальное общество мыслится как совокупность автономных эгоцентрумов. На этом общество (и привычная нам социология) заканчивается и начинается нечто другое, что мы и называем постобществом.
За пределом эгоцентрума мы можем распознать следующую фигуру, которую можно назвать «эксцентрумом». Эксцентрум представляет собой постчеловеческого актора, наделенного децентрированной, динамически изменяющейся и расколотой структурой. Эксцентрум интериоризирует проблематику, помещает основной дифференциал вовнутрь, «проглатывает» трансцендентность. Поэтому эксцентрум не стабилен, не равновесен и ассиметричен. Он выражает себя в фигуре «freak», эксцентрика, «странного» человека, отличительной чертой которого является внутренний и внешний дисбаланс считываемый в психических и физических действиях, состояниях, речи.
Эксцентрум — то расколотый эгоцентрум, поместивший фигуру «другого» внутрь себя, включивший в себя «другого» как «другого». Эксцентрум с психиатрической точки зрения представляет собой шизоида (не «шизофреника», как психически больного, но определенный психический тип, часто остающийся в контексте нормы, но тяготеющий к «расщеплению сознания», проявляющий отдельные «шизофренические» черты).
Можно провести параллель между этноцентрумом и лаосом, с одной стороны (первый фазовый переход в этносоциологии), и эгоцентрумом и эксцентрумом, с другой (третий фазовый переход в этносоциологии).
Этнос как коллективная идентичность не знает фигуры «другого», он автономен и самодостаточен. Лаос сталкивается с «другим», бьется с ним, но и впускает его в самого себя (сословная, кастовая дифференциация и т. д.).
Эгоцентрум самодостаточен и автономен (хотя в основе его, в отличие от этноса, лежит индивидуальная идентификация). Либерализм и теории гражданского (равно как и глобального) общества считают его устойчивым и гармоничным. Эксцентрум расколот (как и лаос) и как лаос впускает фигуру «другого» в себя.

Схема 24. Фазы трансформации социальной идентичности
Продлевая цепочку производных от этноса вплоть до постобщества, мы завершаем ревизию возможностей человека и человеческого общества и закрываем тем самым инвентарь этносоциологических знаний.
Человеческое общество начинается с его простейшей формы — этноса — и заканчивается на постобществе, исчерпывая все заложенные в человечестве социальные возможности. Этнос — наиболее простая, а постобщество — наиболее сложная форма, т. к. доводит социальный дифференциал до предела, перенося его внутрь индивидуума, и даже делает шаг за этот предел. При этом фундаментальный дифференциал качественно и по своему радикальному масштабу максимален именно в народе (традиционное общество), где фигура «другого» и накал героического столкновения с «ничто», смертью, небытием достигает предельного максимума. Национальное общество, сопряженное с доминацией третьего сословия, еще более усложняет социальную структуру, но одновременно смягчает героический травматизм народа (традиционного государства, религии, цивилизации). Поэтому буржуазное общество одновременно и более дифференцированное, нежели сословное или кастовое, но и более смягченное.
Гражданское общество еще более усложнено по сравнению с национальным: оно основано на сложнейших процедурах дробления на индивидуумов и стратегиях по демократическому согласованию воли индивидуумов в нечто общее. Социальный дифференциал этого общества достигает предела, что и проявляется в небывалом развитии техники и технических средств. И, наконец, постобщество еще более усложняет систему, превращая каждого индивидуума в противоречивое и расколотое внутри «общество». Но этот постчеловеческий горизонт вместе с тем представляет собой и смягчение внешних, социальных противоречий, т. е. низведение к минимуму того жесткого и травматического различия, на котором был основан Лаос (народ).
Все эти моменты представляют собой диалектический процесс. Мы начинаем с простого общества с максимально возможной коллективной идентичностью, цельного и гармоничного, в котором дифференциал бесконечно мал и стремится к нулю. Это — этнос.
От него мы переходим к историческому явлению народа как к обществу с высоким дифференциалом, при этом драматичность и масштаб этого дифференциала максимален для всех возможных типов обществ. Противоречия между верхом и низом, бытием и небытием, жизнью и смертью, Богом и миром, своими и чужими в народе достигает предельных значений и высшего накала.
Следующая фаза усложнения делает общество более дифференцированным, разделенным на атомарные личности, индивидуумы. Но при этом накал снимается. Вместо вертикальной дифференциации (сословной, кастовой, религиозной, политической и т. д.) мы переходим к горизонтальной дифференциации (индивидуальной, основанной на разделении труда и на классовой принадлежности). Это основная социологическая программа Модерна.
Эта же тенденция — усложнение и вместе с тем снятие высокого напряжения — сохраняется и при переходе к гражданскому обществу, которое представляет собой завершение программы Модерна. На следующем этапе, при переходе к Постмодерну, дифференциал достигает максимума и дробит, расчленяет неделимое (индивидуума). В то же время накал социальной напряженности и масштаб драмы неравенства, напротив, сходит на «нет».
Если соотнести эксцентрум с этноцентрумом, можно увидеть некоторые соответствия. На социальном уровне и этноцентрум, и эксцентрум в равной степени тяготеют к отсутствию различий, предоставленности самим себе, гармоничности. Дифференциал социальности в обоих случаях тяготеет к нулю. Но если этнос гармоничен и внутри, а также коллективен, то эксцентрум, напротив, внутренне предельно расколот, дифференцирован и нестабилен, т. е. находится, скорее, в состоянии напряженной героической борьбы, свойственной «народу» (только на сей раз борьбы с самим собой, т. к. «другой» интериоризирован). Эксцентрум не историчен для общества, но историчен для самого себя.
Вместе с тем эксцентрум как эгоцентрум ориентирован асоциально, но только на этом пути он проделывает гораздо больший путь, чем эгоцентрум и уходит от общества, обрушивая при этом само общество как таковое.
Так мы получили полную цепочку производных от этноса, описав особенности каждого из соответствующих обществ.
Этническое измерение Постмодерна
Остается поставить вопрос о локализации этнического измерения в постобществе. Мы видели, что в каждой последующей производной от этноса этническое начало уходит в глубину социальных конструкций и выступает лишь косвенно и опосредованно, хотя в момент кризиса социальных структур этнос всякий раз вновь дает о себе знать.
В народе обнаружить этнос несложно. В нации уже сложнее, в гражданском обществе это представляет уже действительно серьезную проблему.
Дело в том, что постобщество вообще не предполагает в своей структуре такого этажа, как этнос. Этноса в постобществе нет вообще. Он остается на предшествующих фазах, а само постобщество станет реальным только тогда, когда последние следы этноса будут стерты в эгоцентруме. Но мы видели, что в эгоцентруме этнос присутствует в форме подсознания, которое проникает в солипсические структуры эгоцентрума «изнутри». Поэтому для перехода от эгоцентрума к эксцентруму необходимо упразднить подсознание.
В рамках человеческого вида и социальной культуры упразднение подсознания невозможно. Оно составляет особенность конституции человека и лежит в основе социальности как таковой. Поэтому одной из задач Постмодерна является искусственное создание человека без подсознания. Таким может быть клон, киборг или мутант. Постгендерное существо с модифицированным геном, созданное в лабораторных условиях и выращенное в стерильных условиях постобщества, действительно, может не обладать подсознанием и полностью определяться теми когнитивными кодами, которые будут в него заложены искусственно. Поэтому по-настоящему лишенным этнического измерения может быть только постчеловек, т. е. машина.
Являющаяся частой темой в фантастических романах битва людей с машинами или киборгами представляет собой экспликацию социологической грани, которая отделяет людей с этническим измерением (собственно люди) от постлюдей, у которых такое измерение отсутствует.
Схема 25. Усложнение этносоциологической структуры общества (на каждом этапе добавляется новый слой, а прежние уходят в область «социального бессознательного». В треугольниках отмечены движущие силы перехода)
Если выстроить всю линию изменений антропологического типа от этноса до постобщества, мы получи следующий ряд:
шаман — герой — гражданин — человек — киборг (мутант, клон).
Ему соответствует параллельная цепочка:
этносцентрум — лаос — демос — эгоцентрум — эксцентрум.
Машинный язык
Точно такую же последовательность мы получаем и в отношении мутации языка. Для этноса характерен язык как таковой (глосса). Язык есть сущность этноса. В народе простота языка радикально усложняется, возникают койне и полиглоссия.
Вместе с нацией устанавливается нормативный «идиом». Гражданское общество, становясь глобальным, вводит «искусственный язык» и способствует развитию произвольных «индивидуальных языков». В постобществе должен сложиться постязык как своеобразное сочетание машинного языка с «языком» зверей.
О постязыке пока ничего определенного сказать невозможно. Вероятно, это будет форма предельного упрощения «искусственного языка», сведение его к некоторым формализованным математическим командам и формулам на дигитальной основе, на чем базируются современные компьютерные языки. С другой стороны, по мере обособления биологической, телесной составляющей человеческого организма в постчеловеческую речь, видимо, будет включаться все большее число эмоционально окрашенных, но предлогических по своей структуре элементов — возгласов, выкриков, рычаний, чириканий, мяуканий, свиста, трелей (здесь можно вспомнить недавний феномен «мистера Тро-ло-ло»), отдельных нечленораздельных рулад, воспроизводящих звуки, издаваемые зверьми.
Глава 13
КОНТЕМПОРАЛЬНЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ
§ 1. Современность и контемпоральность в этносоциологии
Теория и реальность этносоциологии актуальных обществ
В предыдущих главах мы рассмотрели теоретические аспекты отношения гражданского общества и постобщества к этносу. Теперь с учетом общих теоретических установок проанализируем ряд процессов и явлений, напрямую связанных с этносами в тех обществах, которые существуют сегодня. Напомним: мы живем в обществах фазового перехода от национальных государств с более или менее развитым гражданским обществом к обществу глобальному наряду со все более нарастающим количеством феноменов Постмодерна, т. е. элементов постобщества. Это в полной мере применимо к обществам Западной Европы и Северной Америки. Однако, хотя с формальной точки зрения в других частях света все обстоит приблизительно так же, существует ряд социологических особенностей, качественно меняющих эту картину.
Номинально все сухопутное пространство планеты разделено сегодня на территории национальных государств (за исключением ледового континента Антарктиды). Все страны политической карты мира считаются нациями и имеют соответствующий формальный статус в международном праве. Многие международные организации — такие как ООН, где участвуют представители всех признанных национальных государств — считают гражданское общество социальным нормативом и исторической целью и ставят перед собой задачу способствовать его становлению, укреплению и развитию. Другими словами, переход от наций к гражданскому обществу и, соответственно, к обществу глобальному имеет почти нормативный статус в глобальном масштабе, хотя скорость этих процессов и их механизмы разные страны и разные политические системы понимают по-разному.
Вместе с тем во многих (если не во всех) незападных странах такое положение дел является лишь фасадом, за которым разворачиваются совершенно иные этносоциологические процессы. Формально и юридически мы имеем 193 официальных национальных государства и 13 непризнанных государств. Существует 193 нации с различными политическими системами, в каждой из которых гражданское общество развито в большей или меньшей степени, но при этом во всех них действует принцип гражданства, т. е. индивидуальной легальной принадлежности человека к нации. Неформально же все эти страны представляют собой сложнейшие этносоциологические системы, находящиеся на разных фазах исторического становления и имеющие дело с различными этносоциологическими структурами, сосуществующими на разных социальных слоях.
Археомодерн
Номинально все являются нациями. На практике это далеко не так.
Ряд крупнейших государств Азии — например, Индия, Китай, Пакистан, Иран и т. д. — сохраняют значительное количество черт традиционного общества, которые влияют практически на всю социальную сферу. Под покровом внешней демократии и буржуазности (в Китае до сих пор сохраняется социалистический строй с элементами буржуазных отношений, который также относится к обществам Модерна и признает индивидуальное гражданство) в этих обществах преобладают принципы, характеризующие народ — традиционное государство, религиозное общество и цивилизация. При этом в отдельных зонах сохраняются анклавы архаических обществ, которые до сих пор так и не были интегрированы в более дифференцированную структуру народа (лаоса). Под влиянием Запада и на основании колониального опыта, во многом предопределившего постколониальный этап, традиционные общества Азии восприняли от западноевропейской цивилизации многие внешние черты — политические институты, экономические модели, культурные нормы. При этом в глубине они сохранили прежний уклад или перетолковали западные «нововведения» в особом ключе. Мы называем такое явление «археомодерном»642, т. е. неглубоким проникновением социологической модели современности (с ее национальным и гражданским обществом, индивидуальной идентичностью, эгоцентрумом и т. д.) в основное ядро общества, сопровождаемое модернизацией элит и сохранением масс на привычном для них уровне.
Археомодерн усложняет этносоциологический анализ. Если мы имеем дело с нацией, то ожидаем найти в ней преобладание эгоцентрумов, городской культуры, буржуазного самосознания и искусственной стимуляции (со стороны политических, экономических и интеллектуальных элит) инструментального национализма, необходимого для мобилизации граждан, их упорядочивания и использования в конкурентной борьбе с буржуазией соседних стран. Все это мы находим в любом национальном государстве (как на Западе, так и на Востоке или в странах третьего мира), но глубина проникновения модернистской этносоциологической модели будет разительно отличаться. В западных обществах такая социологическая картина характерна для подавляющего большинства населения, осознающего себя демосом, гражданами и обладающего «буржуазным» самосознанием, независимо от реальной классовой принадлежности. Одновременно в Азии, Африке, Латинской Америке, и даже в достаточно европеизированной России, этими признаками будет отличаться лишь довольно узкий слой политических элит, тогда как подавляющее большинство населения продолжает оставаться в традиционных и часто архаических условиях.
Археомодерн представляет собой многослойную структуру общества, где пласты народа и этноса по количеству, влиянию и объему намного превосходят пласты нации и гражданского общества. Если на Западе нация и гражданство проникают глубоко в массы (хотя и там, как мы видели, этнос вопреки всему сохраняется и периодически дает о себе знать), то в странах Востока и третьего мира, в странах археомодерна, напротив, их влияние поверхностно, а структуры этноса и традиционного общества живы, действенны, эффективны и наглядны.
С формальной точки зрения речь идет о пропорциях того или иного слоя в общей конституции общества. Все страны сегодня суть нации, или национальные государства, но большинство из них являются нациями лишь формально, отчасти и до определенной степени.
Археомодерн требует тщательного изучения каждого из рассматриваемых обществ и определения пропорционального соотношения элементов этноса, народа, нации и гражданского общества в каждом конкретном случае. Можно назвать это шкалой археомодерна. Чем более археомодернистским является общество, тем сильнее в нем влияние этнических и народных элементов и тем слабее гражданское самосознание и эгоцентрическая идентичность. И наоборот, чем менее археомодернистским является актуальное общество, тем глубже в нем модернизации и тем мельче остаточные пласты этничности и народности.
Концепт контемпоральности
Особенности положения дел в этносоциологии применительно к рассмотрению актуальных обществ и поправки, которые диктует явление археомодерна, требует введения дополнительного концепта, который позволил бы отличать в социологическом анализе номинальную структуру общества (фасад, декларацию, правовую и политическую формализацию) от реальной структуры, которая может или совпадать, или не совпадать с номинальной. Этим концептом может стать «контемпоральность» (от английского «contemporary», т. е. совпадающее с нами по времени). Контемпоральное общество — это то общество, которое имеется сегодня в нашем мире и доступно прямому эмпирическому изучению и анализу; это общество, которое существует одновременно с нами.
«Контемпоральное общество» отличается от «современного общества» («общества Модерна») тем, что в отличие от последнего не является строгим социологическим концептом. Современное общество, общество Модерна однозначно заявляет о том, что оно не является архаическим или традиционным (народным). Современность, Модерн — это философское, социологическое, историческое, качественное и содержательное понятие. Современные общества — это общества, построенные на основании парадигмы Нового времени. Эти общества могут вполне принадлежать прошлому, т. к. возникли еще в XVII в. Более того, целый ряд обществ, существующих сегодня, никак нельзя назвать «современными». Именно поэтому требуется введение дополнительного концепта, который бы четко показывал, имеем ли мы дело с обществами современными, основанными на парадигме Нового времени, т. е. с обществами национальными и гражданскими, или с обществами, которые просто эмпирически существуют сегодня, в наше время, в начале XXI в. и которые могут быть изучены, исследованы и наблюдаемы нами непосредственно. В последнем случае мы говорим о «контемпоральных обществах».
Все разновидности контемпоральных обществ, имеющихся на планете Земля в начале XXI в., номинально выступают как современные, но степень этой современности, глубина проникновения в общества Модерна качественно варьируется, вплоть до того, что ряд контемпоральных национальных государств являются современными лишь в незначительной степени, оставаясь преимущественно традиционными или даже архаическими. Поэтому этносоциолог, изучающий контемпоральные общества, прежде всего должен выяснить их реальную структуру, т. е. фактическое, а не декларативное наличие в них современности и традиции, архаики. Только после выяснения этих пропорций можно выносить суждение о том, до какой степени рассматриваемое контемпоральное общество современно.
Фукуяма и Хантингтон: спор о современности и контемпоральности
Все уточнения об археомодерне и о несовпадении контемпорального и современного существенно корректируют задачу и методы этносоциолога, изучающего этносы в контемпоральных обществах. Если придерживаться формальной (номинальной) декларации относительно существующих стран мира, мы будем вынуждены заключить, что все они являются национальными государствами с более или менее развитыми гражданскими обществами и, следовательно, человечество готово для глобализации, и мы стоим на ее пороге. Так и поступили некоторые американские аналитики в 90-е гг. ХХ в. (в частности, Фрэнсис Фукуяма), провозгласившие близкий «конец истории»643.
По формальным признакам так оно и есть. Ни традиций, ни архаики в контемпоральном мире быть не должно, для них не осталось легитимного места. Следовательно, заключает Фукуяма, окончательная интеграция человечества — «дело решенное» и остается лишь перейти от политики к экономике (глобальному рынку), от наций к глобальному обществу эгоцентрумов и к планетарной идеологии «прав человека» (к всеобщей идентичности «идиотес»).
На это Фукуяме возразил другой американский аналитик Самуил Хантингтон, противопоставивший «концу истории» альтернативный концепт «столкновения цивилизаций»644. С точки зрения Хантингтона, исчезновение советского лагеря с начала 90-х гг. ХХ в. означало лишь конец формализованных, ярко выраженных и декларативных противоречий двух мировых систем — капитализма и социализма. Биполярный мир был выражением современности, и обе противоборствующие системы основывались на одном и том же идейном багаже Нового времени — на индивидуальном гражданстве, признании приоритета экономики, вере в прогресс и технологическое развитие, безграничном доверии к современной науке и т. д. После конца биполярного мира и ослабления идеологического противостояния (которое ранее лишь укрепляло Модерн и способствовало модернизации всех обществ, попавших в орбиту и капитализма и социализма) наступила релаксация и на поверхность стали всплывать более глубокие пласты различных обществ, которые были незаметны в эпоху холодной войны и чье существование вообще никем не признавалось. Хантингтон называет это «цивилизациями» (термин является очень точным и раскрывающим самую суть явления).
Мы видели, что цивилизация представляет собой одну из форм исторического бытия народа, т. е. традиционного общества. Когда напряженность идеологической борьбы двух типов Модерна спала, о себе заявил народ и его структуры, номинально снятые в Модерне и считавшиеся несуществующими, преодоленными и изжитыми. Хантингтон дает нам пример археомодернистского анализа: он вскрывает наличие социологического измерения, номинально не признаваемого, но в реальности являющегося активным, действенным и вновь набирающим силу и мощь. В ансамбле номинально «современных» контемпоральных национальных государств Хантингтон намечает контуры поднимающихся пред-современных социологических континентов — народов и цивилизаций. Хантингтон связывает цивилизации с религиями и вновь подтверждает этносоциологический метод: цивилизации и религии являются формами бытия народа (лаоса) как дифференцированной структуры традиционного общества.
Продолжая логику Хантингтона, можно сделать еще один обладающий колоссальным значением вывод, который сам он не делает. Целый ряд контемпоральных государств, имеющих статус «современных» и «национальных», по сути не являются таковыми, а представляют собой завуалированные традиционные государства, а подчас империи. Это касается далеко не всех государств. Но такие гиганты, как Индия и Китай, а также Иран и, в определенной мере, Россия, намного ближе к традиционным, чем к современным государствам, хотя не вызывает сомнения множество сугубо современных черт в каждом из них. Элементы традиционного общества и архаические черты есть у множества африканских и латиноамериканских стран, причем эти черты становятся в последнее время все более очевидными и наглядными.
Показательно, что в конце 1990-х гг. и в начале 2000-х Фрэнсис Фукуяма, ранее провозгласивший тезис «конца истории», изменил свои взгляды, восприняв критику со стороны тех, кто посчитал, что он слишком поторопился в своих прогнозах и не учел неформальную сторону дела (т. е. не проделал корректного этносоциологического анализа реального положения дел в различных обществах Земли) 645. И Фукуяма предложил новую программу646, состоящую в модернизации существующих национальных государств, и даже призвал к их укреплению для того, чтобы структура гражданской идентичности, эгоцентрума, реально, а не декларативно, проникла глубже в массы общества и разрушила структуры традиционного общества и остатки этноса.
В споре Фукуямы и Хантингтона, за которым с интересом следили интеллектуалы всего мира, наглядно проявился зазор между формальным и реальным положением дел, между современностью и контемпоральностью. Таким образом, нюансированный этносоциологический подход к каждому конкретному обществу стал необходимым элементом для корректного политического, международного или геополитического анализа мировой ситуации.
Потребность в критической теории археомодерна
Как отмечалось, учет зазора между формальным и реальным положением дел в контемпоральных обществах значительно усложняет задачу как этноанализа, так и постэтнического анализа этих обществ. Теперь при рассмотрении той или иной страны (нации, государства, гражданского общества) мы должны не только выяснять цепочку производных этноса (этнос–лаос–нация–гражданское общество-элементы постобщества), не только отыскивать остатки этнического и народного, но и устанавливать пропорции и симметрии между тем, чем данное общество является, и тем, что оно само о себе заявляет. То есть к обычным моделям этносоциологического анализа добавляется необходимость деконструкции археомодерна, т. е. определения структуры того, как само контемпоральное общество лжет о самом себе и как оно же говорит о себе правду.
В тех обществах, в которых уровень археомодерна незначителен (в первую очередь, в западных обществах), эта поправка большого влияния на этносоциологический анализ не оказывает. Так же обстоит дело и в архаических обществах, где нация и государственность откровенно карикатурны и пародийны. Но большинство контемпоральных обществ расположены ровно посередине этих двух наиболее чистых типов и относятся, таким образом, к археомодерну, где для выявлении реального положения дел исследователь наталкивается на множество преград, сбивающих с толку институтов, деклараций, политических и социальных дискурсов, технологических и экономических систем и т. д.
В контемпоральных западных обществах нации состоялись и гражданское общество действительно и действенно. Следовательно, в них структуры народа и остатки этноса периферийны и маргинальны, хотя, как мы видели, они все присутствуют, а постмодернисты и нон-модернисты (такие, как Б. Латур) даже считают, что этот сегмент «социального бессознательного» весьма внушителен и влиятелен. И все же по сравнению с незападными обществами здесь «архаикой» и «этносом» можно пренебречь (как пренебрегают ими М. Вебер, считающий «этничность» малозначимой для современных обществ, и Э. Дюркгейм, оспаривавший релевантность концепции «Gemeinschaft» В. Зомбарта для социологии).
В ряде африканских, азиатских и латиноамериканских обществ Модерн, напротив, настолько минимален и неубедителен, а традиционные структуры и архаические устои настолько сильны, что деконструкция археомодерна не представляет никакого труда.
Однако для многих других стран, причем по количеству населения, геополитической мощи и территориальному объему государств представляющих собой наиболее значимые величины (Китай, Индия, Пакистан, Иран, шире, страны арабского мира, Бразилия, Мексика, другие латинские страны, обе Кореи, страны тихоокеанского региона, и даже Россия и Япония), археомодерн составляет чрезвычайно весомое и подчас запутанное явление. Эти страны и общества представляют себя и другим и самим себе совершенно не теми, кем они являются на самом деле, тщательно скрывают одни аспекты своего социологического и этносоциологического устройства и гипертрофированно выставляют напоказ другие. В этих случаях работа этносоциолога становится по-настоящему трудной: чтобы выяснить реальную этносоциологическую структуру исследуемого общества, приходится прорываться через сложнейшие социально-политические, исторические и культурные преграды, сознательно сконструированные политической властью для того, чтобы скрыть и исказить до неузнаваемости социологический образ того общества, которое находится в ее ведении. Здесь мы сталкиваемся с необходимостью выстраивать концептуальный критический аппарат, способный развеивать искусственные мифы обществ археомодерна, состоящие из нагроможденных друг на друга гигантских структур бесконечной лжи. Если в отношении функционирования буржуазных обществ такой критический аппарат создан Марксом и марксизмом, для систематической деконструкции археомодерна его еще только предстоит разработать. И задача эта возлагается на этносоциологов.
Последовательность этносоциологических операций при изучении контемпоральных обществ
Если мы ставим перед собой задачу изучения этносов и этнических процессов к контемпоральных обществах, мы должны осуществить следующие операции.
1) Определить степень археомодерна, т. е. степень соответствия декларируемой современности (Модерна) данного общества уровню его реальной модернизации. На практике эта операция означает выяснение, относится ли данное общество к западному обществу (если оно расположено в Западной Европе, США, Канаде или Австралии, вопрос решается сам собой), а если нет, насколько глубоко в него проникли вестернизация и модернизация. Не проделав этой операции, мы не можем приступать к изучению этноса и этнических процессов, т. к. мы не будем знать, в контексте какой производной от этноса мы находимся.
2) Для всех обществ, где степень археомодерна достаточно высока (а это значит, для всех обществ, кроме европейских и североамериканских), необходимо провести критическую деконструкцию археомодерна и описать реальную этносоциологическую структуру общества, скрытую под заведомо ложными репрезентациями правящих элит, не заинтересованных по тем или иным причинам в обнаружении действительного положения дел.
Под видом «нации» мы можем встретиться и иметь дело:
– с постколониальной искусственной формой, состоящей из разрозненных этнических групп (таковы многие африканские, азиатские и латиноамериканские государства);
– народом и цивилизацией или с частью народа или цивилизации, искусственно оказавшейся внутри механически прочерченных границ (ряд исламских стран);
– религиозным обществом, объединенным конфессиональным признаком (Израиль, Иран);
– искусственной попыткой придать этносу статус нации (балканские государства, возникшие в результате распада Югославии и некоторые бывшие республики СССР, получившиеся в 1991 г. независимость);
– со смешанными формами.
Как только мы установим реальное положение, то получим возможность достоверно исследовать и интерпретировать этнические и межэтнические процессы.
3) После всех предварительных операций важно зафиксировать эмпирически этнические феномены и процессы, которые развиваются в данном обществе по факту, не имея ни правовой, ни политической квалификации. Так как в современном национальном государстве ни этнос, ни народ (как традиционное общество) никаким легальным статусом не обладают и, следовательно, правовыми и административными методами не улавливаются (фиксируется только гражданство и индивидуальные данные гражданина), для этого придется использовать приоритетно именно социологический аппарат, исследующий социальные факты, а также иные социологичсекие категории представления (репрезентации), установки, идентичности, статусы, роли, «стереотипы» и т. д.
4) Заключительной фазой этносоциологического исследования является систематизация и классификация полученного материала. Первые две операции описывают структуры исследуемых контемпоральных обществ, а третья — размещает в контексте этих структур конкретные идентифицированные факты, явления, изменения, динамические показатели, тенденции, тренды, флуктуации и т. д.
§ 2. Межэтнические отношения в контемпоральном обществе
Этносы и межэтнические отношения в современных обществах
Следуя последовательности операций этносоциологического анализа контемпоральных обществ, исследование межэтнических отношений требует в первую очередь выявление контекста. Если мы имеем дело с обществом современным и по форме и по содержанию (западным или североамериканским), мы заведомо находимся в среде, где этническая идентичность принижается, сглаживается, а декларативно и вообще отрицается. Этничность индивидуума не имеет в таком обществе никакого значения, а межэтнические отношения как таковые не признаются и сводятся к межличностным или межгрупповым.
Образцом квалификации межэтнических отношений берутся межиндивидуальные и межгрупповые отношения; любая апелляции к этничности как таковой порицается, отвергается, «разоблачается» и перетолковывается в индивидуальном ключе, а в некоторых случаях криминализируется и демонизируется как «расизм». В современном обществе этносов нет. Они принадлежат архаическим и предсовременным обществам. Следовательно, апелляция к этническому фактору противоречит самим основам национального и гражданского устройства социополитической системы.
Особенно бдительно в таких обществах относятся к запрету придания «национализму» как «гражданскому патриотизму» этнического или расового значения. Легитимное чувство принадлежности к общей нации, по логике буржуазных обществ, не имеет никакого отношения ни к этносу, ни к расе, но только лишь к гражданству. Такой гражданский национализм-патриотизм допускается и приветствуется, а попытки привлечь этнический фактор нарушают его логику, структуру и цели гражданской мобилизации.
Этническое меньшинство и практика толерантности
Лишь в одном случае этнос приобретает положительное содержание — когда речь идет о защите «этнических меньшинств». В этом случае гражданское общество поднимается на защиту этих меньшинств, отстаивает их права, возводит этнические особенности меньшинств в ценность. Однако, если приглядеться более внимательно, то подобная позитивная оценка этноса окажется двусмысленной: гражданское общество не столько защищает этнос, сколько стремится предотвратить практику социального неравенства и дискриминации на этнической почве. Представители этнических меньшинств оберегаются от того, чтобы под сомнение были поставлены их общегражданские права (часто права человека, в том числе, если гражданство представителей этнических меньшинств отсутствует или проблематично). Не их этническая принадлежность сама по себе вызывает уважение, но беспокойство о том, что эта принадлежность сможет стать поводом для их гражданской дискриминации. Этнические меньшинства рассматриваются как уязвимый сегмент гражданского общества, как «малые граждане», которым общество должно помочь стать гражданами, равными со всеми. И когда этническое меньшинство полностью интегрируется в общество, их этничность теряет всякое значение, а они сами — всякий интерес для правозащитников.
Практика защиты этнических меньшинств является инструментом обеспечения скорейшей утраты этническими меньшинствами своей этничности, формой их аккультурации, ассимиляции и интеграции. Этничность в этом контексте рассматривается наряду с любыми другими произвольно выбранными формами социальной идентификации — религиозностью, профессией, местом жительства, а в последние десятилетия и половой принадлежностью. Этнические меньшинства нуждаются в защите ровно в той же степени, в какой и иные меньшинства — в частности, сексуальные. Как и любое социальное меньшинство, они уязвимы для большинства, которое в социокультурном смысле от них отличается. Поэтому этническая толерантность не столько закрепляет за этносом самоценность и позитивное значение, сколько призывает все общество в целом игнорировать любые коллективные формы идентификации и основывать на их учете социальные и политические практики. Этнические меньшинства выступают здесь наряду с бездомными, девиантами, психическими и физическими инвалидами, продуктами трансгендерных операций и т. д. По сути, за этим стоит идея того, что этничность (но только если речь идет о меньшинстве) является «патологией», которую необходимо «уважать» из чувства гуманизма, не обращая на нее внимания и не акцентируя ее специально.
Юридическая классификация этноса в международном праве
В правовых международных кодексах практически нет четко разработанных документов и процедур, определяющих статус этносов или этнических меньшинств. Лишь в «Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод» (1950) в контексте недискриминации прямо говорится об этнических меньшинствах: «Пользование правами и свободами… гарантируется без дискриминации по какому бы то ни было признаку: как-то… принадлежности к этническому меньшинству…» (ст. 14)647. Наряду с антидискриминационными нормами «Международный пакт о гражданских и политических правах» (1966) содержит и специальную статью, посвященную этническим меньшинствам, которая гласит: «В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком» (ст. 27)648.
Позднее, в начале 1990-х гг. на Конференции по человеческому измерению СБСЕ (позже ОБСЕ), которая проходила в три этапа: в Париже (1989), в Копенгагене (1990) и в Москве (1991), было предложено определение «этнических меньшинств».
Этническое меньшинство — «это, по сравнению с остальной частью населения государства, меньшая по численности, не занимающая доминирующего положения группа, члены которой — граждане этого государства — обладают этническими, религиозными или языковыми характеристиками, отличающимися от таковых остальной части населения, и проявляют, пусть даже косвенно, чувство солидарности в целях сохранения своей культуры, своих традиций, религии или языка»649.
Здесь мы имеем определение этноса (вполне соответствующее определению С.М. Широкогорова), но данное только и исключительно через понятие «этнических меньшинств». Этнос становится объектом внимания международного права лишь тогда, когда выступает как меньшинство. И в этом случае на него начинают распространяться правила защиты всех типов меньшинств в целом.
Лаос и его формы в современном обществе
В целом, гражданское общество стремится игнорировать этнос. И если этничность как факт присутствует, то моральным императивом гражданского общества является ее преодоление, освобождение от нее, замена ее строго индивидуальной идентичностью, эгоцентрумом.
Точно так же современное общество поступает с религиозной и сословной принадлежностями как свойствами народа. Это общество не признает ни сословий, ни идеи объединения людей вокруг исторической миссии, и тем самым стремится уравнять в правах всех граждан — и тех, кто имеет благородное и простонародное происхождение, и тех, кто культурными корнями уходит в данное общество, и тех, кто примкнул к нему совсем недавно. То же касается и религии. Религия считается сугубо индивидуальным делом и следствием волевого свободного выбора гражданина. Нет никакой разницы между выходцем из рода людей, много веков исповедовавших данную конфессию и участвующих в истории данного народа, и только что прибывшим иммигрантом или выбравшим данную конфессию произвольно неофитом.
Все свойства исторической идентичности в гражданском обществе также отвергаются. Представители клира, сохранившиеся группы дворян и аристократов, любители истории и народных традиций существуют в гражданском обществе в статусе клубов по интересам — наряду с любителями пляжного отдыха, игроками в гольф, велосипедистами и участниками компьютерных игр. Национальные государства имеют свою искусственную версию национальной истории, с необходимостью включающей в себя и досовременные стадии. Но по-настоящему значимой считается только та история, когда появилась нация. Во Франции таким переломным моментом является Великая французская революция, празднование годовщины которой является главным национальным праздником. На чествования же Жанны д’Арк собираются только крайние националисты, а если бы кому-нибудь пришло в голову отметить годовщину битвы при Пуатье, организаторам грозило бы судебное преследование за «разжигание межрелигиозной розни».
Точно так же, как и в случае этнических меньшинств, «позитивным» смыслом наделяются только религиозные меньшинства, а также представители низших страт общества (маргиналы, девианты), те группы, которые исторически были объектами дискриминации (например, чернокожие в США). История существует как история прогресса, развития и демократии, а также как критика всего того, что не похоже в древности на «прогресс», «развитие» и «демократию».
Поэтому в современном обществе народ, а также его основные формы бытия — религия, традиционное сословное, иерархическое государство, особенности цивилизации — позитивного значения не имеют. Это выражается, в частности, и в декларируемом пацифизме гражданского общества, как одной из его основных черт. Традиционное государство, создаваемое народом, почти всегда основывалось воинами, и воинская система ценностей предопределяла нормативную этику такого государства. Современное общество, со своей стороны, категорически осуждает милитаризм, стремится ограничить применение силы и «гуманизировать» (насколько это возможно) военные и полицейские операции. Даже в том случае, когда речь идет о военных действиях, риторика гражданского общества стремится представить их хотя бы немного «менее военными», нежели они есть. Так, в период нападения стран НАТО на Югославию в ходе развертывания Косовского кризиса в 1998 г. европейскими СМИ было введено в оборот понятие «гуманитарные бомбардировки». Бомбардировали сербов самыми настоящими смертоносными бомбами, но если в древности войну оправдывали «священными» целями, то современное гражданское общество, не способное апеллировать к «священному», обращается к «гуманитарному».
Десуверенизация и демонтаж наций
Сами нации как типичная форма организации современного общества на ранних этапах Нового времени постепенно подвергается демонтажу. Этот процесс сопровождается возрастающей критикой национализма в гражданском обществе, моральным порицанием его исторических издержек, представлением нации как изжившей себя формы организации граждан.
Переход от нации к гражданскому обществу предполагает десувернизацию национальных государств и передачу их полномочий сверхнациональным структурам. В перспективе такой структурой призвано стать «мировое правительство».
В переходе от наций к глобальному обществу, который еще не стал необратимым и лишь начинает проходить в отдельных регионах Земли в тестовой форме (например, создание Евросоюза), мы видим последний этап ликвидации этноса и двух его производных (народа и нации).
Если продлить этот вектор в будущее и допустить, что сегодняшние тенденции достигнут через какое-то время поставленной цели, мы можем предположить, что сами нации станут «меньшинствами» в глобальном обществе. Если они не будут в таком качестве представлять угрозу этому глобальному обществу, то к ним будут относиться толерантно, как сегодня к этносам, щадя гражданское достоинство «неполноценных» и стремясь безболезненно интегрировать их в глобальный контекст, избегая дискриминации.
В постобществе демонтажу теоретически должен подвергнуться сам индивидуум, но в этом случае об этносе уже вообще не может идти речи.
Реальность этноса в гражданском обществе: европейские этносы
Выше мы рассматривали то, как квалифицирует этнический фактор и этнические процессы само гражданское общество, т. е. контекст.
Но существует ряд феноменов и процессов, которые имеют явно этнический характер и которые, тем не менее, четко фиксируются эмпирически даже в тех обществах, которые отрицают этнос. Так, в некоторых европейских национальных государствах существуют этнические меньшинства, которые до сих пор оспаривают легитимность создания современных наций, официальный буржуазный национализм, структуру типового нормативного статуса гражданства, включая национальный идиом и национальную культуру, официальную версию национальной истории, а иногда политическую систему и политическую власть. Ярким примером этого могут служить ирландцы Ольстера, уэльсцы в Англии, баски в Испании, а также корсиканцы во Франции. Здесь мы имеем дело с открытым противостоянием европейских этнических групп национальным государствам. Наличие кровавых и до сих пор непрекращающихся конфликтов в современной Западной Европе демонстрирует нам пример того, насколько расходятся между собой формальные претензии гражданских обществ с реальной картиной этносов даже там, где этот зазор между претензией на современность и реальной современностью минимален.
Этносы, оспаривающие легитимность наций в вооруженной борьбе и гражданском противостоянии в течение целых столетий, являются до сих пор фактом европейской политики. Так феномен этноса обнаруживается на практике даже там, где в теории его быть не должно.
В более мягкой форме существуют определенные этнические проблемы у бретонцев во Франции, каталонцев и галисийцев в Испании, у жителей Северной Италии, у фламандцев и валлонцев в Бельгии, у шотландцев в Англии и т. д.
В Восточной Европе, и особенно на Балканах, этнический фактор настолько ярко присутствует, что это очевидно само собой. Распад Югославии на ряд наспех созданных наций вокруг преобладающих этнических групп — словенцев, хорватов, македонцев, боснийцев, черногорцев, албанцев и, наконец, самих сербов, — говорит сам за себя. Чехи разошлись со словаками по разным государствам мирно, а в ходе развала Югославии пролились реки крови. При этом в границах вновь созданных национальных государств опять оказалась анклавы, компактно населенные этническими меньшинствами, на сей раз преимущественно сербами, которые выступали ранее как народ (лаос), вокруг которого было организовано (правда, также искусственно) федеративное югославское государство.
Так, мы видим, что в одном из самых законченных гражданских обществ, в контемпоральной Европе, вопреки всем нормативным положениям этносы существуют и дают о себе знать.
Иммигранты и классификация этноса
Еще более ярко, нежели этничность собственно европейских этносов, проявляется этничность и черты традиционного общества в различных сегментах европейских иммигрантов. Иммиграция в Европу происходит преимущественно из тех стран, где степень этнической и традиционной (народной) идентичности намного выше, чем в Европе, и таким образом этничность, религиозность и признаки особых цивилизаций и культур, совершенно иного происхождения, нежели европейское общество, оказываются помещенными в контекст гражданского общества. Поскольку потоки иммиграции постоянно растут, то этническое измерение граждан Европы пропорционально увеличивается.
Сами европейцы не квалифицируют иммигрантов из стран Третьего мира как этносы. В согласии с европейским правом, это граждане либо другого государства, либо, если им удается получить вид на жительство, а потом и гражданство, своего собственного. Получивший французское, немецкое, голландское или испанское гражданство араб, африканец, пакистанец или китаец, утрачивают свой этнос и становятся обычными французами, немцами, голландцам или испанцами. С юридической точки зрения, ни в одном официальном документе их этничность или принадлежность к народу (лаос) не фигурирует и не учитывается. Европейское гражданское общество отсекает этнос иммигрантов, и вспоминает о нем только тогда, когда они оказываются в положении дискриминированных на этнической или религиозной почве. Только в этом случае об этносе вспоминают в силу толерантности.
Очевидно, что сами иммигранты лишь отчасти ассимилируют эти нормативы гражданского общества. Элита иммигрантов часто относительно легко интегрируется в европейские общества и разделяет его парадигмы, но подавляющее большинство иммигрантов процедуры «отсечения этноса» не замечают и продолжают до определенной степени сохранять привычные для них формы коллективной идентичности.
Чем больше Европа становится открытым гражданским обществом, глобальным и основанным на индивидуальной идентификации, чем дальше она уходит от этничности, тем больше и массивней в ней накапливается этническое измерение, привносимое иммигрантами. Таким образом, постепенно складывается парадоксальная ситуация, когда гражданское общество, построенное на полном отрицании этноса и его первых двух производных, само пронизывается этническими структурами, причем часто в архаических формах, намного более простых, нежели дифференцированные конструкции традиционного общества. Более того, в гражданском обществе смешиваются все производные: архаические этносы африканцев, представители намного более дифференцированного арабско-исламского традиционного общества, сохранившиеся отчасти национальные государства и собственно гражданские институты Единой Европы. Стоит к этому добавить собственно европейские этносы, не желающие самоликвидироваться в крупных нациях, и мы получим многомерную и чрезвычайно сложную этносоциологическую картину, наглядно иллюстрирующую теорию «глокализации» Р. Робертсона650, согласно которой глобализация ведет не только к социальной и технологической унификации и модернизации мира, но открывает новые возможности для противоположных тенденций — регионализации, возврата к общинам, локализации и социальной реверсивности.
Этнос и аномия
Итак, в современных обществах феномен этноса и этнических процессов присутствует и может быть исследован, изучен и описан на основании эмпирических наблюдений. Однако здесь следует обратить внимание на следующее важное обстоятельство.
Этнос как таковой выступает только в простейших обществах, когда он предоставлен самому себе и не имеет никаких внешних границ и внутренних социологических надстроек над своей простой койнемой. Это этнос в чистом виде, и в таком качестве он обнаруживается только в архаических обществах, живущих в структурах классического этноцентрума, вписанного в окружающий мир и составляющего с этим миром единое и неразрывное целое.
В структуре народа этноцентрум меняется. Частично он остается самим собой, а частично включается (против воли) в более сложную систему социальных и политических связей. Поэтому в контексте первой производной от этноса, мы можем увидеть и народ и этнос.
В контексте нации этнос тоже сохраняется, но в еще более смешанных и неестественных для него условиях. Он либо отступает на далекую периферию, либо перетолковывает нацию в системе этносоциологического восприятия, либо переходит в экономическую категорию фермеров, земельных артелей или городского пролетариата. В нации этнос существует в совершенно новой и несвойственной для него самого среде.
В гражданском обществе, номинально отрицающем этнос, этнос оказывается в еще более противоестественных условиях. Он полностью вырван из контекста, из этноцентрума, от своего профессионального окружения (сельский труд), и даже от своей классовой, пролетарской идентичности. Этнос существует нелегально, в радикально чуждом для самого себя контексте. И в этом контексте его этнические свойства трансформируются. Вся его структура со всех сторон подвергается высоким нагрузкам, призванным сломить его, расчленить на индивидуальные составляющие.
В такой ситуации этнос выступает в болезненной форме, как социально-психическая патология, как реакция на всесторонние удары. И даже не замечая этих ударов, отказываясь вскрывать цельную и замкнутую структуру этноцентрума, этнос волей-неволей оказывается подверженным их влияниям.

Схема 26. Сводная таблица структуры идентичности, социальной антропологии
и типа общества
Поэтому этнос в гражданском обществе проявляет себя часто конфликтно, через протест, реакцию, агрессию, немотивированное взрывное поведение. Этнос не способен переломить социум гражданского общества, но не готов и не хочет в него интегрироваться. Отсюда возникает особое этническое пространство, в котором позитивно созидательные аспекты этноса постепенно растрачиваются, стираются, забываются, а реактивная агрессия, истерика, нигилизм, напротив, накапливаются. Вырванный из этнической среды, этнос теряет статус нерасчленимости себя и внешнего мира и оказывается в мире, который противоречит его сущности. В той степени, в которой он остается самим собой, он принимается отчаянно сопротивляться.
Каждый этап производных от этноса является результатом огромной работы по размыканию структуры этноцентрума. И работа эта длится подчас веками и даже тысячелетиями. Попадая в гражданское общество внезапно, представитель этноса или традиционного общества вынужден проходить этот путь стремительно, что чрезвычайно трудно, а то и невозможно даже теоретически. Поэтому объективно этнос в гражданском обществе часто становится центром аномии, начинает генерировать деструктивные, разрушительные тенденции. В таком качестве этнос представляет собой мину, заложенную под гражданское общество, которая при определенных обстоятельствах способна привести к стремительной реверсии и опрокидыванию сложных дифференцированных социальных структур в хаотическое смешение. А тенденции Постмодерна и постобщества, лишь ослабляющие энергии модернизации и прививающие европейскому человеку чувство «вины», только способствуют этому.
Социология негритюда
Ярким примером этнического измерения как социальной болезни может служить положение афроамериканцев в США. Трагическая судьба чернокожих жителей Северной Америки поставила их изначально в патологические социальные условия. В США плантаторы практиковали расселения чернокожих рабов по разных фермам. Это делалось искусственно и для того, чтобы разорвать этнические связи, заставить рабов забыть культуру, язык, обычаи, верования, разрушить солидарность и предотвратить риск восстания против нечеловеческих условий жизни и чудовищного обращения господ. По сути, североамериканские плантаторы сознательно осуществляли спланированный этноцид: лишенные языка, культуры, веры в общих предков, утратившие брачные обычаи, оторванные от естественного ландшафта и традиционных культурных практик, негры становились «мертвецами», «зомби», техническими автоматами, потерявшими то, что делало их людьми — коллективную этническую идентификацию.
Современные афроамериканцы не являются этносом и не являются народом. У них нет языка, нет истории, нет символов, нет ритуалов, нет мифов. Всего этого их сознательно лишили белые, ничего не предложив взамен, кроме адского бесконечного труда. Отмена рабства решила проблему полного бесправия, но ничего не изменила в культурном самосознании негров. Они стали обычными американцами, но только «второго сорта». И еще 200 лет ушло на то, чтобы эта «второсортность» была настолько завуалирована (но не преодолена), чтобы президентом США мог стать мулат — Барак Обама.
С точки зрения этносоциологии американские негры представляет собой этнос в его чисто отрицательном измерении. Они являются этносом лишь в той степени, в которой испытывают затруднение в интеграции в гражданское общество, этносом по остаточному принципу. Их этничность состоит из трагического отличия от белых, в котором нет никакого позитивного содержания. Негр в США — просто небелый. Но сказать «небелый» не значит сказать, «какой» именно. Это отрицательная, привативная характеристика. Черный — это не имеющий белого цвета.
Совершенно иную ситуацию мы видим у жителей Африки. Негры Африки имеют четко выраженную этническую идентичность. Они всегда представляют собой не просто «негров», но банту, зулусов, йоруба, хуоса, масаи, фульбе, игбо, амхара, оромо, руанда, малагасийцев и т. д. У них есть языки, культы, мифы, вера в общих предков, инициации, брачные церемонии и правила отбора невест по кланам, есть места силы, кладбища, территории, звери, травы и светила, есть мир, время, боги и духи, танцы и маски, есть прошлое, настоящее и будущее. Ничего подобного у североамериканцев нет. Чернокожие в Южной и Центральной Америке находятся чуть в лучшем положении. У испанских и португальских работорговцев не существовало практики расселять рабов по разным асиендам. Поэтому многим удалось сохранить и язык, и культы, и танцы, и обряды, и мифы. Конечно, влияние официальной католической культуры было огромным, и рабов за отправления своих древних обрядов жестоко преследователи, но, тем не менее, кондомбле, вуду, умбанда, макумба, кимбанда и другие синкретические культы имеют прямые аналоги в религиозных и магических практиках Западной Африки вплоть до настоящего времени и сохраняют многие этнические племенные черты чернокожих южноамериканцев.
Сегодняшний иммигрант из Африки привозит в Европу свою идентичность, и эта идентичность вполне конкретна и содержательна. Но по мере утраты ее он социологически сближается с американскими неграми, у которых этнические корни полностью стерты и этнизм приобретает отрицательную нагрузку.
Этносоциология обществ археомодерна
Пока мы рассматривали только те общества, которые являются и контемпоральными и современными, т. е. у которых форма совпадает с содержанием. Если перейти к обществам археомодерна, то картина усложниться. Здесь этнические и традиционные аспекты общества будут не столь глубоко сокрыты, как в обществе европейском или американском, и этнические явления и процессы окажутся более откровенными и контрастными.
В обществах археомодерна, особенно в крупных, под видом нации чаще всего скрывается народ. Это означает такую форму иерархизации общества, которая основывается на скрытом сословном принципе, когда материальное богатство является не условием для достижения власти, а напротив, факт нахождения у власти влечет за собой получение материальных благ. В таких обществах сохраняется особая цивилизационная структура, часто сопряженная с религией. Такие государства имеют богатую историю, и народ явно ощущает наличие определенной исторической миссии. В таких государствах часто преобладает аграрное производство, либо преобладало до самого последнего времени. Поэтому мы под видом «нации» с элементами гражданского общества и вкраплениями Постмодерна имеем дело с народами (лаос).
Примером таких формальных «наций», а по сути народов, являются контемпоральные Китай, Индия, Иран, Россия, Турция, Япония, Израиль.
Анализ подобных «наций» будет давать нам постоянные сбои, если не учесть того, что мы имеем дело, вопреки фасаду, именно с народами. Поэтому мы сможем исследовать их как первую производную от этноса, и именно такой подход даст нам достоверную этносоциологическую информацию. В таком случае этносы нам следует искать в этих странах в сельской местности и удаленных от крупных центров районах, где мы имеем шанс обнаружить цельные этноцентрумы. Иные формы этнического начала будут, несомненно, живо присутствовать в низших слоях таких обществ. Скорее всего, мы найдем в них прямую или скрытую религиозную культуру и признаки цивилизации. Такой подход будет выявлением сути археомодернистических обществ, и мы сможем измерить и корректно определить дистанцию этой сути от того, что данное общество пытается (искренне или не очень) сообщить о себе самом остальным нациям и своим собственным гражданам.
Другой случай представляют собой постколониальные страны, которые под видом «наций» имеют структуру с целым рядом черт традиционных обществ и архаических элементов, но без ясно выраженной исторической миссии. Вероятно, что эти «нации» стоят на пороге исторического бытия в форме народов. Таковы различные латиноамериканские страны — Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили, Бразилия, Венесуэла, Боливия и т. д. Здесь наблюдаются и явные следы колониальной сословности и четкие зоны расселения этнических групп, а на периферии — обширные анклавы полноценных архаических этноцентрумов.
Особый случай представляют собой исламские страны, часто созданные по постколониальным чертежам. Это археомодернистские общества, которые не являются ни законченным народом, ни простым набором этносов, а также не представляют собой части единого цивилизационного пространства — североафриканского, ближневосточного или тихоокеанского, объединенного религиозной конфессией. Народом являются арабы в целом, но не контемпоральные египтяне, ливийцы, марокканцы, тунисцы, сирийцы, иракцы, ливанцы, кувейтцы, саудовцы, йеменцы, иорданцы и т. д., расселенные по искусственно вычлененным «национальным» территориям. Это ясно понимали теоретики панарабизма. Таким образом, арабские государства по содержанию представляют собой чаще всего традиционное исламское общество, втиснутое в условные и не соответствующие никаким историческим реалиям рамки. Очевидно, что в таких традиционных обществах между государством и населением возникают постоянные трения, поскольку почти всегда национальная администрация не является прямым выражением социокультурного пространства, соответствующего устройству местной исламской уммы.
Этносы в таких обществах имеют совершенно особое значение, и межэтнические связи, конфликты, трения и взаимоотношения вписываются в своеобразный контекст, зависящий от той или иной формы традиционного общества. Так, в Саудовской Аравии и в Объединенных Арабских Эмиратах сосуществуют сословные политические формы (шейхи, королевская семья), влиятельные религиозные институты и родо-племенное представительство. Очевидно, что этничность здесь играет совершенно иную роль, нежели в европейских странах или в США.
Уникальными особенностями обладают азиатские и дальневосточные исламские общества. Так, искусственно созданные англичанами после ухода из своих индийских колоний исламские государства Пакистан и Бангладеш (изначально бывшие одним целым) имеют многие общие черты с индийским обществом, частью которого в течение тысячелетий они являлись. В них можно легко распознать как следы индуистской цивилизации, так и собственно исламские институты, установки, парадигмы и ценности.
Принципиально отличны от них исламские общества Индонезии, Малайзии и Брунея, где исламский фактор сочетается как с индуистским влиянием, так и с местными этническими обычаями.
И, наконец, в государствах Африки мы часто видим и вовсе архаическое содержание — группы племен и племенных союзов, оказавшихся в одних и тех же границах совершенно случайно, по прихоти колонизаторов, или разделенных между несколькими государствами. Такие общества «нациями» считаются и вовсе номинально, не имея для этого ни малейшего основания. В рамках искусственно построенных границ сосуществуют — иногда мирно, иногда конфликтуя друг с другом — многообразные этнические группы, не скрепленные никаким единством: ни историческим, ни племенным, ни языковым, ни экономическим. Здесь государственность носит эфемерный и часто карикатурный характер.
Этносети
Особым явлением, сопряженным с глобализацией, можно считать феномен этнических сетей. Сетевой принцип лежит в основе глобализации и берется теоретиками постобщества в качестве базовой модели будущего. Сетевое общество относится тем самым к границе между глобальным обществом и постобществом.
Построение, развертывание и расширение всевозможных сетей (информационных, торговых, экономических, транспортных и т. д.) является приоритетной практикой глобализации.
В этот процесс помимо нормативных элементов и объектов гражданского общества (информация, потоки товаров, свободы передвижения граждан и т. д.) включаются и те стороны контемпоральной реальности, которым большого значения в современном обществе не придается. Среди них мы видим и этнос.
В мире сетей этнос как рудимент (в перспективе гражданского общества) получает возможность выстроить свою собственную структуру в виде сети. Так мы получаем конструкцию «этнической сети».
Этническая сеть представляет собой форму существования этноса в гражданском обществе, и возможно, в перспективе, в обществе Постмодерна. Сеть предполагает отсутствие встроенности в естественный ландшафт, в ту среду, которая является основой этноцентрума. Поэтому само сочетание «этническая сеть» есть нечто, содержащее в себе явные противоречия. Либо «этническая», либо «сеть». Это парадокс из разряда «глокализации». Сетевое общество призвано оторвать от естественной среды людей, превратить их в атомарные потоки минимальных информационных частиц, впечатлений, обрывочных знаний, ощущений и т. д. Сеть — полная противоположность этноцентруму. Но вытесняемый в процессе усложнения социальных систем все дальше на периферию, этнос в условиях глобализации обнаруживает себя на этой периферии и при определенных обстоятельствах может превратиться в сеть, образовать этническую сеть.
Этническая сеть — это то, что помогает представителям какого-то этноса использовать свою этничность для достижения вполне определенных социальных целей: доступа к ресурсам власти, денег, престижа, образования и т. д. По этносети циркулирует минимальный объем этнического содержания (мифов, исторической памяти, обрядов, ритуалов, межклановых брачных соглашений и т. д.), ровно столько, сколько необходимо для поддержания чувства сопричастности. Это содержание уже не этноцентрум, но ее упрощенный суррогат, карикатура. Этносеть строится не столько для поддержания этнической идентичности, сколько для использования возможностей глобального общества в эгоистических целях, превращая минус (наличие ярко выраженной этничности, частично препятствующей интеграции в гражданское общество) в плюс (использование коллективных связей для реализации эгоистических интересов каждого члена сети). Этносеть подобна торговой компании, политической партии или закрытому клубу. Все члены таких организаций договариваются о совместных действиях во имя достижения целей, которые удовлетворят амбиции каждого участника. Этносеть повторяет тот же сценарий, только на основании вполне определенного признака: группа людей, реально или условно принадлежащих к одному и тому же этносу, решают использовать это обстоятельство для продвижения общей стратегии социального поведения.
Для исследования феномена этносети как нельзя лучше подходит метод инструментализма. Именно здесь этот метод вполне уместен и продуктивен. Этносеть может быть рассмотрена как одна из множества социальных стратегий, направленных на то, чтобы путем консолидации групповых усилий повысить социальный статус группы. Но именно так инструменталисты и понимают этнос. Для этноса в общем виде такое определение категорически неприемлемо и даже абсурдно, но для изучения феномена этносетей как преимущественных форм самоорганизации некоторых этнических групп в условиях гражданского общества и глобализации такой метод оптимален.
Этносеть есть форма использования этнической принадлежности в рациональных прагматических целях, при этом она использует энергию негатива. Во-первых, этносеть извлекает выгоду из факта естественной связи группы людей между собой на основании неформальных признаков, не закрепленных ни юридически, ни социально, ни политически. В гражданском обществе этносвязь отследить невозможно. Чаще всего этничность вообще является препоной на пути полноценной интеграции вследствие «чуждости» этноса контексту гражданского общества. Этносети создаются исключительно представителями этнических меньшинств. Этническое большинство не имеет нужды организовываться в сеть, т. к. оно воспринимает и нацию и гражданское общество как свою естественную среду и не квалифицирует себя как «этнос» в этой среде. Этносами в гражданском обществе бывают только меньшинства.
Чуждость становится в такой стратегии козырем, а отсутствие юридического статуса у этничности — еще одним. Этносеть является юридически невидимой и не квалифицируемой.
Кроме того, она чаще всего оживляется неприязнью к окружающей среде. Отличие участников этносети от того общества, в котором она «прокладывается», строится по принципу «противотипа». В это отрицание не вкладывается большого смысла, но оно помогает укреплять сеть, настаивать на лояльности ей всех участников и действовать, часто не считаясь с правилами окружающего общества, не соблюдая многих (хотя бы моральных или культурных) ограничений и обязательств.
Так, этносеть превращает недостатки в преимущества, а этничность — в инструмент социальной стратегии. Если эта схема начинает давать результаты, то принадлежность к этносети становится путем повышения статуса. Следовательно, возникают дополнительные мотивы, чтобы к ней примкнуть. И в этом случае вполне справедливы замечания инструменталистов относительно того, что люди часто «записываются» в этнос или «вспоминают о своих корнях» в том случае, если это становится выгодным. Это правило полностью подтверждается в этносети.
Типичными примерами этносети являются:
– этнические преступные группировки (мафии);
– организации взаимопомощи по этническому или расовому признаку (взаимопомощь при устройстве на работу, занятии важных должностей, способствование взаимному повышению социального статуса);
– институты этнического лоббирования (отстаивание интересов этнических меньшинств в данном обществе или подталкивание к проведению политики в интересах другого национального государства, с которым тем или иным образом связана данная этносеть);
– организация экономических структур с доминацией конкретного этноса (этнокапитал) с частичным обращением во внутрикорпоративных (иногда межкорпоративных) вопросах к этническим традициям (например, греческий и еврейский капитал в США);
– этнические системы финансово-платежных обязательств (наподобие института «хавала», бездокументных финансовых расчетов на основании личных отношений между доверителями в разных точках мира);
– в предельном случае этносеть может ставить перед собой цели «паразитического симбиоза» (С.М. Широкогоров) с основным, ядерным этносом в форме политической элиты и т. д.
Этносеть помогает «прокачивать» больший объем информации с большей скоростью, чем между отдельно взятыми гражданами или группами, т. к. степень взаимного доверия в ней намного превышает обычные транзакции (любого толка — легальные и нелегальные, информационные и коммерческие).
Этнопарк
Еще одной формой этничности в глобальном обществе является этнопарк. Так как этнос представляет собой для гражданского общества след «давно исчезнувшей древности», то сохранившиеся на периферии общества последние архаические коллективы приобретают в глазах этого общества «антикварную» ценность, статус экспоната. Этничность — это далекое прошлое, которое можно наблюдать в контемпоральных условиях. Если эта этничность приручена и безобидна, она становится чрезвычайно ценным явлением и в таком качестве подлежит коммерческой эксплуатации.
В таком качестве современные антропологи, вовлеченные в социально-экономические и медийные проекты, собирают визуальные материалы о жизни архаических племен, устраивают экспозиции и выставки, на которых часто в качестве экспонатов выступают живые «дикари», люди в этнических костюмах, живые сценки быта этнического сообщества. Во многих странах создаются специальные зоны, которые так и называются — «этнопарки», где можно увидеть как костюмированные представления обычных людей, профессионалов и любителей, изображающих этнические моменты из жизни, так и реальных представителей архаических племен и культур.
Этнопарк представляет собой симулякр этноса, т. е. создание точной копии этноса, но лишенной какого бы то ни было содержания и какой либо внутренней жизни. Разновидностью этнопарка являются резервации североамериканских индейцев и другие формы этнических гетто, превращенных в музейно-туристические объекты.
Элементами этнопарка, рассеянными по глобальной культуре, являются увлечение «неошаманизмом»651, мода на индейские наряды и украшения, чрезвычайно распространенная среди хиппи 60-х–70-х гг., использование этнических музыкальных инструментом и интеграция архаических музыкальных и танцевальных фрагментов в современные музыкальные композиции652(это направление обобщенно называется World Music).
§ 3. Этнические конфликты
Этнические конфликты и их правовая квалификация
Отсутствие у этноса правового статуса в гражданском обществе, а также в большинстве национальных государств археомодернистского типа, затрудняет квалификацию собственно этнических конфликтов. Такие конфликты довольно часто происходят, но всякий раз при их классификации возникает множество юридических сложностей, т. к. строгих критериев для признания конфликта «этническим», а не каким-то еще, не существует. Более или менее юридически определенной ситуация становится только в том случае, если речь идет о ярко выраженном «этническом меньшинстве», но тогда вступают в действия правила защиты меньшинства от большинства, общие для всех типов меньшинств. Поэтому «этническими» конфликты обычно признаются в той ситуации, когда статус «большинства» и статус «меньшинства» определить легко. В этом случае гражданское общество встает на сторону «меньшинства» и старается оказать ему политическую, моральную и материальную поддержку.
Однако ситуация становится гораздо менее прозрачной, если мы имеем дело с конфликтом между более или менее равными этническими группами или если одна или обе группы имеют вне зоны конфликта национальные (то есть государственные) образования, способные оказать им поддержку, И наконец, соображения реальной политики и интересы внешних сил могут повлиять на классификацию того или иного конфликта.
Примеры разных подходов к классификации этноса и этнических конфликтов мы видели в процессе распада Югославии.
Совершенно наглядным было то обстоятельство, что Югославия как национальное государство с федеративным устройством имело в своем ядре народ (лаос), старавшийся придать государству единство и историческую миссию. Сербы видели в Югославии продолжение исторической Великой Сербии, интерпретируя искусственно созданную и чрезвычайно «рыхлую» югославскую нацию как нечто, уходящее корнями в средневековую историю балканских славян. Так как сербы ориентировались на Россию, близкую к ним по православной идентичности, западные страны встали на сторону тех этносов, которые поставили цель Югославию развалить и создать на ее месте новые нации. Эти этносы были признаны в Западной Европе «этническими меньшинствами», а сербы — носителями «националистического» начала. Это значит, что сербы этносом признаны не были, а интерпретировались как сила, угнетающая этнические меньшинства. Все последующие конфликты между сербами и словенцами, сербами и хорватами, сербами и боснийцами, и, наконец, сербами и косовскими албанцами (мы не упоминаем о мирном отложении от Югославии Македонии и Черногории), трактовались именно в этом ключе — противостояние «нелегитимного» сербского национализма (этатизма) и «легитимного» сопротивления ему со стороны «этнических меньшинств» (словенских, хорватских, боснийских, албанских). Действия сербов оценивались как «этнические чистки», действия против сербов — как «борьба этнических меньшинств» за свои права.
Если такая позиция была частично оправдана тем, что в начале распада Югославии сербы выступали как народ, а не как этнос, то постепенно ситуация стала более симметричной, и сербы принялись отстаивать свои этнические интересы. Так, сами сербы оказались «этническим меньшинством» в Хорватии, Боснии и Герцеговине, независимом Косово, и со стороны только что образованных наций (хорватской, боснийской, косовской) стали подвергаться прямому давлению, включая «этнические чистки», дискриминацию и этноцид. Казалось бы, в этом качестве сербы должны были бы быть признаны «этническим меньшинством», а гражданское общество должно было бы поспешить к ним на помощь и встать на их защиту. Но этого не произошло. Причина состояла в том, что Сербия, служившая ядром для этнических сербов, где бы они ни жили, продолжала настаивать на своей особой политике, не отказывалась от статуса «народа» (лаоса) и сохраняла ориентацию на цивилизационно близкую ей Россию.
Этот пример показывает, что этнический конфликт попадает в сферу внимания международного права только тогда, когда в нем наличествует «этническое меньшинство», которое признается таковым западным обществом и которое по своим геополитическим ориентациям и декларируемым ценностям так или иначе резонирует со странами Запада. Поскольку именно в Европе и США гражданское общество более развито, чем в других странах, то они используют это обстоятельство и в правовой сфере, признавая «этническим меньшинством», требующим защиты, только те группы, которые выражают свою лояльность Западу.
Показательным случаем является ситуация с Грузией и Южной Осетией и Абхазией. Осетины и абхазы являлись до августа 2008 г. «этническими меньшинствами» в Грузии и подвергались со стороны грузин «этническим чисткам» и другим аналогичным националистическим репрессиям. Но поскольку в защиту осетин и абхазов на определенном этапе включилась соседняя Россия, изменившая баланс сил в регионе, Запад признавал за осетинами и абхазами этот статус весьма неохотно, тем более что Грузия ориентировалась на США и Европу. Точно так же неохотно и по схожим причинам Запад не спешит поддержать этнические меньшинства сербов в Косово и Боснии, которые подчас подвергаются прямому истреблению. Актом этнического истребления была и атака грузинских войск на Цхинвал в августе 2008 г., когда осетин спасло только введение российских войск на территорию Южной Осетии.
Столь же двусмысленной является позиция стран Запада и в отношении баскской проблемы и этнического конфликта в Ольстере. Имея в своем правовом арсенале только категорию «этнического меньшинства», международное право, развиваемое и поддерживаемое западными странами, оказывается в тупике, когда однозначно определить, кто является «этническим меньшинством» в конфликте, не представляется возможным или когда такое признание может привести к нежелательным (для стран Запада) политическим последствиям. В первом случае проблема носит теоретический характер и связана с отсутствием полноценного определения этноса, необходимого для юридической оценки «этнического конфликта» тогда, когда однозначное выяснение того, кто является «меньшинством», затруднено, невозможно или осложнено дополнительными этносоциологическими обстоятельствами. Во втором случае мы имеем дело с «двойными стандартами» и вмешательством практических интересов, что чрезвычайно часто встречается в политике, но не имеет никакого отношения к этносоциологии.
Этнические конфликты в условиях археомодерна
Проблема того, как определять и квалифицировать этнические конфликты, как мы видим, довольно запутана даже в европейском контексте, где мы имеем дело с условиями, максимально приближенными к гражданскому обществу. И даже в этом случае сплошь и рядом возникают неразрешимые или двусмысленные правовые ситуации, а наличие практики «двойных стандартов» и учет ориентации того или иного общества на Европу и США делает всю картину совершенно непрозрачной.
При переходе к обществам археомодерна, где сегмент гражданского общества ограничен, и даже национальная государственность подчас скрывает под собой нечто иное (например, традиционное общество, народ/лаос и т. д.), вопрос об определении правового статуса «этнического конфликта» становится еще более запутанным и сложным.
В обществах археомодерна роль этнического фактора намного выше, чем в обществах европейских или американских. Здесь этносы сохраняют свою действенность и вполне могут открыто заявлять о себе, причем не только в форме противостояния «этнического меньшинства» «национальному большинству». В археомодерне обычным явлением становятся конфликты между собой двух этносов, ни один из которых не является ядром нации. Кроме того, многие постколониальные страны (например, в Африке) вообще не имеют ярко выраженного национального ядра и состоят из этнической мозаики, объединенной границами лишь условно и случайно. Между ними то и дело вспыхивают конфликты чисто этнического свойства, в которых «жертву» и «агрессора» установить бывает подчас чрезвычайно трудно, т. к. мотивация и формы принятия решений в этом случае уходят вглубь этнических структур, не имеющих ничего общего с нормативами гражданского общества, на которых построено международное право.
В этом случае особенно важны этносоциологические знания, позволяющие исследовать ситуацию в каждом конкретном случае именно такой, какая она есть, хотя правовые и политические оценки (как во внутриполитическом, так и в международном контексте) ее могут быть чрезвычайно далеки от реальности.
Последовательность основных операций в этносоциологическом анализе этнических конфликтов
В целом, картина «этнических конфликтов» является всякий раз специфическим феноменом, который должен быть разобран этносоциологически. Последовательность операций при этносоциологическом анализе этнического конфликта должна быть следующей:
1) определение этносоциологической идентичности участников конфликта (имеем ли мы дело с двумя этносами, с этносом и народом, этносом и нацией, народом и наций, нацией и нацией и т. д.);
2) выяснение этносоциологического контекста конфликта (развертывается ли он в рамках нации, федеративного или унитарного государства, в гражданском обществе или в обществе археомодерна, в контексте цивилизации, религии и т. д.);
3) определение воздействия геополитических сил и участия заинтересованных сторон вне непосредственных участников конфликта (здесь приходится привлекать арсенал геополитических средств анализа);
4) анализ правовой квалификации конфликта в рамках контемпорального политического права данной страны и международного права;
5) тщательный разбор мотиваций и целей сторон этнического конфликта с учетом этнической структуры каждого из вовлеченных в него обществ;
6) алгоритм информационного освещения конфликта в национальных и глобальных СМИ с определением приписываемого ему в этих СМИ статуса;
7) выявление прагматических задач, решаемых в конфликте, и реального значения ценностных (религиозных, «идеальных», мифологических) факторов.
Эти шаги необходимы для анализа любого этнического конфликта в любом контемпоральном обществе — как в гражданском, так и в археомодернистическом.
Пример этносоциологического анализа этнического конфликта: две чеченские компании 1990-х и 2000-х годов
Распад СССР как единого государства привел к созданию новых более или менее искусственных наций на постсоветской территории, границы каждой из которых были установлены не исторически, а произвольно и искусственно, по постимперскому принципу: административные единицы СССР (Союзные Республики) провозгласили себя государствами. Сама Россия (Российская Федерация) оказалась вновь образованным федеративным государством со столь же произвольными границами и с внутренним членением, во многом напоминающим СССР. Административно-территориальные единицы Российской Федерации на фоне свежего опыта распада СССР решили повторить сепаратистский цикл — на сей раз внутри России. Оснований у них было не больше, но и не меньше, чем у республик СССР — все эти образования были условными территориальными единицами некогда единого государства. Чечня при президенте Дудаеве пошла в этом направлении дальше других и провозгласила независимость и выход из состава России. Это и стало причиной первой (1994–1999) и второй (1999–2002) чеченских компаний.
Проведем их краткий этносоциологический анализ.
1. В этой ситуации мы имеем дело с этническим меньшинством — чеченцами, которые решили, воспользовавшись катастрофическими процессами в России в целом (смена государственного строя, шоковая терапия, либеральные реформы, приватизация, внутриполитический кризис, социальные волнения, резкая криминализация общества, становление олигархического строя и т. д.), изменить свой статус и перейти из разряда этноса в разряд нации. Нация предполагала суверенную и независимую от России государственность. Этот националистический проект получил название «Ичкерия», для того чтобы разделить теоретически возможное независимое государство от Республики Чечня в составе России.
2. Вторым участником конфликта была недавно учрежденная «российская нация» в лице федеративного государства Россия. Этот второй участник конфликта (федеральные войска) определял контекст, в котором развертывался конфликт.
Россия была (и является сегодня) археомодернистическим государством, формально демократическим и «западным», с элементами нации и гражданского общества, но по сути сохраняющим ряд черт и признаков народа (лаоса). Это существенно осложняет исследование этнического конфликта, т. к. любое археомодернистское общество выдает себя не за то, чем оно является на самом деле.
Чеченский этнос подчеркивал свое религиозное отличие (ислам), принадлежность к Кавказу и апеллировал к своей истории, в которой неоднократно имели место восстания горских народов Северного Кавказа против России. К этому добавлялись свежие воспоминания о сталинской политике, приведшей к массовой депортации чеченцев после Великой Отечественной Войны.
Российская Федерация противопоставляла этому в явной форме государственность, общероссийскую нацию и гражданское светское общество, а в неявной форме — великорусский этнос, православную идентичность и преемственность исторической стратегии русского народа — от царистского до советского его этапов. При этом, как это обычно бывает в археомодернистских системах, аспекты традиционного общества тщательно скрывались за фасадом внешних либерально-демократических деклараций.
3. Влияние геополитических сил на конфликт было значительным: Запад поддерживал чеченский сепаратизм, исходя из конкурентных отношений с Россией как мощной страной, обладающей большой степенью влияния на мировую политику.
4. С правовой точки зрения Россия квалифицировала поведение чеченских сепаратистов как «бандитизм». Международные западные организации рассматривали борьбу Дудаева, Масхадова и их последователей как легитимное сопротивление этнических меньшинств «русскому национализму».
5. Чеченцы хотели создать собственную государственность (Республика Ичкерия). В определенный момент развития конфликта преобладающими оказались радикальные исламисты (Ш. Басаев, М. Удугов и др.), которые выдвинули тезис о создании единого исламского государства на Северном Кавказе (Имарат Кавказ). Федеральные власти ставили перед собой цель сохранить Чечню в составе Российской Федерации.
6. Освещение конфликта в российской прессе было неоднозначным. Прозападные СМИ — НТВ, принадлежавшие телемагнату и олигарху В. Гусинскому, и ряд других телеканалов, а также широкий спектр либерально-демократической прессы и радио («Эхо Москвы») почти открыто поддерживали чеченцев, представляя их борцами за свободу и независимость против «русского национализма» и «советского тоталитаризма». При описании чеченских сепаратистов использовались термины «борцы за независимость», «повстанцы» и т. д. Такой же была позиция и лексика западных СМИ. Со своей стороны, СМИ, поддерживающие официальный курс российского руководства, представляли чеченских сепаратистов «бандитами», «участниками незаконных вооруженных формирований» и «религиозными фанатиками-экстремистами», а борьбу против них — «наведением конституционного порядка», «возвращением в правовое поле», «восстановлением демократической системы в пределах Чеченской Республики».
7. Интересы чеченских сепаратистов состояли в создании независимой государственности, в получении материальной поддержки от зарубежных центров (с Запада и от ряда исламских стран), а также в участии в коррупционных схемах (торговля оружием, похищение людей, работорговля, незаконные финансовые операции и т. д.), открывающихся в связи с чрезвычайной ситуацией и правовым вакуумом. При этом часть участников военных действий против федеральных сил искренне верили в то, что они участвуют в «войне за свободу чеченцев от русской колонизации» и в «священном походе мусульман против неверных».
Федеральная власть стремилась удержать Чечню в составе России, чтобы предотвратить дальнейший распад страны (по Югославской модели). При этом ряд политических, государственных и военных деятелей получал конкретные дивиденды от военной компании, как взаимодействуя с Западом, заинтересованном в успехе сепаратистов, так и участвуя в коррупционных схемах, связанных с войной и чрезвычайными обстоятельствами.
При этом многие непосредственные участники конфликта со стороны федеральных сил были искренне уверены, что воюют за Россию как самостоятельную державу, за историческую миссию русского народа, за отстаивание традиционных и религиозных (православных) ценностей, т. е. за русский народ (лаос) и косвенно за русский этнос.
§ 4. Этнодемография, этномиграция
Этнос и демография в глобальном мире: проблема уровней
Рассмотрим теперь основные демографические процессы, определяющие этнический баланс в контемпоральных условиях.653
Общая модель изменения демографических параметром этноса, когда он живет в относительно свободных условиях (в стадии этноцентрума) описывается формулой Широкогорова: q / ST = ω654. Демографический рост (увеличение значения q) должно сопровождаться пропорциональным увеличением произведения площади расселения этноса (T) на уровень технической культуры (S).
Но, как только мы имеем дело с производными от этноса, начиная с народа и кончая гражданским обществом, эта этническая модель демографии качественно меняется и усложняется. На демографию этноса начинают оказывать влияние внешние факторы, которые провоцируют искусственные процессы, выводя этнос из гомеостаза и сопутствующей ему сбалансированности и стабильности.
Будучи включенным в контекст народа/лаоса этнос, помимо своей воли, оказывается в постоянном состоянии войны, в которой ему так или иначе приходится участвовать, что изменяет демографический баланс.
В нации этнос включается насильственно в экономический цикл и классовые отношения, которое еще более аффектируют демографические процессы, провоцируя потоки миграции и переселение из деревни в город.
В глобальном гражданском обществе все человечество мыслится нормативно как городское население, способное к свободному перемещению по городам мира, а в будущем — по единому городу-миру, Космополису.
Поэтому анализ демографических процессов в их связи с этносом в контемпоральных условиях представляет собой сложную и многослойную задачу. На уровне архаических племен, сохранившихся на периферии некоторых контемпоральных обществ, еще продолжает действовать формула Широкогорова. В других зонах, где утвердилось традиционное общество, демографические процессы более сложны. В национальных государствах и состоявшихся глобальных обществах картина усложняется еще на несколько порядков, т. к. в движение приходят механизмы глобализации, активно влияющие на демографические процессы.
4 фазы демографического взрыва и фаза вымирания
Современные демографы достоверно изучили процессы демографического взрыва, который происходит в том случае, когда гомеостатическое общество (преимущественно сельское, относящееся к folk-society, т. е. к этносу) резко входит в контакт с более дифференцированной городской культурой, соответствующей Новому времени. Этот демографический взрыв имеет, в целом, одинаковую структуру как в контексте нации, так и в контексте глобального человечества, но при этом разнится масштаб.
Демографы выделяют в структуре демографического взрыва 4 фазы.
Он начинается с нулевой фазы, когда количество населения в сельской местности стабильно, а уровень рождаемости и смертности полностью компенсируют друг друга.
Далее наступает первая фаза, когда в деревню проникают медицинские, социальные и гигиенические средства из города, а также искусственно повышается эффективность сельскохозяйственного труда, что дает возможность не только рожать больше детей и сохранять дольше жизнь стариков, но и обеспечивать прибавочное население продуктами питания. Это дает колоссальный и стремительный прирост сельского населения. В этой фазе рождаемость резко возрастает, смертность падает, и общее количество населения столь же резко увеличивается.
Пределом этой фазы является достижение черты, выше которой прокормить добавочное население сельским коллективам не представляется возможным — ресурсы исчерпываются. Избыточные сельчане отправляются в город и пополняют ряды городского пролетариата. Попав в город, люди начинают рожать меньше детей (из-за недостатка пространства, ограниченности средств к существованию и новым нормам городского поведения).
После нее наступает вторая фаза. Здесь рождаемость падает, но продолжает падать и смертность. Общее количество населения продолжает расти, но несколько замедленными темпами. Модернизация села завершается, и там остается фиксированное количество населения, устойчиво отправляющее избытки в город, где в новых условиях замедляются темпы роста рождаемости, доходя до городских норм — 1–3 ребенка на семью.
Третья фаза представляет собой процесс насыщения города, население в нем стареет и за счет этого растет уровень смертности. Рождаемость стабилизируется, но в силу накопленной инерции демографического взрыва количество населения продолжает постепенно расти.
В четвертой фазе этот процесс стабилизируется и в городе и на селе, и количество населения остается неизменным.
Эта четвертая фаза предполагает стабилизацию роста населения, но она учитывает, что сохранятся и сельские районы и городские. Если гипотетически рассмотреть пятую фазу, которую чаще всего (за редким исключением) не рассматривают сами демографы, мы можем предположить, что в какой-то момент все население сосредоточится в городах и возможность притока населения из сельских областей (с более высоким демографическим потенциалом) полностью иссякнет. Это будет означать, что все население станет городским. В этом случае произойдет не просто старение населения, но постепенное падение рождаемости и начнется вымирание населения. Во многих развитых странах, а также в современной России эти демографические процессы, относящиеся к пятой фазе, уже явственно различимы.
Если мы применим к этой модели этносоциологический критерий, то заметим, что сельское население как среда осуществления (спровоцированного городом) демографического взрыва представляет собой этническое измерение общества, наиболее архаическое и наиболее приближенное к этноцентруму. Поэтому модернизация, дающая демографический взрыв и усложняющая социально-экономическую систему общества, одновременно приводит к росту этнической массы населения, т. е. способствует появлению дополнительного количества людей, наделенных этнической идентичностью. И хотя их избыток мигрирует в город и там постепенно утрачивает этнические качества, в целом этнические тенденции при этом оживляются как на селе, так и на периферии городских культур, постепенно формируя явление «этнопролетариата».
Демографический взрыв в глобальном масштабе
Такая картина свойственна демографическим процессам, протекающим в контемпоральных национальных государствах. По мере глобализации она может быть отслежена в общепланетарном масштабе.
Все четыре фазы сегодня можно наблюдать в глобальном масштабе на уровне обширных мировых зон.
«Глобальным селом» (Global Village) является зона стран третьего мира, а также обширные зоны аграрного расселения в крупных, но неевропейских державах (Китай, Пакистан, Индия, страны Латинской Америки, Турция и т. д.). Эти зоны так или иначе контактируют с городской высокотехнологической культурой, и это приводит к резкому демографическому росту населения. Медицина и экономический рост способствует первой фазе демографического взрыва именно в этой зоне, которая становится главным поставщиком дешевой рабочей силы в мировом масштабе во второй фазе.
Миграция в города и рост городов становится глобальным трендом. Поток дополнительного населения тянется из глобального села в локальные города, из них в региональные столицы, оттуда в мировые мегаполисы (расположенные в странах Запада или в развитых странах). Так формируется «мировой пролетариат» с ярко выраженными этническими свойствами. В глобальном масштабе эти свойства являются этническими не только по социокультурному признаку (как в рамках одного и того же национального государства, хотя и здесь локальность часто выражается и фенотипическими чертами), но по расовому. «Глобальное село» является небелым, тогда как наиболее развитые мировые мегаполисы и особенно их правящие элиты — белыми.
При этом урбанизация и миграционные потоки «из глобального села» (Global Village) в «глобальный город» (Космополис) приводят к росту «цветного» населения на периферии Космополиса. При этом более развитые западные общества, представленные преимущественно «белыми», находятся в пятой стадии. Их городские высокотехнические культуры и многовековая урбанизация сказывается на их старении и постепенном вымирании.
Эти социологические особенности окрашивают в самом прямом смысле миграционные и демографические процессы в яркие тона: жители «мирового села» (этносы Третьего мира) численно растут и движутся к ядру Космополиса, традиционное население которого сокращается и постепенно вымывается новым «мировым пролетариатом».
Недавно человечество прошло важную черту: 51% населения Земли отныне живет в городах, и лишь 49% — в сельских условиях; тогда как на протяжении всей человеческой истории в городах проживала лишь ничтожно малая часть населения.
И в этом процессе мы видим два противоположных вектора: движение из села в город, от этноса к гражданскому обществу не только урбанизирует мигрантов, но этнизирует города. Традиционная буржуазия сокращается, а мировой этнопролетариат растет. При этом в целом, в глобальном масштабе, мы находимся лишь во второй фазе демографического взрыва, а значит, к моменту стабилизации (4 фаза) и до начала пятой фазы глобального старения и вымирания еще довольно далеко.
Этнические аспекты демографии и миграции на Западе и в остальных регионах: мультикультурализм
Рассмотренные нами процессы роста этнической миграции, вызванной глобальным демографическим взрывом, затрагивают и Запад, и все остальные регионы планеты.
Если рассматривать страны Европы и Северной Америки, а также Австралии, мы видим в них нарастающие потоки миграции из зоны «глобального села», что сопровождается стремительным изменением этносоциологической картины соответствующих обществ. Это более всего сказывается на структуре рынка труда, который дешевеет вследствие этого процесса. Вместе с тем массы мигрантов, получивших облегченный доступ к обществам с более развитыми экономическими системами и более высоким уровнем социальной защиты, не успевают ассимилировать парадигмы гражданского общества и частично привносят с собой фрагменты локальных этнических и религиозных культур, никак вообще не согласующихся с социальными и культурными установками данного общества. Это явление получило название «мультикультурализма», т. е. общества, в котором существуют одновременно сразу несколько никак не согласованных друг с другом культур. Если урбанизация и модернизация в рамках национального контекста ставила перед собой целью аккультурацию этносов и локальных общин в духе единой национальной парадигмы, то глобальное общество не ставит перед собой такой цели и довольствуется сообщением обобщенного кодекса «гражданина мира»–«права человека», «толерантность», «уважением меньшинств», «религия как чисто индивидуальный выбор» и т. д. Очень небольшое число мирового этнопролетариата способно усвоить эти социологические нормативы «гражданского общества», никак не вытекающие из исторического опыта их собственных обществ и резко противоречащие их этническим обычаям и установкам. Поэтому «мультикультурализм» является чрезвычайно хрупкой конструкцией, эффективной только до определенного момента, за пределом которого насыщение гражданского общества фрагментами этнических и народных (религиозных, сословных, традиционных) комплексов выходцев из «глобального села» вполне может привести к его взрыву.
Но эти явления характерны далеко не только для Европы, США или Австралии. Те же самые процессы повторяются и в остальных зонах мира: в России, Индии, Китае, Латинской Америке, Турции, арабских странах и т. д. В эти страны стекаются потоки из окружающих регионов с более низким уровнем технологического и экономического развития. А из этих стран потоки миграции движутся в сторону Запада. Таким образом, мультикультурализм проникает повсюду и формирует новую структуру современных городов в глобальном масштабе. И даже в самой зоне «глобальной деревни», на самой отдаленной периферии, социальные структуры городов и столиц подвергаются ускоренному и стремительному миграционному потоку, меняющему привычные структуры соответствующих цивилизаций и наций.
Процессы этнической миграции в города Европы или США очевидны и наглядны. Те же процессы в России мы можем наблюдать на примере наших городов и их постоянно возрастающей «мультикультурности». Но нечто подобное имеет место и в Индии, и в Китае, в странах тихоокеанского региона, и в арабском мире, и в Латинской Америке. Не только выходцы оттуда расползаются по глобальному открытому миру в поисках более привлекательных экономических и социальных условий, но и в эти страны, и особенно в их города и столицы, постоянно растет поток приезжих как с периферии собственных стран, так и из соседних государств. Индонезия, Малайзия, страны Индокитая, а также страны Африки также не просто являются поставщиками этномигрантов, но и сами становятся объектами повышенного внимания со стороны этнических слоев собственной периферии, несущих с собой иные виды «мультикультурализма», которые часто ускользают от внимания социологов и демографов.
Мультикультурализация становится всеобщим и глобальным процессом, который не только подтачивает цивилизационные и культурные начала самих гражданских обществ Запада, но и видоизменяет пропорции археомодернистских социальных систем в остальных частях мира.
§ 5. Этносоциология смешанных браков
Межэтнические браки и их аналитика: межнациональные браки
В ситуации роста глобальной этномиграции резко возрастает число межэтнических браков. Межэтнический брак в гражданском обществе вообще никак не фиксируется — ни юридически, ни статически, составляя сферу компетенции социологов.
Анализ межэтнических браков требует ряда этносоциологических процедур, связанных с проблематичностью точного установления этноса и этничности в условиях гражданского общества и в ситуации глобализации655. Они должны пояснить нам, что именно понимается в каждом конкретном случае под межэтническим браком.
В первую очередь, мы должны установить, идет ли речь о браке между гражданами двух государств. В этом случае брак будет квалифицирован как межнациональный, и у него появляется дополнительное юридическое измерение, связанное с гражданством. Межнациональный брак представляет собой брак между двумя людьми, имеющими различное гражданство, т. е. являющимися гражданами двух разных национальных государств. Такой межнациональный брак может быть как межэтническим, так и моноэтническим. Например, русский мужчина с российским гражданством может заключить с русской девушкой, имеющей (по тем или иным причинам) гражданство Франции, брак, который будет со всех точек зрения межнациональным.
В этом случае, при анализе межнационального брака, мы рассматриваем следующие стороны: 1) правовую (взаимные обязательства и пересечения брачных нормативов в соответствующих странах, правила заключения браков и разводов, межгосударственные соглашения, регулирующие спорные вопросы и т. д.); 2) социологическую (как социальные структуры обеих стран влияют на интерпретацию института брака и половых отношений, каковы социологические установки в парадигмальном поведении супругов между собой и в отношении других лиц: родителей, знакомых, сослуживцев и т. д., каков статус детей и их отношений с родителями); 3) культурно-психологическую (как отдельные индивидуумы усваивают культурные коды окружающего общества, до какой степени они следуют национальным кодам поведения, как конкретно в каждом отдельном случае национальная культура влияет на внутрисемейные отношения между лицами, относящимися к разным обществам и т. д.).
При изучении межнациональных браков у нас есть формальная и неформальная стороны, и обе требуют тщательного анализа.
Версии межэтнических браков и их типологизация
Кроме межнациональных браков, мы можем выделить несколько иных сценариев на основе этносоциологического подхода к этой теме.
Браки могут заключаться не только между представителями двух этносов, являющих собой чистый случай архаических койнем (это в наших условиях довольно редкий случай), но и между представителями различных производных от этноса. Можно обобщить все возможные версии в следующей схеме:
|
Фигурант 1 |
Фигурант 2 |
|
|
1 |
Этнос |
(другой) Этнос |
|
2 |
Этнос |
Народ |
|
3 |
Этнос |
Нация |
|
4 |
Этнос |
Гражданское общество |
|
5 |
Народ |
(другой) Народ |
|
6 |
Народ |
Нация |
|
7 |
Народ |
Гражданское общество |
|
8 |
Нация |
Гражданское общество |
Схема 28. Структура этносоциологического анализа смешанных браков
В этой схеме мы видим все версии того, что можно считать «межэтническим браком» между двумя фигурантами любого пола, понимая под «этносом» также его производные.
Брак: этнос и этнос
Первый случай предполагает, что брак происходит между представителем одного архаического коллектива с представителем другого архаического коллектива. Например, мужчина-чукча женится на девушке-юкагирке. Если такой брак допускается структурой конкретных этноцентрумов, то он проходит по правилам, ритуалам, обрядам и нормативам этого этноцентрума, и смысл его следует искать в самих этих этноцентрумах. Референтной базой в этом случае будет являться наше знание о данных этносах, о специфике их мифологических, родовых, религиозных и магических представлений, а также о статусе мужчины и женщины, мужа и жены, родителей, детей и т. д. Исследование каждой конкретной брачной пары мы будем сличать с теми нормативами, которые существуют в рамках этих этносов о браке и его смысле. Достичь индивидуального уровня понимания семейных трений, проблем или, напротив, причин гармонии в таких межэтнических браках будет чрезвычайно трудно, т. к. для этого придется убедиться в том, что то или иное проявление в поведении мужа или жены не является данью определенной этнической традиции, не основывается на этических и мифологических принципах и не является следствием коллективных установок племени. Только после этого можно приступать к анализу индивидуальной психологии членов семьи.
Этнос и народ: гипергамия и гипогамия
Второй случай описывает ситуацию заключения брака между представителем этноса и представителем народа (лаос). В этом случае мы имеем дело с неравновесным браком, т. к. представитель народа относится к обществу, качественно более сложному, нежели представитель этноса. Так как в современном мире «сложность» рассматривается как «нечто высшее», то можно описать эту форму брака (делая уступку привычным формам оценок) как «гипергамию» (брак, повышающий статус одного из членов создаваемой семьи), или «гипогамию» (брак понижающий статус одного из членов).
С точки зрения сложности общества для представителя этноса брак с представителем народа будет гипергамией, а для представителя народа в браке с представителем этноса — гипогамией. В первом случае представитель этноса оказывается в контексте более сложного общества (народа), а во втором — представитель народа в контексте более простого. Правда, здесь вступают в силу законы гендерного неравенства. Чаще всего в патриархальных системах, если мужчина, относящийся к лаосу (народу), берет в жены женщину из этноса, это не сильно снижает его статус. Если же женщина лаоса выходит замуж за мужчину из этноса, то этот чистый случай гипогамии существенно понижает ее статус. В ситуациях, когда и женщина и мужчина из этноса устраивают свой брак с женщиной и мужчиной из народа (лаос), мы имеем дело в гипергамией.
Эта асимметрия показывает, что брак представителя народа с представителем этноса чреват для него гипогамией, которая максимальна в случае женщины, но минимальна в случае мужчины, тогда как обратная модель во всех случаях квалифицируется как гипергамия.
В контемпоральных обществах это проявляется чаще всего в религиозной сфере. Представители монотеистических религий (иудаизм, христианство, ислам), мировых религий (индуизм, конфуцианство, индуизм, зороастризм), а также носители государственных культур и высоких цивилизаций суть представители народа. Брак с ними выходцев из архаических племен представляет собой как раз рассматриваемый нами случай.
В транссахарской Африке примером такого брака будет соединение мусульманина или, тем более, европейца, с представителем архаического племени. В современной России аналогом будет женитьба русского на женщине из эвенков, нивхов или эскимосов.
Француз и африканка
Третий случай смешанного брака представляет собой альянс представителя этноса с представителем нации. С формальной точки зрения и тот и другой могут иметь гражданство (в контемпоральных обществах его так или иначе имеют почти все люди), но в данном случае речь идет о том, насколько интериоризированным является для представителя нации алгоритм эгоцентрума и индивидуальной идентичности в контексте национального государства. В данном случае рассматривается не столько формальная сторона брака, как в случае брака межнационального, сколько социологический зазор между структурой идентичности супругов: с одной стороны, речь идет о носителе этнической идентичности (этноцентрума), с другой, о самосознающем индивидууме, интегрированном в контекст национальной государственности. Таким браком может быть женитьба француза на африканке из любого архаического племени. Случаи, когда, напротив, современная француженка или американка выходит замуж за папуасского охотника, представляет собой еще более редкий случай.
В данном случае дистанция настолько велика, что речь идет не о гипергамии или гипогамии, но о чистой экзотике (что, впрочем, также случается и теоретически не представляет собой ничего невозможного).
Космополит и этнос
Четвертый случай межэтнического брака, когда в брак вступают представитель этноса и член гражданского общества, представляет собой еще более экзотический случай, нежели предыдущий. Но в этом случае с одной стороны в брак вступает не просто гражданин национального общества, а индивидуум, пронзительно осознающий свою космополитическую идентичность. В такой роли может выступать представитель правозащитного движения, неправительственной организации или убежденный носитель идеологии «мультикультурализма». В таком случае со стороны одного из партнеров мы имеем дело не просто с экзотическим выбором, но с реализацией специальной идеологической программы, распространяющейся на стратегию брачного союза. Таким браком представитель глобального гражданского общества не просто подчеркивает абсолютно индивидуальную природу матримониального выбора, но и подчеркивает свой политико-идеологический выбор «мультикультурализма» как жизненной установки и высшей культурной ценности.
Социологический и психологический анализ такого брака будет явно осложнен идеологической составляющей, которая, наверняка, исказит семейные отношения.
Межрелигиозные браки
Пятый случай межэтнического брака в контемпоральных условиях представляет собой чаще всего альянс представителя одной религии с представителем другой, поскольку свойство народа нагляднее всего проявляется в религиозной идентичности. Здесь также большую роль играет гендерный баланс: в подавляющем большинстве случаев жена принимает веру мужа, старается интегрироваться в его религиозную культуру и воспитать в ней детей. В этом случае следует обращать внимание на интеграционный потенциал конфессиональной принадлежности мужа и существующий в этой конфессии механизм ассимиляции.
В ряде случаев супруги сохраняют конфессии различными, что может провоцировать определенные трения и проблемы с религиозным воспитанием общих детей, но может и никак не влиять на семейные отношения. Все зависит от структуры идентичности обоих партнеров брака — чем глубже они интегрированы в традиционное общество и чем полнее отождествляют себя с народом (лаос), тем более чувствительны они к религиозным вопросам и тем более настойчивы в вопросах веры и цивилизации. Если мы имеем дело с более развитой индивидуальной идентификацией, хотя бы и в структуре традиционного общества, то религиозный фактор будет представляться вторичным и малозначимым — больше как дань обычаям и социальная инерция, нежели как неотъемлемая сторона глубинной идентичности.
При этом гендерный фактор снова имеет определяющее значение — принятие веры мужа чаще всего для женщин проходит относительно безболезненно, тогда как выбор мужем конфессии жены — явление чрезвычайно редкое и проблематичное.
Брак как инструмент модернизации
Шестой случай брака представителя народа с представителем нации также может быть рассмотрен в терминах гипогамии/гипергамии. В таком браке один из партнеров относится к традиционному обществу, другой — к современному. Поэтому такой брак является частным случаем социальной модернизации. Для того, кто выступает активной стороной модернизации — это гипогамия, для того, кто пассивной — гипергамия. И снова в данном случае чаще всего речь идет о мужчинах, относящихся к современному обществу, и женщинах, принадлежащих к традиционному. В этом случае такой брак не слишком сильно «занижает» социальный статус мужчины, выступающего «агентом модернизации».
В более редких случаях роли могут меняться, и женщина современного общества выходит замуж за мужчину общества традиционного (например, англичанка или датчанка — за араба или турка, живущих в своих обществах). В таких случаях происходит не столько модернизация мужа, сколько реверсивная интеграция жены в традиционное общество, т. е. своего рода «гипогамия» для жены, и «гипергамия» — для мужа. Интересно, что характер «гипергамии» при таком браке сохраняется даже в тех случаях, когда отношение к «современности» в целом является негативным. В любом случае, брак с представительницей западного общества считается формой повышения социального статуса.
Брак как идеологический вызов
Седьмой случай — брак представителя народа (человека традиционной культуры) с представителем гражданского общества. В целом, структура такого брака напоминает предшествующий случай, но характер модернизации в данном случае еще более очевиден. Представитель гражданского общества отличается прежде всего тем, что предельно ясно осознает свою индивидуальную идентичность, воспринимает себя как законченный эгоцентрум и рассматривает в качестве такого всех остальных. Со стороны такого человека брак с представителем традиционного общества (с обязательной формой религиозной, сословной или цивилизационной идентичности) является вызовом собственной социальной и мировоззренческой позиции. Какими бы ни были мотивы такого брака, он обязательно будет заключать в себе идеологический компонент и для одной из сторон представлять собой сознательный процесс ускоренной модернизации другого партнера. В обратном случае, если представитель традиционного общества принимает правила игры традиционного общества, это будет означать пересмотр идеологических установок и отречение от гражданского общества и сопутствующего ему эгоцентрума. В обоих случаях такой брак с необходимостью будут иметь существенную идеологическую подоплеку, которая может выражаться в обостренных конфликтах, а может и в гармонизации позиций супругов в отношении основополагающих форм социализации. Идеологический зазор с необходимостью скажется на воспитании детей.
Смешанный брак и политические разногласия
Последний оставшийся вариант представляет собой брак между представителем гражданского общества с представителем нации. Здесь также налицо идеологический дифференциал, более смягченный, нежели в предыдущем случае. И национальная идентичность, и идентичность гражданского общества основываются на эгоцентруме, поэтому такой смешанный брак большой проблемы не составит и может сказаться лишь на частных разногласиях относительно ряда социально-политических вопросов. Если взять, для примера, европейский контекст, то члены супружеской пары, скажем, ирландца и полячки, отнеслись бы по-разному к вопросу голосования относительно европейского единства, если муж не смог бы убедить жену в правоте своей национальной и антиевропейской позиции. Полячка в этом примере выступала бы как носительница гражданского общества и сторонница европейского единства (глобализации). Более консервативный ирландец, скорее всего, настаивал бы на сохранении национальных государств (т. к. в своей истории ирландцам так и не удалось добиться построения такого национального государства, которое удовлетворила бы их интересы).
Другие случаи, например, брак представителя гражданского общества с другим представителем гражданского общества мы как смешанный и межэтнический не рассматриваем даже в том случае, если у супругов разный цвет кожи и они говорят на разных языках. Принятие парадигмы гражданского общества и согласие с построением глобального общества автоматически упраздняют любые формы коллективной идентичности и социального соучастия в какой бы то ни было общности, поэтому в данном случае расовые, фенотипические и генотипические особенности практически не имеют никакого значения.
РАЗДЕЛ 4
ЭТНОС И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ
В РУССКОЙ ИСТОРИИ
Глава 14
ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРАЗИИ. ОСНОВНЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
§ 1. Индоевропейцы Евразии и их социальные структуры
Значение лингвистического фактора для этносоциологии
Из определения этноса вытекает, что он тесно связан с языком. Хотя сплошь и рядом носителями одного и того же языка становятся носители различных фенотипов и генотипов, именно язык определяет качественные, социально-культурные признаки этноса. Тот язык, на котором говорит этнос, в значительной мере определяет его сущность. И напротив, когда язык исчезает, вместе с ним гибнет этнос. Если от этноса и остаются отдельные носители, они интегрируются в иной этнос с иным языком, становясь частью нового этноса.
Конечно, с точки зрения генетики или фенотипа те, кто говорит на определенном языке в один исторический период, будут иметь мало общего с теми, кто говорил или будет говорить на нем в другие эпохи, но в определении этноса языковое единство играет ключевую роль. Через язык этнос воссоздает свой этноцентрум, постоянно воспроизводит структуру своего этнического бытия.
Поэтому одной из возможных форм классификации этносов может быть их сортировка на основании лингвистических данных. В этом правиле есть много нюансов, исключений и спорных моментов, но выявление определенных языковых групп, тем не менее, является намного более достоверным социологическим признаком общности, нежели «расовые» или «кровнородственные» признаки. Язык сам по себе описывает ту культуру, к которой он принадлежит, и на основе изучения языка можно получить важнейшую информацию об обществе людей, на нем говорящих или говоривших. При этом «раса» (фенотип или генофонд) сами по себе никаких достоверных социологических данных в себе не содержат, а их интерпретация всякий раз произвольна и основана на локальных концепциях, которые нельзя принимать за базу для надежных социологических реконструкций и анализов.
Основные языковые группы Северо-восточной Евразии
Рассмотрим основные языковые группы, распространенные на территории северо-восточной Евразии — на том пространстве, где происходило формирование русского народа и русского государства. Таксономия языков Евразии даст нам базовые знания о структуре этносов, изначально обитавших в пределах этой обширной территории и так или иначе повлиявших на этносоциологические особенности русских.
В интересующем нас ареале можно выделить следующие языковые группы656:
1) индоевропейскую (славяне, ираноязычные кочевники Турана, германцы, греки, армяне, цыгане, балты);
2) урало-юкагирская (финно-угры и самодийцы);
3) алтайскую (тюрки, монголы, тунгусо-манчжуры, корейцы, японцы);
4) кавказская, включая северо-кавказскую (абхазо-адыги, нахско-дагестанцы, вайнахи) и картвельскую (грузины, мегрелы, сваны);
5) палеоазиатская (чукчи, нивхи, кеты, алеуты, эскимосы).
Эти пять семей не равнозначны ни в количественном, ни в культурном отношении. Каждая из них включает в себя разное (подчас довольно большое) число этносов, имеющих особые культурные и социологические черты. Тем не менее в качестве обобщающей классификации о каждой языковой семье мы можем сделать ряд этносоциологических выводов, помогающих восстановить синтетическую этносоциологическую структуру современного российского общества. Чтобы эта структура была максимально полной, нам необходимо рассматривать состояние и взаимоотношение представителей этих языковых семей не только на современном этапе, но и изучать их прошлое, их корни и истоки, их исторические трансформации. Без такого исторического измерения этносоциологическое исследование не будет достоверным и обоснованным.
Общие черты индоевропейских народов: трехфункциональность
Рассмотрим в самых общих чертах индоевропейскую языковую семью, чьи представители имеют прямое отношение к социальной истории русского народа. К ней относятся ираноязычные кочевники Турана (туранцы), славяне, балтийские этносы (литовцы и латыши), греки, армяне (и хемшилы, армяне, принявшие ислам), цыгане.
В древности индоевропейские кочевники Турана были представлены множеством племен: арьи, туры, хьяона, дана, сайрима, саина, даха, саки, парфяне, массагеты, мидийцы, персы, тохары, скифы, сарматы, савроматы, юэчжи, кушаны, эфталиты, загадочный народ ди, динлины, усуни и т. д.657 При этом большинство из этих названий были не самоназваниями, а именами, данными со стороны, сами же эти народы назывались по-разному и имели в своем составе множество отдельных племен с отдельными этнонимами. Это важно для нас, т. к. туранские кочевники чаще всего отождествляются с монголоидным типом. Один из активных участников движения «скифства» великий русский поэт Александр Блок стал жертвой такого стереотипа, когда писал: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами». Очи скифов были не более раскосыми, чем «очи» современных англичан или французов.
Реконструкцию древнейших форм индоевропейского общества предприняли французский историк религий и социолог Жорж Дюмезиль658 и лингвист и филолог Эмиль Бенвенист659. Каждый из них со своей стороны реконструировал систему древнейших индоевропейских обществ.
Открытием Дюмезиля было установление трехфункциональной системы социальной стратификации, следы которой Дюмезиль фиксирует во всех индоевропейских народах. Дюмезиль считает, что в основе индоевропейских обществ лежало деление на три страты (касты): жрецов, воинов и крестьян/ремесленников (домохозяев)660. Каждой из этих страт соответствовала особая религиозная форма (культы, божества, обряды, ритуалы), особая мораль, особый кодекс социального, профессионального и публичного поведения, особые знаки и символы и т. д.
Трехфункциональная социальная структура мыслилась как интегральная часть трехчленного деления космоса: небо — атмосфера — земля.
Эта структура нашла свое выражение в индийском обществе, созданной индоевропейскими кочевыми народами, завоевавшими древние оседлые цивилизации, располагавшиеся на территории Индостана (Хараппа и Махенджо-даро). Индусы до сих пор имеют кастовую систему: во главе нее стоят жрецы (браманы), далее идут воины (кшатрии), и, наконец, крестьяне и ремесленники (вайшьи); позже к этой касте приписали торговцев, появившихся после развития городов, но изначально отсутствовавших в архаической индоевропейской системе.
У древних персов мы встречаем такую же тройственную иерархию: маги (жрецы), ратаэшта (дословно, «стоящие на колесницах» — воины) и грихаспати (домохозяева)661. Все три касты считались «благородными» («арья»), откуда древнее название страны «Иран» — дословно, «страна благородных».
У древних римлян жрецы («фламины») соотносились с Небом и с Юпитером, «Богом ясного неба». Воины пребывали под знаком бога войны Марса. Остальные свободные граждане назывались собирательно «квириты» и относились к ведению бога Квирина, дающего блага, богатства и урожай.
Дюмезиль столкнулся с наиболее ярким выражением этой трехфункциональной системы, изучая Нартский эпос у осетин Кавказа662. В этом эпосе прослеживается строгое деление на жрецов (род Алагата), воинов (род Ахсартагката) и земледельцев-ремесленников (род Бората). Весь эпос богатырей-нартов структурирован вокруг этих трех функций, и большинство сюжетов и персонажей возводимы к описанию особенностей и характеристик каждой из этих функций, включая пересечение с соответствующими (также разделенными на три типа) мифологическими фигурами.
В средневековой Европе Дюмезиль обнаруживает ту же схему в социальном устройстве и делении общества на «ораторов» (католический клир), «беллаторов» (знать, дворянство) и «лабораторов» (тружеников, крестьян).
У скифов та же трехфункциональность встречается в рассказе Геродота о трех дарах, упавших с неба в легендарный период царствования трех первых скифских царей, сыновей Таргитая — Липоксая, Арпоксая и Колоксая. Этими золотыми предметами были чаша (символ жреческих возлияний), секира (символ воинов) и плуг (символ землепашества).
Следы трехчастной структуры общества мы находим у большинства индоевропейских народов.
Работы Эмиля Бенвениста подтверждают основные выводы Дюмезиля на основании лингвистических данных663. Социальные термины в большинстве индоевропейских языков отражают именно трехфункциональную структуру как социального устройства, так и пантеон божеств и структуру космологии.
Таким образом, согласно Дюмезилю, индоевропейская языковая группа народов и этносов сопряжена с такой социологической особенностью, как трехфункциональное устройство общества.
Теория Дюмезиля позволяет сделать важные выводы относительно социальной структуры древнейших славянских этносов. Тот факт, что славяне принадлежали к индоевропейской языковой семье, уже сам по себе приобретает этносоциологическое значение. Будучи индоевропейскими этносами и находясь в тесном контакте с другими индоевропейскими этносами — в первую очередь, с «арийскими» кочевниками Турана (скифами, сарматами, аланами), а также с готами, а возможно, и входя в состав политических образований этих народов, славяне так или иначе закрепили трехфункциональность социума. Следы ее мы обнаруживаем в различных фрагментах языческих представлений, в частности, в дуалистических мифах о противостоянии небесного бога-громовержца (Перуна) и земного «скотьего бога» Велеса. Перун — фигура двух высших каст (жрецы и воины); Велес — третьей касты (крестьяне)664.
Также наряду с землепашеством (третья функция), которое составляло основное занятие древних славян, мы встречаем упоминания о «волхвах», т. е. о древнеславянских жрецах (первая функция). Архаические сюжеты в героическом эпосе665 могут служить примерами прославления «второй функции», славянских воинов-богатырей.
В дальнейшей истории Руси как государства эти три индоевропейские функции проявятся еще более наглядно: православное священство (первая функция), воинство (князья, боярство, дворянство), крестьянство (позже свободное крестьянство в качестве третьего сословия замещается городским купечеством и мещанством).
Индоевропейское кочевничество и тип «героя»
Рассмотрим другие особенности индоевропейцев Евразии. Многие историки и культурологи (в частности, поздний О. Шпенглер в своем незаконченном труде «Эпика человека»666) обращают внимание на то, что большинство индоевропейских народов древности было кочевым, скотоводческим, чрезвычайно воинственным и жестко патриархальным. Этот тип поздний Шпенглер называет «туранским» и считает, что именно индоевропейские кочевники предопределили особый стиль мировой цивилизации с древнейших времен до нашей эпохи. Сходную идею развивает современный итальянский историк Франко Кардини в своих работах об истоках Средневекового рыцарства667, где он выводит культуру европейского Средневековья из влияния европейских кочевников.
Именно индоевропейские кочевники создали древнейшую цивилизацию Индии. Они же лежат в основе Мидийской, а позже Персидской государственности и религиозной традиции маздеизма (зароастризма). Ахейские завоеватели породили Античную Грецию. И все новые и новые волны воинственных культур с Севера в лице дорийцев, а позже македонян возобновляли в оседлой и изнеженной городской Греции воинственный дух и страсть к новым походам и завоеваниям.
Точно к такому же крайне агрессивному воинственному типу относится и Рим.
Позднее, на заре нашей эры, эту же роль сыграли другие варварские кочевые племена — германцы, которые разрушили Западную Римскую империю и заложили основу политической и социологической конструкции Средневековой, а далее и современной Европы. Эти германские племена лежат в основе таких европейских государств, как Франция, Испания, Португалия, Англия, Германия, Австрия, Голландия. И именно норвежские (германские) военные отряды пришли на Русь вместе с Рюриком, основав первую русскую великокняжескую династию и заложив основу аристократии.
Можно считать кочевничество, патриархат и маскулинную агрессивность важнейшей этносоциологической особенностью индоевропейских племен.
Индоевропейская культура, таким образом, может быть отнесена (как это делает Шпенглер) к культуре «героической»668.
Эта особенность позволяет отнести тип индоевропейских этносов к этнокинетике и увидеть в индоевропейцах движущую силу лаогенеза, т. е. превращения этноса в народ. То, что в центре индоевропейской культуры стоит фигура «героя», объясняет нам роль индоевропейских этносов в создании древнейших государств, религий и культур. Подчиняя оседлые, более миролюбивые народы, индоевропейцы создавали полиэтнические дифференцированные общества (государства, религии, цивилизации) и тем самым переводили этническое бытие в историческое. Индоевропейцев мы встречаем как носителей преимущественно расколотого этноцентрума, несущего свою «расколотость» другим этносам, вовлекая их в стихию открытого и рискованного исторического бытия.
Индоевропейские койне
Если мы можем идентифицировать в древнейших индоевропейских народах устойчивую связь со скотоводчеством, кочевничеством, воинственностью, агрессивностью и маскулинностью (одним словом, с пассионарностью), это может служить объяснением для трехфункциональной теории Дюмезиля. В трехфункциональной модели мы встречаем не этнос (этнос как раз не должен быть социально стратифицирован, да еще так четко, как у индоевропейцев), а народ. Это значит, что сама структура индоевропейского общества предполагает его активную роль (роль катализатора) в лаогенезе. Индоевропейцы могут быть рассмотрены как этносы в стадии этнокинетики, т. е. как потенциальные создатели народа и народов.
Следовательно, сами индоевропейские языки тяготеют к тому, чтобы быть не только этническими, но и универсальными в рамках государства или цивилизации, т. е. тяготеют к тому, чтобы выполнять функцию койне669. Широкое распространение индоевропейских языков в мире (до сих пор на них говорят более 2,5 миллиардов человек670) связано именно с этой функцией. Эти языки, будучи языками «кинетических» этносов, заведомо ориентированы на то, чтобы стать койне для тех этносов, которые окажутся под социальным и политическим контролем индоевропейцев. Это и позволяет увидеть в этих языках большую степень логического упорядочивания, чем во многих других языковых группах. Не случайно полноценные грамматики сложились именно для этих языков — наиболее древней является грамматика санскрита (который даже по названию является «созданным» языком — «созданным» для нужд упорядочивания священных ведических знаний), позже возникли греческая, латинская, славянская и другие грамматики. Такая формализация языка актуальна для дифференцированных обществ и особенно тогда, когда язык используется как койне для тех этносов, которые говорят на нем «естественным» образом, и для тех, кому приходится его учить специально — как условие социализации.
Возможно, не только отдельные индоевропейские языки почти всегда выполняли роль койне (это исторический факт), но и сам индоевропейский язык, когда он был еще языком единой, не разделившейся на ветви этнической группы, уже нес в себе элементы койне. Едва ли можно предположить, что особые кочевые, агрессивные, подчеркнуто маскулиноидные (этнокинетические) черты, соответствующие чисто героическому типу, отдельные индоевропейские этносы приобрели только послед распада изначальной индоевропейской общности. Скорее всего, в структуре уже этой изначальной общности и, следовательно, в ее языке, было нечто, что способствовало впоследствии ее расколу на народы, языки которых легко превращались в койне. Можно выдвинуть гипотезу, что сам древнейший индоевропейский праязык в самом себе был своего рода древнейшим койне. Быть может, это выражается в его флексивной структуре (по контрасту с агглютинативной структурой других древних языков). Но это лишь гипотеза.
Коррекции трехфункциональной структуры: проблема третьей страты
Выявленные особенности индоевропейских этносов позволяют отнести их большинство к народам. А это значит, мы имеем дело не просто с этносами, а с лаосами и, соответственно, с полиэтнической и поэтому пост-этнической структурой, с первой производной от этноса. Если признать, что это свойство не отдельных индоевропейских народов, а всей древнейшей индоевропейской общности, то мы приходим к любопытному выводу: индоевропейцы изначально существуют именно как народ, и лишь позже, в силу тех или иных исторических обстоятельств, рассыпаются на этносы (койнемы), которые при любом удобном случае чаще всего тяготеют к тому, чтобы вновь стать народом (лаосом).
О том, что, имея дело с индоевропейцами, мы встречаемся уже с народами, а отнюдь не с этносами в чистом виде, говорит сама их трехфункциональная структура. Этнос не знает социальной стратификации и, соответственно, вертикального иерархического деления. Оно возникает только в народе.
Но народ, в свою очередь, по теории «суперпозиции» (Überlagerung), предполагает наличие двух полюсов — элит и масс, причем каждый полюс обладает своей особой этнической и социологической идентичностью. Поэтому трехфункциональная система Дюмезиля описывает заведомо полиэтническую структуру: верхние касты относятся к этносу воинственных кочевников-скотоводов (изначально это «пришельцы», установившие контроль над автохтонным населением, а позже их потомки), нижняя (третья) каста вбирает в себя местных жителей (чаще всего крестьян-земледельцев), интегрированных в социальную систему народа. Именно здесь, в области третьей функции, и сосредоточено этническое начало. Здесь этнос как простое общество сохраняется в структуре народа как общества сложного. И можно предположить, что массы в структуре трехфункциональной системы (относящиеся к земледельцам, вайшьям, квиритам, грихаспати и т. д.) имеют более архаическую природу и более древнюю историю, нежели всегда «новые» элиты — индоевропейцы.
Это прекрасно видно на примере классического сюжета из римской истории о похищении сабинянок римлянами. Маскулинные агрессивные воинственные римляне (потомки пришельца Энея) похищают у местного племени сабинян (отличающихся всеми признаками мирного сельского населения, автохтонного для Лации) женщин, чтобы сделать их своими женами. Между ними развязывается война, которую останавливают сабинянки, ставшие женами римлян и не желающими гибели ни отцов и братьев, ни своих мужей. Так возникает пакт между римлянами и сабинянами. Римляне формируют две высшие касты жрецов и воинов, а сабиняне — третью, аграрную. Поэтому в триаде богов (Юпитер, Марс, Квирин) или в трех стратах (жрецы (фламины), воины, труженики) собственно индоевропейскими являются только два первых члена — Юпитер и Марс среди богов, жрецы и воины среди каст.
Но это только самая общая схема. Очевидно, что такой этнический дуализм нюансирован тем, что сплошь и рядом индоевропейские захватчики, маскулинные кочевники, приходят в оседлые общества, которые уже ранее подверглись аналогичному нашествию и восприняли от него определенные культурные, языковые и социологические черты. Поэтому у местного населения может быть, в свою очередь, социальная стратификация, а также особый признак синтеза кочевой и оседлой культур в экономике — наличие железного лемеха, использование крупного рогатого скота (обязательно привезенного предшествующей волной кочевников-завоевателей), участие в пахоте мужчин. Иными словами, часто в истории нашествиям индоевропейских племен подвергается уже индоевропеизированное население.
Арабский историк Ибн Халдун (1332–1406), считающийся древнейшим «социологом»671, предложил теорию, описывающую этот процесс. С его точки зрения, на периферии цивилизации в зоне «варварства» в какой-то момент образуется сплоченная группа волевых активных мужчин (кочевников и воинов). То, что их объединяет, Ибн Халдун назвал «ассабийя», что можно перевести как «сплоченность», «солидарность», «коллективизм». Эта группа формируется в войско и оказывается сильнее оседлых культур, которые в ситуации мира и благополучия становятся изнеженными, отчужденными друг от друга и эгоистичными. Кочевники-коллективисты захватывают оседлые культуры (города и села) и преващаются в них в правящую касту. Пока они сохраняют «ассабийя», они сохраняют и власть. Утратив ее и впитав в себя основы мирной оседлой культуры, они сами уподобляются местному населению и, в свою очередь, становятся жертвами следующей волны «варваров».
Применив это к индоевропейцам, мы можем таким образом описать циркуляцию элит. Новые волны индоевропейских кочевников захватывают оседлые общества, становятся в них высшими кастами, затем утрачивают воинственность, приходят новые завоеватели и вновь утверждают себя элитой.
Но здесь есть один тонкий момент. Третья страта (труженики, крестьяне, средневековые европейские «лабораторес») постепенно вбирают в себя определенные черты народа, дифференцированного общества. Они частично остаются этносом, а частично, другой своей стороной, интегрируются в лаос (в хозяйстве это как раз и проявляется в использовании тяжелого плуга, волов и лошадей в пахоте, а также в переходе главных сельскохозяйственных функций от женщин к мужчинам). Поэтому «сабиняне» не просто подавляются римлянами, но и интегрируются в общее социальное поле «квиритов», граждан, приобретая ряд существенных прав и статусов в иерархическом обществе. Позиция третьей страты повышается по мере того, как расширяется зона контроля данного индоевропейского общества на прилегающие территории. Вновь покоренные социальные группы превращаются либо в рабов, либо в менее «полноправных» граждан, чем представители «третьей касты». Так в некоторых индоевропейских обществах появляется «четвертая каста». У индусов она называется «шудра». Это своеобразная каста, представители которой уже не относятся к трехфункциональной модели и представляют собой «внешний» для социальной системы элемент. Четвертая каста состоит из рабов, людей лишенных социального статуса вообще. Это и есть «масса» в чистом виде. Ее природа уже четко контрастирует с индоевропейским социальным ядром.
Эти этносоциологические уточнения в теории Дюмезиля имеют большое значение для древнейшей истории восточных славян.
Индоевропейцы как воины и солярные культы
Еще одной отличительной чертой индоевропейцев (особенно кочевых «ариев» Турана) является их воинственный характер. Индоевропейское общество — это в первую очередь воинственное общество, воюющее общество. Среди трех функций, составляющих трехфункциональную структуру, у индоевропейцев доминирует одна — воинская. Индоевропейцы — народ бога войны, Марса. И жречество, и возделывание земли подчинены в их обществах преобладающей героической функции. Именно героизм, воинственность, столкновение со смертью, неравновесность миробытия в агрессивном состоянии натиска и захвата Освальд Шпенглер кладет в основу той культуры, которую он называет «туранской» и которую он противопоставляет двум другим типам культур — культуре Атлантиса (западный ареал Европы — от Ирландии до Иберии) и культуре Куша (ареал, простирающийся от Ближнего Востока к Индии и Пакистану) 672.
Воинственность индоевропейцев является их специфической чертой. Чем более индоевропейским является тот или иной народ, тем более он воинственен и тем прозрачнее преобладают в его культуре героические, воинские ценности.
Индийский цикл, связанный Бахагавадгитой, прославляющий этику воина (карма-йога) или мифологические сюжеты скандинавской «Эдды», Нартский эпос, дуалистическая религия зороастрийцев, этика ахейцев или дорийцев Древней Греции, вся история Рима, германские варвары раннего Средневековья, средневековый рыцарский феодализм и даже хроника европейских государств Нового времени, включая Россию — мифы, религия, политическая история полны только войной, подвигами, героическими сражениями или описаниями нашествий иноплеменников.
Индоевропейцы как социологическое явление непосредственно связаны с пассионарностью (Л. Гумилев), войной, героической системой ценностей.
Воинственность отражена в мифах и религиях индоевропейцев, в центре которых стоят образы неба и солнца, а также этика самопреодоления, подвига, сражения с чудовищами и осуществления невозможного. Солнце светит изо дня в день, и его силы не убывают. Солнечный принцип стоит в основе индоевропейской культуры: герой, подобно солнцу, отдает всего себя излиянию внутренней энергии, самосожжению, огненной стихии, чтобы столкнуться с ночью и смертью, но «наутро» восстать из могилы победителем.
Индоевропейский фактор и славяне
Если сопоставить этносоциологические особенности индоевропейской культуры с древнейшим этапом истории восточных славян, о котором практически не осталось достоверных сведений, кроме разрозненных намеков и фрагментов, мы можем, даже на основании имеющихся в нашем распоряжении скудных данных сделать ряд выводов.
Славяне, судя по всему, никогда не были кочевым скотоводческим этносом с высоким дифференциалом и героической доминантой. Об этом не сохранилось ни преданий, ни сказок, ни эпических сюжетов. И это является глубинной константой всей русской истории. Древние славяне, какими мы их встречаем в истории, были преимущественно миролюбивыми аграриями, занятыми обработкой земли и освоением новых территорий, пригодных для земледелия. При этом славяне были чрезвычайно динамичны, подвижны и тяготели к речной стихии. Они селились вдоль рек, и именно от их берегов и плодородных пойм начинали свое распространение вглубь лесной зоны, шаг за шагом отвоевывая у леса все новые и новые территории, пригодные для пахоты.
Таким образом, в общем контексте туранских индоевропейских обществ славяне занимали, в целом, периферийное положение, составляя основу оседлого крестьянского населения, которое в серии завоевательных, перекрещивающихся кочевых волн составляло устойчивое место третьей страты — оседлых земледельцев. Причем, видимо, такое положение дел было задолго до первых документированных сведений о славянах.
Когда академик Рыбаков673 выдвигает версию о том, что «царскими скифами», сколотами, могли быть древние славяне, входившие в состав скифского царства, он точно попадает в этносоциологический алгоритм: у кочевых воинственных скифов (первой, но особенно второй страты профессиональных воинов) в подчинении и симбиотическом альянсе были какие-то оседлые земледельческие племена (им-то и был послан золотой плуг в скифской легенде о сыновьях Таргатая). Это и есть скифы-пахари, которые, согласно Геродоту, жили на левобережье Днепра. Геродот называет их «каллипиды», «алазоны» и собственно «скифы-пахари»674. Все они выращивали хлеб, но только скифы-пахари выращивали его на продажу, т. е. были исключительно земледельцами. Выращивание хлеба для Геродота было признаком их качественного отличия от основной массы скифов. Именно на этой территории несколькими веками позже мы уже достоверно встречаем восточных славян, в основном полян. С этносоциологической точки зрения гипотеза Рыбакова относительно тождества скифов-пахарей с древними славянами приобретает все основания. Славяне как земледельческие индоевропейские племена и были скифами-пахарями в полном смысле слова. «Скифами» они были потому, что входили в состав скифской, кочевой, индоевропейской туранской государственности.
Кроме того, будучи индоевропейским народом, славяне были глубоко интегрированы в воинственное индоевропейское общество: они были евразийские «квириты», «домохозяева» («грихаспати»), «вайшьи» и были наделены полноценным статусом в структуре трехфункционального общества. Мы застаем славян уже использующими железный лемех, пашущими на волах и конях с преобладанием в пахоте мужского труда. Эти признаки показывают, что мы имеем дело с третьей стратой дифференцированного индоевропейского народа и соответственно стратифицированным, политически оформленным обществом. Славяне не играют в нем роли правящей элиты, но полноценно участвуют в общей структуре.
Это соучастие объясняет массовое участие славян в военных походах. Хрониками описаны мужество и героизм славян, их храбрость, агрессивность и «дикость». Скорее всего, не сами славяне выступают инициаторами масштабных захватнических походов, но ведомые военной индоевропейской элитой, они органично вписываются в войну, хотя после возвращения домой снова входят в стихию мирного сельского труда.
Славяне-индоевропейцы в социологическом смысле и являются органичной частью древнейших индоевропейских обществ. Язык и культура, быт и особенности мифологии, хозяйственная практика и обряды — все это позволяет отнести древних славян к вполне определенному цивилизационному типу.
Если мы зафиксируем эту принадлежность славян к индоевропейской социально-политической структуре и учтем их своеобразие, нам станут понятными многие другие этносоциологические и исторические особенности русских. Частично эти свойства сохраняются (на уровне бессознательного и глубинных социальных стереотипов) и по сей день.
Из нашего анализа можно сделать и еще один вывод: с первых моментов упоминания славян в истории мы имеем дело не просто с этносом и этносами, но с элементами индоевропейских народов, со стратой более сложного образования. Мы видели, что именно в третьей страте этническое начало более выражено, чем в высших стратах трехфункционального общества. Это верно, и поэтому этнические черты у древних славян присутствуют. Мы можем выявить структуру славянского этноцентрума, восстановить ее, но при этом надо учитывать, что собственная история славянских обществ начинается не с этого — чисто этнического — момента, не со славянской койнемы, а с более сложной стадии, когда славяне уже являются интегральной частью дифференциального общества, народа, лаоса. Славянская архаика сложней, чем это можно себе представить.
Царство Германариха
На территории, непосредственно примыкающей к территории позднейшего расселения древних восточных славян, в начале I тысячелетия нашей эры находилось несколько государств, созданных индоевропейцами. Кроме упомянутых скифо-сарматских царств, стоит упомянуть готское царство Германариха, расположенное в северном Причерноморье и простиравшееся от Днестра до Дона. Восточные славяне явно находились в тесном контакте с готами, о чем свидетельствуют многочисленные заимствования из готского в древнерусском языке.
Готы принадлежали к классическому воинственному кочевому племени, и царство Германариха было основано на военных походах против соседних племен и государств. Готский историк Иордан675, живший в VI в., включает в территории, покоренные Германарихом, обширные земли вплоть до Балтийского моря, а среди подчинившихся ему племен фигурируют как германские (тиуды, инаунксы, васинабронки), так и финно-угорские этносы (меренс, морденс); отдельно говорится о покорении племен венетов (куда включаются три племени: венеты, анты и славены), в которых большинство ученых видят племена восточных славян. Если сведения Иордана верны (хотя многие историки их ставят под сомнение), в царство Германариха входит территория почти всей будущей Киевской Руси с добавлением ряда германских земель, расположенных к Западу (хотя существует несколько версий о том, где точно в тот момент располагались германские племена).
С этносоциологической точки зрения в такой реконструкции Иордана нет ничего невозможного: воинственные индоевропейцы-готы преимущественно второй страты (воины), с центром в причерноморских степях, вполне могли быть политическими архитекторами всего пространства Среднерусской возвышенности за несколько столетий до появления Киевской Руси. Иордан сетует на бурное распространение и сопротивление Германариху венетов (предположительно, славян), что также соответствует вероятному положению вещей: чтобы в VIII–XIX вв. заселить обширные территории на Западе современной России, восточные славяне должны были в какой-то момент начать активно увеличивать зону расселения и демонстрировать повышенную степень воинственности и готовности сопротивляться внешним завоевателям.
Армяне и Армения
К индоевропейским этносам относятся армяне, один из древнейших народов, некогда распространявший свое влияние на обширные зоны, включающие в себя Северный Иран и Анатолию вплоть до Киликии (киликийская Армения) и Сирии.
Предки армян появились на территории Армянского нагорья к концу II тысячелетия до нашей эры. В тот период в этой зоне жили архаические индоевропейские этносы урартов, хурритов, хеттов, лувийцев. В IX в. до нашей эры возникает государство Урарту, куда вошли эти и многие другие этносы. После распада Урарту протоармянский язык стал койне для многочисленных народностей Армянского нагорья, и исконные носители этого языка растворились среди других этносов, образовав к IV–II вв.до нашей эры армянский народ (лаос). Эта культурная зона стала позднее частью Ахаменидского Ирана, откуда армяне получили серьезный религиозный, культурный и политический импульс.
В 189 г. до нашей эры представители армянского царского рода создают три армянских царства, получивших названия, соответственно: Великая Армения (к востоку от Евфрата до Араратской долины включительно), Малая Армения (к западу от Евфрата) и Софена. Территория Великой Армении занимала огромную зону, включающую в себя Анатолию, южнее Каппадокии и Сирии, на юге имея границы с Парфянской империей. Позднее Армения неоднократно попадала в зависимость от других государств, завоевывалась, подвергалась разграблению, но всякий раз снова и снова выходила на виток создания собственной государственности.
Армяне являются именно народом, сопряженным с высоко дифференцированной культурой, социальным расслоением, разделением труда, собственной письменностью, языческим, а затем христианским религиозным самосознанием, воинственным духом и наличием в народе обширного пласта крестьян-земледельцев. Кроме того, армяне обладают высоким культурным потенциалом и, расселяясь в самых различных обществах (чаще всего в городах), прекрасно адаптируются к новым условиям, занимая в обществе довольно высокие позиции.
В Османской империи армяне, остававшиеся христианами, в последние десятилетия ее существования стали подвергаться репрессиям, закончившимися масштабной резней, которую современные армяне признают спланированным геноцидом. Основной причиной этого были пророссийские симпатии армян и их сотрудничество в деле ослабления османской власти на северо-востоке Империи. Армения вошла в состав СССР, а в 1991 г. провозгласила свою независимость.
Несмотря на то, что сегодня у армян есть свое государство, миллионы армян живут в России и могут быть отнесены к одному из этносов. При этом исторически они, безусловно, представляют собой народ (лаос), а современная Республика Армения является типичным суверенным государством, ее граждане — буржуазной нацией. Таким образом, древнейшие индоевропейцы армяне одновременно выступают сегодня в трех этносоциологических статусах: это этнос (вне Армении), нация (в Армении) и народ (как совокупность и тех и других, сохраняющая единое самосознание).
Балты и их этносоциологические особенности
Относительно архаическими индоевропейскими этносами были балты. Балтийские племена жили рядом со славянами, начиная от Восточной Германии (пруссы, курши, галинды, ятвяги) через балтийский регион (латгалы, жемайты, земагалы, селы) вплоть до окрестностей Москвы (голядь). Жемайты, надрувы, скальвы считаются предками современных литовцев, а курши, земгалы, селоны, латгалы и финно-угорское племя ливов — латышей.
Балты представляли собой чисто этнические образования задолго до того, как восточные славяне сформировали древнерусский народ и его государство — Киевскую Русь676. И лишь в XIII в. оставшиеся свободными после наступления германских крестоносцев и создания Ливонского ордена балтийские племена сформировались в народ, получивший название «литовцы».
Литовское государство стремительно развивалось в период монгольских нашествий XIII–XIV вв. В этот период королем Миндовгом, принявшим католичество, было создано Великое княжество Литовское, в которое вступили западнорусские православные княжества. Русская элита органично влилась в элиту литовскую, а позже — польскую. Великий князь Литвы Ягайло в 1385 г. заключил с Польшей, на основе совместной борьбы против крестоносцев, Кревскую унию. Только в 1387 г. официально состоялось крещение Литвы в католичество. Территория Литвы быстро росла, достигнув на севере Балтики, а на юге — Черного моря.
Великое княжество Литовское и Польско-Литовское королевство играли в русской истории огромную роль, которую мы подробнее рассмотрим позднее.
Следует сказать, что с этносоциологической точки зрения древние балты были очень близки к древним славянам. Их преимущественным занятием было общинное земледелие. Но т. к. они находились дальше от кочевых империй Великой Степи, то их социальные формы были более архаичными, а общество еще менее стратифицированным, нежели у славян. Считается, что важным фактором было тесное смешение балтов с финскими племенами. Противостояние балтов германцам-крестоносцам вначале носило характер сопротивления архаических этносов более жесткому и дифференцированному обществу (Тевтонский орден), утверждавшему европейскую культуру и католичество огнем и мечом. Стремясь отстоять свою самобытность, балты в определенный момент приняли вызов и самостоятельно сформировали героический тип культуры, перейдя от состояния этноса к состоянию народа. Таков был путь литовцев, ставших из этноса народом (лаос) и создавшим свое собственное государство. Некоторые балтийские этносы, побежденные крестоносцами (например, пруссы), были полностью истреблены или ассимилированы, а те, кто, оказался под их властью (предки современных латышей), сохранились в состоянии этносов и заняли в структуре Ливонского ордена низшее положение.
С этносоциологической точки зрения важно проследить различие в судьбе литовцев и латышей. Литовцы из ряда балтийских этносов превратились в народ, и лишь позднее, уже в ХХ в., выйдя из состава Российской Империи, стали буржуазной нацией. Латыши оставались этносом, вобравшим в себя различные балтийские группы меньшего масштаба, и были таковыми на всем протяжении своего существования (то в составе Ливонского ордена, то в составе Российской империи) вплоть до 1918 г., когда они по образцам европейских государств создали искусственную буржуазную нацию. Таким образом, две довольно близких сегодня по своему социокультурному устройству прибалтийских нации, литовцы и латыши, имеющие сходные государственно-политические формы, имеют различное социологическое происхождение.
Литовцы: этнос — народ (государство) — нация
Латыши: этнос — нация
Третье современное прибалтийское государство, Эстония, по своей структуре ближе именно к Латвии, но основой эстонской нации является финский этнос эстов, принадлежащей к иной языковой группе, которую мы рассмотрим далее специально.
§ 2. Урало-юкагирская языковая группа (финно-угорская эйкумена)
Евразия как финно-угорская эйкумена
Если индоевропейцы были дифференцирующим ядром древнейших обществ, к которым восходят корни истории восточных славян, то финно-угры (и в гораздо меньшей степени лингвистически близкие им самодийцы), представляют собой то этническое поле, которое лежит в основе евразийских этносоциологических процессов677.
Считается, что финно-угры и самодийцы представляют собой две этнолингвистические группы, сложившиеся в древнейшие времена, задолго до прихода на территорию Среднерусской возвышенности славян, соответственно, к Западу и к Востоку от Уральского хребта, и некогда бывшие едиными. Финны двинулись к Западу и Северо-западу, вплоть до Скандинавии. Угры селились в Поволжье, в Приуралье. Самодийцы сместились в тайгу, Сибирь и в тундру.
Финно-угры с полным основанием могут рассматриваться как автохтонное население северо-восточной Евразии, которое занимало ее пространство с самых древнейших времен. Если индоевропейские (и не только индоевропейские) кочевники с незапамятных времен доминировали над Степью (от Манчжурии до Паннонии и Трансильвании), то финно-угры заселяли собой лесную зону Евразии и особенно земли к Западу от Уральского хребта. Вся гигантская территория от Балтийского моря и Скандинавского полуострова до Западной Сибири была зоной преимущественного расселения финно-угорских племен. Следы такого положения дел сохранились в топонимике России, где огромное число названий рек, местечек, деревень, городов и т. д. имеют явные финно-угорские лингвистические черты. Многие названия были вторично «ославянены» или «отюречены», снабжены «народной этимологией», но структура их фонетики и соответствующие семантические дубликаты в других позднейших языках в большинстве случаев безошибочно и однозначно указывают на финно-угорские корни.
До славян и до каких-либо исторических хроник эта зона представляла собой не «пустое место» на этнической карте, а территории интенсивной и содержательной этнической жизни многообразных племен и этносов, переживавших взлеты и падения, драмы и катастрофы, удачи и трагедии.
Но если о финно-угорской архаике у нас есть некоторые сведения, почерпнутые из мифов, легенд, преданий и обрядов, то восстановить самодийскую, восточную ветвь социальной истории чрезвычайно трудно.
Финно-угорские этносы сохранились до сих пор в большом количестве. Это сегодняшние марийцы, коми, карелы, финны, анты, манси, эстонцы, вепсы, саамы, бессермяне, ижорцы, водь. Всего их более 2, 5 миллионов человек. А самодийские этносы представляют собой очень малые группы — всего несколько тысяч. К этой группе относятся ненцы, селькупы, нганасанцы, энцы, юкагиры, чуванцы. Меньше всего нганасанов (834 человека) и энцов (327 человек).
Некогда территория России была страной урало-юкагирских этносов.
Социальные особенности финно-угров
Данные, которые мы имеем о социальных особенностях урало-юкагирских этносов, резко отличают их как от кочеников-степняков (индоевропейских или тюркских), так и от речных земледельцев славян. Финно-угры на всем протяжении своей истории тяготеют к обществу охотников и собирателей, и именно эта идентичность составляет отличительную черту подавляющего большинства этносов, входящих в эту группу. На всем протяжении известной нам истории и, вероятно, до ее начала финно-угры представляют собой группу племен, предпочитающих сохранять неизменным свой древнейший охотничий уклад. Общества финно-угров дифференцированы чрезвычайно слабо. В них преобладает общинный принцип. Социальное расслоение невелико. Основной способ добывания пропитания — охота, рыбная ловля и собирательство диких ягод. Центральную роль в жизни племени играет шаман.
Это в значительной степени сохраняется до сих пор, несмотря на тысячелетия культурных влияний более дифференцированных обществ, активно воздействующих на финно-угорские группы. Мы говорим о тысячелетиях, поскольку задолго до появления Киевской Руси территория Северо-восточной Евразии была, с очевидностью, интегрирована в социально-политическую структуру степных кочевых империй. И доминирующая в Степи в тот или иной отрезок времени этническая группа кочевников, безусловно, распространяла свое влияние и на лесостепную, и частично на лесную зону к северу от самой Степи. Финно-угры облагались данью, участвовали в культурном симбиозе. Это наглядно в финно-угорской мифологии, которая несет на себе отчетливые следы мифов, характерных исключительно для кочевых ираноязычных племен скифо-сарматского типа, а, возможно, и других индоевропейцев-кочевников, исповедовавших дуалистические религиозные культы. Точно такие же индоевропейские кочевые дуалистические сюжеты мы легко обнаруживаем в русском фольклоре, что только сближает культуру славян с культурой финно-угров. И славяне, и финно-угры уходят корнями в индоевропейские кочевые империи, периферией которых они были. Но финно-угры выступали в таком качестве гораздо раньше славян и на других условиях.
Главное отличие состоит в том, что финно-угры, будучи обществами охотников и собирателей, не вошли в состав индоевропейской трехфункциональной системы на полном основании третьей страты. В этой системе у них вообще не было места, они оставались вне ее. Можно себе представить, что кочевники, собираясь в очередной бесконечный военный поход, мобилизовали боеспособных финно-угров в качестве ополчения. Но те, кто выживал и возвращался домой, снова обращался к охоте и собирательству, быть может, лишь усовершенствовав формы охоты с помощью военной тактики и новых инструментов (копье, лук), заимствованных от кочевников. На этом «модернизация» финно-угров заканчивалась и места «третьей страты» они не занимали.
Одна из этнологических гипотез считает возможным, что степные гунны (хунну), создавшие могущественную империю, заставлявшую дрожать как других степняков, так и китайскую державу, и чуть было вместе со своим предводителем Атиллой не взявшие Рим, говорили на языке, родственном финно-угорскому и были этнически близки им678. Этого нельзя исключить, хотя от языка гуннов осталось лишь три слова, не поддающиеся однозначной лингвистической интерпретации. Кроме того, похоже, что гунны были составным народом, в котором участвовали несколько (вероятно, довольно много) этносов. Однако эта гипотеза наталкивается на устойчивое наблюдение относительно этносоциологической структуры финно-угорских этносов, которые не демонстрируют ни воинственных, ни эксклюзивно кочевнических качеств, предпочитая традиционные занятия охотой, рыболовством и собирательством ягод и кореньев, что относит их к совершенно иной социальной категории. Гунны вполне могли мобилизовать в свои армии значительную часть угорского ополчения, но едва ли угры составляли ядро лаогенеза гуннов. Для этого нет никаких социологических предпосылок ни в ранней, ни в поздней истории финно-угорских этносов.
В любом случае почти наверняка финно-угорские племена еще задолго до прихода на территорию современной России славян были составной частью кочевых империй. Они не интегрировались туда социально и не составляли с ними социополитического единства потому, что не занимались сельским хозяйством и не могли превратиться магистрально в третье сословие степной иерархической государственности, в которое, судя по всему, превратились славяне. Соучаствуя в этой государственности, они были вовлечены в нее гораздо меньше, чем славяне.
Славяне и финно-угры
Представители финно-угорских и самодийских этносов в целом представляют собой довольно чистый случай этнических обществ или койнем на территории древней Евразии. Структура их быта, культуры, религии, социальности отражает особенности именно этноцентрума с его неизменным и константным балансом. Будучи обществами охотников и собирателей, они относятся к простейшим этносоциологическим формам и поэтому несут в себе наиболее характерные черты этноса, пребывающего в самом себе.
Этим объясняется их реакция и на политическое давление кочевых империй, и на взаимодействие со славянами. Вступая в социальную зону более дифференцированных обществ, представители урало-юкагирских этносов не принимали их вызова, не впускали в себя фигуру «другого», не переходили от этнодинамики к этнокинетике, т. е. не делали шагов в направлении лаогенеза. Под давлением более сложных обществ они либо отступали в недоступные и слабо приспособленные для обитания таежные зоны и тундру (самодийцы, ханты, манси, коми, финны, карелы), либо ассимилировались с более активными и наступательными этносами (славянами, ранее, по-видимому, степняками), либо жили на окраине этих сложных обществ, не замечая неудобств или приспосабливаясь к ним, но в любом случае стараясь их не замечать и истолковывать в рамках этноцентрума и присущей ему семантики. Все «новое» они толковали как «старое», а то, что невозможно было так перетолковать, просто игнорировали.
Финно-угры, таким образом, представляют собой отчаянный тысячелетний труд этносов, направленный на то, чтобы не замечать того, что с ними происходит, и сохранить в равновесии и неизменности привычный социокультурный, хозяйственный и религиозный уклады.
Этим и была предопределено тысячелетнее этническое взаимодействие славян с этносами, территорию которых они постепенно заняли, где и основали свое собственное общество. Славяне были носителями индоевропейской трехфункциональной социальности, преимущественно на уровне третьей страты (крестьян-земледельцев). Но при этом земледельческая культура, тем более сопряженная с элементами «государственности» и техническим инструментарием, привнесенным кочевыми культурами (одомашненный крупный рогатый скот, железный лемех и т. д.), делала славян активными, динамичными, наступательными и настойчивыми. Изначально расселяясь вдоль рек, славяне постепенно двигались вглубь леса, а это было уже «жизненное пространство» финно-угров. Так как мы практически не имеем никаких достоверных сведений о возникающих социально-культурных конфликтах между славянскими колонистами и автохтонным населением охотников и собирателей и, напротив, летописи постоянно повествуют о совместных действиях, консультациях, общих проблемах славян и финно-угров, можно допустить, что процесс межэтнического общения проходил довольно гладко и гармонично. Это объясняется не просто особой «гуманностью» славян, но скорее тем, что славянское и финно-угорское общества находились на разных этносоциологических уровнях, бытие в которых развертывалось параллельно друг другу. Славяне продвигали в сторону леса свои пашни постепенно, и повсюду оставались огромные зоны, где подвижные охотники могли разместиться или куда отступить. Ведь конкуренции с точки зрения борьбы за охотничьи угодья между обществом аграрным и охотничьем быть не могло. Славяне наступали медленно и «аккуратно». Финно-угры столь же медленно и «аккуратно» отступали.
Скорее всего, можно предположить, что между двумя типами обществ — славянским и финно-угорским — существовали отношения «комменсализма» (по Широкогорову). Обмен товарами шел активно и интенсивно, но, если связи по какой-то причине прерывались, ни одно из обществ особенно не страдало.
При этом, безусловно, постепенно расширялся процесс ассимиляции славянами финно-угров. Если в отношении кочевников-индоевропейцев (скифов, сарматов и т. д.) славяне играли пассивную роль и, соответственно, отдавали (добровольно или принудительно) своих дочерей и сестер более активным и агрессивным сборщикам дани и представителям политической силы, то в случае с финно-уграми славяне, напротив, выступали как носители дифференцированного общества, как активные и наступательные представители более «мужской» культуры. В этом случае дочери и сестры финно-угров уходили уже к славянам и подвергались русификации. Так осуществлялся межэтнический брачный цикл.
Параллельно этому славяне несли с собой язык, культуру, религию, хозяйственные навыки и политическую систему, которые так или иначе влияли на финно-угров. Славянизация финно-угров представляла собой процесс аккультурации, привития особых, не вырастающих органично из автохтонной культуры социологических черт. Аккультурация могла проходить и дистанционно: под влиянием соседних славян финно-угры перенимали их образ жизни, хозяйственные практик, культуру, религию и т. д. Открытость и интегральность славянского общества облегчала проникновение в него представителей финно-угорских этносов, для чего не было почти никаких преград. Этносоциализация и тем более включение в народ (лаос) у русских, как правило, проходят чрезвычайно легко.
Вместе с тем симбиоз и комменсализм славян и финно-угров оказывал влияние и на самих славян. Вместе с товарами и невестами общества обменивались предметами быта, художественными и ремесленными навыками, обычаями, традициями и т. д. Поэтому и в славянской культуре можно обнаружить множество финно-угорских черт.
Так возникает подозрение, что в русских волшебных сказках все наиболее архаические сюжеты, относящиеся, как это убедительно показал В.Я. Пропп679, к обществу охотников и собирателей, поддерживались живым опытом финно-угорских народов, для которых кодовый алгоритм инициаций, обмена элементами и знаками с миром лесных зверей, был понятным и совершенно оперативным, в то время как для славян уже на самой ранней стадии их появления в истории этот опыт был далеко в прошлом. Здесь возникает смелая гипотеза о том, не является ли вообще весь пласт охотничьих сюжетов в волшебной сказке следствием финно-угорского влияния на русскую народную культуру? Ответ требует обширных и серьезных исследований. Важно лишь подчеркнуть, что культурный обмен славян и финно-угров был двусторонним и проходил на двух разных уровнях. Финно-угры как этносы старались не замечать того, что они вовлечены в народ — с его историей, иерархией и проективным энергическим стремлением вдоль оси линейного времени. Да и сами славянские крестьяне вступили в народ лишь отчасти, продолжая сохранять свои извечные этнические устои. Сельские общины славян, равно как и охотничьи общины финно-угров, пребывали в контексте этноцентрума, причем организованного у тех и других различным способом. И те, и другие тормозили время, заводя его в структуры «вечного возвращения», в петли мифа. Но т. к. эти общины находились на разных этносоциологических этажах, то славяне служили прослойкой между финно-уграми и государством (более высокими стратами). Это позволило финно-уграм дольше и полнее сохранять этноцентрум, который у славян подвергался более интенсивному распаду, провоцируемому участием в истории и давлению высших воинственных страт.
Финны и венгры
Большинство финно-угорских этносов в настоящее время живет на территории России. Но за ее пределами существует два государства, где финно-угры составляют основу нации — это Финляндия и Венгрия. И Финляндия и Венгрия населены преимущественно финно- и угро-говорящими этносами, которые осознают себя как самостоятельные народы (особенно венгры, принимавшие активное участие в европейской политике еще с эпохи Средневековья, когда Венгрия была независимым королевством, позже вошедшим в состав Австро-Венгерской империи) и сегодня имеют свои национальные государства. Если статус венгров как народа (лаоса) вообще не вызывает сомнений и опирается на долгую историческую традицию, то Финляндия была образована на обломках Российской Империи довольно искусственно и сразу же как национальное государство (минуя стадию народа/лаоса).
§ 3. Алтайская языковая семья: тюрки и монголы в структуре Евразии
Тунгусо-манчжурские этносы
Теперь обратимся к третьей группе, имеющей принципиальное значение для лаогенеза северо-восточной Евразии. Это народы и этносы алтайской языковой семьи. К ней относят тюрок, монголов, тунгусо-манчжуров, корейцев и японцев. Корейцев и японцев можно вынести за скобки, т. к. прямого влияния эти народы на русскую историю не оказали, а тюрки, монголы и тунгусо-манчжуры, напротив, участвовали в ней довольно активно.
Тунгусо-манчжуры представляют собой этническую группу, в состав которой входили как архаические этносы, занимавшиеся охотой и собирательством, а также приполярным оленеводством, так и некогда воинственные племена, не раз вторгавшиеся в Китай и побеждавшие его армии. Так, манчжурское племя чжурчженей основало в Китае династию Цинь, которая просуществовала с 1115 по 1234 г. Еще ранее древние манчжуры создали на Дальнем Востоке сильное независимое царство Бохай (698–926). Китайские историки причисляют к тунгусо-манчужрам и могущественное племя киданей, создавшее на развалинах царства Бохай гигантскую степную империю Ляо, протянувшуюся от Японского моря до Восточного Туркестана и просуществовавшую с 907 по 1125 года. Эти факты важны, т. к. показывают, что на самом крайнем востоке Великой Степи Евразии также существовал мощный этнический очаг политической и военной воли, и древние манчжуро-тунгусские племена выступали в истории в той же роли, что и иные кочевые общества Евразии и, в первую очередь, рассматривавшиеся нами индоевропейцы.
С точки зрения Гумилева, большое влияние на народы степной зоны Дальнего Востока, а также Тибета, Синцзяня и Монголии оказала индоевропейская религия митраизма, занесенная из Ирана680. Позднее среди этих народов активно распространялось христианство в форме несторианской ереси.
В последние столетия тунгусо-манчжурские этносы (сегодня к ним относятся сойоты, эвенки, эвены, нанайцы, ульчи, удегейцы, тазы, орочи, негидальцы, уйальта) вступили в фазу гомеостаза и пребывают в состоянии чистых этносов. В таком качестве на процессы лаогенеза северо-восточной Евразии никакого влияния они не оказывают, а лишь отходят под влиянием более агрессивных этносов и обществ в труднодоступные места Восточной Сибири и тундры. Но тысячу лет назад представители этой же этнолингвистической семьи строили мощные стратифицированные царства, подавляли другие этносы, совершали агрессивные набеги на близлежащие общества, исповедывали сложные теологические системы митраистского, буддистского толка, а также христианство, и пребывали в дифференцированном состоянии народа (лаос). Сегодня это малые группы, которые представляют собой образец простейших обществ с образцовой ярко выраженной структурой этноцентрума, с институтом шаманизма, минимальной социальной дифференциацией. Одним словом, некогда они были мощнейшими историческими народами, но в последние столетия живут в состоянии этносов.
Именно на основании изучения эвенков (ранее их называли тунгусами) С.М. Широкогоров построил свое учение об этносе и заложил основы этносоциологии. Тем самым тунгусо-манчжурские этносы дают нам образцовый пример реверсивности этносоциологического процесса: мы видим в истории, что не только из простых обществ происходят сложные народы, но и из народов и дифференцированных государств могут получиться архаические этносы. Архаизм общества напрямую не связан с единой шкалой общего для всех исторического времени. Время как социологическая и даже этносоциологическая категория может быть сконфигурировано по-разному. Так, для тунгусо-манчжуров «будущее» (современность, народ, государственность) находится в «прошлом».
Тунгусо-манчужуры важны для нас тем, что в свое время активно влияли на баланс сил в Великой Степи, пространство и этнические события которой являются важнейшим фактором в становлении русского народа. С другой стороны, в настоящее время и практически на всем протяжении истории российской государственности их влияние было слабым в силу их незначительности, удаленности от основной территории лаогенеза русского народа и давнего перехода к гомеостатическому состоянию.
Древние тюрки и Тюркский каганат
Что касается тюркских народов и этносов, то их влияния, в отличие от тунгусо-манчужров, было весьма значительным на всем протяжении русского лаогенеза, и тюркский фактор до сих пор остается весьма значительным.
Тюрки как языковая группа появились в начале I тысячелетия н. э. на Алтае и на территории Джунгарии и активно включились в жизнь кочевых степных народов. Одна из легенд возводит происхождение тюрок к гуннам. Тотемными предками древние тюрки считали (как и римляне) волчицу, поэтому родовую аристократию они возводили к роду Ашина, тотемом которого была голова волка. Исследованием истории древних тюрок живо интересовался Лев Гумилев, оставивший документированный труд на эту тему681.
В VI в. тюрки стали лидерами евразийских степей и основали гигантскую кочевую империю, называемую «Тюрским каганатом» или «Голубой ордой». Территория этого государства, разделенного на две половины — восточную и западную, простиралась от Приморья до Северного Причерноморья и Крыма и практически захватывала все пространство Великой Степи. В той или иной форме это государство просуществовало до VIII в. и в огромной мере повлияло на этническую карту Евразии.
Древние тюрки были кочевниками-скотоводами, чрезвычайно воинственными и наделенными ярко выраженными маскулинными, жестко патриархальными и героическими чертами. В этом смысле тюрки в полной мере повторяли этносоциологическую структуру индоевропейских обществ туранского типа (скифы, сарматы, аланы и т. д.), и практически с самого момента своего появления на исторической арене выступали не как этнос или группа этносов, но как народ. С этим связаны повышенная интеграционная способность тюрок (сохранившаяся на всех этапах их истории), склонность к созданию политических систем с высокой степенью дифференциации и агрессивный характер их культуры. В западных областях «Тюркского каганата» тюрки массово интегрировали в свой народ индоевропейских кочевников и оседлых земледельцев Средней Азии; на Востоке столь же тесным был контакт и столь же интенсивной интеграция и ассимиляция тюрками близких к ним по языковой семье монголов.
Можно лишь предполагать, что появлению древних тюрок как народа (лаос) предшествовали века их существования в форме этноса. Это вопрос гипотетический. В истории же, напротив, мы сразу видим тюрок как народ, которым он остается до сегодняшнего дня (Турецкая Республика и другие тюркские государства), либо как этносы, пребывающие в гомеостазе, но сложившиеся как продукты распада древней социальной общности.
В целом, тюрки представляют собой именно тот тип кочевников, который идеально соответствует функции создания государственности, интеграции кочевых пространств Великой Степи и покорению оседлых народов. С точки зрения Льва Гумилева, на структуру тюркской религиозности и мифологии оказали большое влияние иранские сюжеты, и в противостоянии Тэнгри, бога светлого Неба, и Эрликхана, хозяина подземного мира, можно увидеть следы типичного иранского дуализма.
Древняя степная империя тюрок состояла из двух относительно автономных частей, которые распались на самостоятельные государства и способствовали мощным процессам этнического и языкового смешения в обеих областях бывшей Тюркской империи.
Гунны и их связь с древними тюрками
Следует обратить внимание еще на один степной кочевой народ, который предшествовал Тюркскому каганату и объединял евразийскую Степь непосредственно перед приходом тюрок682. Речь идет о гуннах, чья лингвистическая принадлежность и этнические связи до сих пор остаются предметами оживленных споров. По одной из версий, именно гунны были предками древних тюрок, передавшими тем имперостроительную инициативу. Гунны, создавшие свое царство в II–IV вв. н. э., как и позднее тюрки, состояли из нескольких этнических групп, включавших в себя, вероятно, прототюрок, а также кочевников-индоевропейцев (алан, сарматов, скифов), германцев (герулов, гепидов и т. д.), финно-угров, и предков восточных славян. По своей структуре гунны полностью соответствовали имперскому кочевому воинственному народу.
Их преданность кочевому образу жизни и выносливость настолько впечатляла некоторых римских историков (например, Аммиана Марцелина), что они приписывали им табуирование ночевки в постоянном помещении (хижине, избе) — настолько передвижение и кочевье было для них излюбленной социальной стихией.
Гунны отличались выносливостью и воинственностью в такой степени, что в эпоху гуннского вождя Атиллы, который правил в 434–453 гг., что они чуть было ни завоевали всю Западную Европу. Лишь после поражения от римлян и их союзников вестготов на Каталаунских полях в 451 году их наступление на Галлию было остановлено.
Именно с нашествия готов на царство Германариха началось великое переселение народов, приведшее в движение всю этническую карту Европы того времени.
Гунны были именно народом (лаосом) с четко выраженными социологическими признаками и создателями мощного политического образования, в очередной раз объединившего степную зону Евразии и прилегающие к ней с юга и севера пространства, населенные оседлыми земледельцами, а в лесах — охотниками и собирателями. Были ли древние тюрки прямыми потоками гуннов или нет, сегодня выяснить однозначно невозможно, тем более что, без сомнений, гунны были полиэтническим образованием. Но с точки зрения модели общества они с полным основанием могут считаться прямыми предшественниками Тюркского каганата, повторявшего в значительной степени структуру и географию гуннской империи, с той лишь разницей, что тюрки не пошли к западу от Дуная и остановились в Крыму и северном Причерноморье.
Тюркские народы и этносы востока Евразии
Итак, тюрки были последним по счету народом, который объединял степи и создавал в Евразии кочевые империи в самый ранний период появления восточных славян на исторической арене. Преимущественно с тюрками русским впоследствии и приходилось иметь дело в качестве «народов Степи».
Если не считать гуннов, чья принадлежность к тюркам является чисто гипотетической (хотя с этносоциологической точки зрения весьма вероятной — общность социокультурного и политического типа организации), то древнейшим тюркским народом можно считать тюркютов, создателей Тюркского каганата. Из останков этого каганата формировались более поздние тюркоговорящие народы и этносы, многие из которых создали свои государства. Из них можно выделить самые крупные группы, имевшие самое прямое отношение к политической истории многих государств Евразии.
Самыми восточными группами был енисейские кыргызы и уйгуры, предки, соответственно, современных киргизов и уйгур. Уйгуры создавали собственное государство в Восточном Туркестане и до сих пор компактно проживают в Синцзянь-уйгурском автономном округе. Ранее эти территории были населены индоевропейскими народами тохаров, которые подверглись массивной тюркизации. Кыргызы были другим тюркоязычным народом, жившим на Востоке. В IX в. они освободились из-под контроля монгольского племени жужаней (жуань-жуань), и создали свой Кыргызский каганат. Потомками древних уйгуров являются современные уйгуры, ставшие этносом, а древних кыргызов — также этносы — алтайцев, хакасов, тувинцев, шорцы, телеуты, тубалары, чулымцы и т. д.
К северу от степных районов Сибири с VIII в. расселились представители другого тюркского этноса — якуты, на которых существенное влияние оказали монголы, а также тунгусо-манжчурские и палеоазиатские этносы, обитавшие на этой же территории.
Хакасы, якуты и родственные им по языку тюркские этносы занимают самую восточную часть степных территорий, ближе всего прилежащих к региону Алтая, где и произошло становление и возникновение древних тюрок.
Хазарский каганат и его наследники
Западная часть Тюркского каганата дала такие мощные тюркские народы, как хазары, печенеги, половцы (кыпчаки), булгары и огузы683.
Хазары создали на территории западного тюркского каганата мощную централизованную империю, контролировавшую обширные земли от Каспия до Крыма, и документально зафиксировано, что многие славянские племена платили хазарам дань, т. е. являлись частью их государственности по классической схеме: агрессивные воинственные кочевники подчиняют себе мирных земледельцев.
Хазары пришли в прикаспийскую зону, где ранее обитало развитое индоевропейское население, создав, в свою очередь, смешанный этнически тюркоязычный народ. Небольшое количество евреев, пришедших из Ирана после восстания Маздака, смогло обратить хазарскую знать в иудаизм, создав тем самым уникальный прецедент прозелитической культуры и государственности на основании иудаизма, хотя эта религия является чрезвычайно закрытой и допускает обращение в нее неевреев лишь в исключительных случаях. Именно с хазарами придется столкнуться первым русским князьям, созидавшим Киевскую государственность.
Хазария представляла собой типичное кочевое государство, жившее военными набегами, нападениями на торговые караваны и сборами дани с подчиненных оседлых этносов и других, более слабых, скотоводческих этносов Степи. Хазары были именно народом, и принятие иудаизма как высокодифференцированной религии с развитой теологической традицией было выражением того, что хазарская знать сознательно стремилась укрепить идентичность хазарской государственности обращением к монотеистической религии перед лицом православной Византии и активно расширяющегося ислама.
После разгрома хазарского каганата его территории заняли в Степи другие тюркские народы — печенеги, а позднее половцы, принадлежащие к точно такому же этносоциологическому типу воинственных скотоводов-кочевников, но с менее консолидированной и изощренной культурой. Соперничество и вражда с ними древней Руси стала повторением на новом историческом витке русско-хазарского противостояния. Однако ни одному из этих народов не удалось установить над славянами такого контроля, который навязали хазары в докиевский период.
Половцы (кыпчаки) позднее положили начало формированию крымско-татарского народа, куда вошли представители многих этнических групп, проживавших на территории Крыма. Этнос караимов, «крымских евреев», отвергающих в отличие от большинства традиционных иудеев «Талмуд», скорее всего, является остатком «отюреченных» хазар.
Огузы и их потомки
Другим полюсом тюркского мира стала зона расселения тюрок-огузов в районе современной Туркмении на юге Средней Азии. Эти кочевые племена были объединены в политический союз, который дал мощные волны тюрок-завоевателей, двигавшихся преимущественно на Южный Кавказ, в Иран, Анатолию и Сирию. Огузы были предками турок-сельджуков, которые захватили Иран, Анатолию, Ирак, Сирию в начале XI в. и начали многовековую войну с Византией.
Более поздней волной ветви все тех же огузов стали турки-османы, которые сокрушили Византию, взяли Константинополь и основали в XV в. Османскую империю. Остатком Османской империи является современная Турция, основная часть которой располагается в Анатолии, подвергшейся тюркскому влиянию ранее и глубже других частей Османской империи. Благодаря компактно проживающему турецкому населению младотюрки смогли создать на этой основе национальное государство, тогда как остальная империя рухнула, а правящая турецкая элита утратила контроль над своей гигантской территорией.
Огузы приняли ислам суннитской ветви, и эта религия сплачивала их народ в эпоху колоссальных по масштабу завоеваний.
Структура государств, создаваемых потомками огузов на гигантском пространстве от Центральной Азии до Персидского залива и восточного Средиземноморья, воспроизводила общую для всех степных обществ модель. Воинственные кочевники захватывали территории, населенные оседлыми обществами (большинство которых были организованы в политические государства) и становились правящей кастой, собирающей дань с местного населения. История завоеваний тюрок-огузов и их прямых потомков наглядно иллюстрирует собой теорию «суперпозиции» этносов, лежащую в основе государств, а также социологические наблюдения Ибн Халдуна относительно преимуществ активных и компактных объединенных органическими узами воинственных групп над расслабленной и изнеженной эгоистической оседлой культурой.
К огузам возводят свое происхождение и современные молдавские гагаузы.
Азербайджан и азербайджанцы
Тюрки-сельджуки оказали решающие влияние и на формирование азербайджанцев как народа. На территории современного Азербайджана — Северного (Республика Азербайджан) и Южного, находящегося на территории Ирана (столица Тебриз), — некогда проживало множество этносов в основном индоевропейской семьи, а также автохтонов Кавказской Албании (нахско-дагестанцы). Большое влияние на этническую структуру оказывали и волны кочевых племен — скифов, сарматов, аланов и т. д. В XI–XIII вв. территория Азербайджана подвергалась массированному вторжению сельджуков, которые в значительной степени тюркизировали местное полиэтническое население. Так индоевропейские этносы этой области были объединены под тюркской властью, переняли тюркский язык и стали называться «азербайджанцами». Остатки древнего населения сохранились в виде небольших этнических групп — таких, как талыши или таты, говорящие на языках, близких к иранским. Сохранились в Азербайджане и этнические меньшинства нахско-дагестанской семьи — например, лезгины.
Азербайджанцы по структуре общества близки к другим тюркским народам, имеют четко выраженную социальную стратификацию (аристократию). Вместе с тем большинство азербайджанцев занимается сельским трудом и скотоводством, подобно автохтонному населению Кавказской Алании. Азербайджанцы являются тюркским народом, по социальной системе близким как к османскому обществу (общий язык и культура), так и к иранцам (определенные элементы быта, обрядов, стиля). Так, азербайджанцы в подавляющем большинстве исповедуют ислам шиитского толка, как иранцы, в отличие от других тюрок (кроме русифицированных православных или архаических, шаманистских), которые преимущественно сунниты.
Самостоятельную государственность в Азербайджане (Ширване) создали арабские завоеватели, отложившиеся от халифата и иранизировавшиеся. В 861 г. ими было создано независимое государство c центром в Шемахе. В VII—X вв. территория Азербайджана подвергается неоднократным нашествиям хазар. При великом князе Святославе Игоревиче и позднее сюда вторгались и славянские дружины. В XII в. столица Ширвана переносится в Баку, и государство существует вплоть до XVI в., после чего захватывается сефевидами, государством, основанном на альянсе тюркских племен, сохранных под руководством отюреченного перса и главы суфийского ордена Исмаила I Сефеви. Позже Азербайджан превращается в провинцию Ирана.
В XVI–XVIII вв. продолжается череда войн между Османской империей и Сефевидами за господство в Закавказье и сопредельных землях, за преобладание шиитской или суннитской идеологии в исламе.
В XVIII в. борьба за Азербайджан развертывается между Ираном, Османской империей и Россией и идет с переменным успехом. Русские то занимают Баку, то отдают его Ирану (Гянджинский договор). В 1803–1805 гг. к России мирным путем присоединены Карабахское и Шекинское ханства, а немного позже в ходе русско-иранской войны 1804–1813 гг. Россия захватывает сначала Кубинское и Бакинское ханства (1806), а затем — Талышское (1809). Гюлистанский мирный договор, заключенный в 1813 г. между Россией и Персией, юридически закрепляет это положение.
Важно заметить, что азербайджанцы намного мягче принимают власть Российской Империи, чем более архаические северокавказские этносы: высокодифференцированное и стратифицированное азербайджанское общество легко находит себе место в структуре России, т. к. по уровню культуры и этносоциологической идентичности находится к нему гораздо ближе своих соседей. Азербайджанцы легко интегрируются в Россию и сохраняются в ее составе вплоть до 1991 г. Когда на Северном Кавказе вовсю идет яростная кавказская война русских с горцами, Азербайджан демонстрирует собой образец лояльности и спокойствия.
В настоящее время азербайджанцы представляют сразу несколько этносоциологических явлений — этнос (в России, где их проживает несколько миллионов, и в Иране, где живет большинство этнических азербайджанцев), нацию (в Республике Азербайджан) и народ (как историческую общность, включающую в себя и тех и других).
Великая Булгария и ее отголоски
В VII в. на основании тюркского племени кутригуров (кутургуров), но также с участием славян и финно-угров, возникло самостоятельное государственное образование степного типа — Великая Булгария со столицей в Фанагории (на берегу Керченского залива) 684. Она просуществовала сравнительно недолго и была разрушена и аннексирована хазарами. Постоянно враждующие с Аварским каганатом и с Хазарией несколько булгарских племен были вынуждены двигаться к западу и к северо-востоку.
Ушедший на запад, на Балканский полуостров, хан Аспарух сумел завоевать местное население, состоявшее к тому времени преимущественно из славян, и создал там государство с аналогичным именем — Болгарское царство. По классической модели оно состояло из тюркской воинской знати и основного сельского населения, которое было славянизировано. В случае балканской Болгарии тюркская верхушка довольно быстро славянизировалась, и Болгария стала первым самостоятельным собственно славянским государством.
Другая ветвь под началом хана Котрага двинулась на север. В междуречье Волги и Камы в VII–VIII вв. на основе сочетания местного населения (скорее всего, финно-угорского) и тюркской воинско-скотоводческой верхушки сформировался народ (лаос), создавший государство, которое принято называть Волжской Булгарией. Как и любой народ, булгары были полиэтническим образованием. Есть информация, что у древних булгар было развито земледелие, т. е. в лаогенезе принимали участие определенные этнические группы аграрного профиля. Кем они были, сегодня установить невозможно. Нельзя исключить, что это были элементы древнего оседлого населения, жившего в Прикаспийском районе еще до прихода туда тюрок, которые были захвачены с собой воинами Котрага. Есть вероятность, что среди них могли быть и восточные славяне, которые несколько позже обнаружатся в Тьмутараканском княжестве, находящемся строго на месте Фанагории. Потомками этих волжских булгар являются современные волжские татары и чуваши. Волжская Булгария входила в состав Хазарского каганата, позже с переменным успехом враждовала с Киевскими князьями.
Потомками тюрок Восточной Болгарии, вероятно, являются и современные северокавказские тюркоязычные этносы — балкарцы и карачаевцы. Другие северокавказские тюрки — ногайцы и кумыки, скорее всего, потомки кыпчаков-половцев, наряду с современными казахами и осевшими южнее их узбеками.
Восточные славяне и тюрки
Предки восточных славян имели дело с тюркоязычными народами и этносами с самых первых моментов русской истории. Важнейшим фактом является то, что создание независимого русского славянского государства проходило через освобождение от хазарского контроля. Существуют даже версии, что Киев был создан хазарами как центр сбора дани с местного населения. По другой версии, его основали аланы, точнее, ветвь аланов — роксоланы (с той же целью). По третьей версии, это был исконно славянский город, что наименее вероятно, т. к. с этносоциологической точки зрения сельские труженики не могут заложить город в силу его функциональной ненужности для их уклада и образа жизни.
Таким образом, древние славяне до построения государства соучаствовали в жизни хазар и с необходимостью обменивались культурными, экономическими и социальными элементами и, возможно, в той или иной степени участвовали в их лаогенезе.
Мы видели, что были пересечения и с Великой Булгарией и Волжской Булгарией, которая примыкала к территории расселения славян на Востоке и была здесь ближайшим к Руси государственным образованием (как часть Хазарии и как самостоятельная политическая единица).
Исторические источники сообщают, что древние восточные славяне тесно взаимодействовали и с другими тюркскими этносами — с торками и берендеями, которые жали рядом со славянами и в определенные периоды создавали свои достаточно могущественные политические образования (по крайней мере, торки). Торки были союзниками русских в их борьбе с хазарами.
Печенеги, а позже половцы представляли собой постоянную угрозу безопасности Древней Руси с юга, откуда постоянно осуществлялись набеги кочевников. Бесконечные войны с ними, а также династические браки с представителями тюркской знати составляют постоянный мотив русской истории вплоть до начала XVIII в., когда на первый план выходит конкуренция с тюрками Османской империи.
Важнейшим моментом в истории отношений славян и тюрок является взятие в XVI в. Казанского и Астраханского ханств, а также более мягкое присоединение Сибирского ханства. С этого периода началась массовая русификация татар, которая в значительной степени повлияла на социокультурный облик русских — в первую очередь, великороссов.
Тюрки были участниками лаогенеза русских на всем протяжении известной нам истории. Соперничество сменялось военными союзами, и часто славяне и тюрки создавали смешанные коалиции, в каждой из которой принимали участия представители и того и иного народа (или этноса).
Монголы: империи и этносы
Еще одной ветвью алтайской языковой семьи, оказавшей существенное влияние на историю русского народа, были монгольские народы и этносы.
Монгольский народ жужаней (жуань-жуань) мы встречаем сразу вслед за гуннами и до появления Тюркского каганата в промежутке IV–VI вв.685. В этот период был создан Жужанский каганат, занимавший огромную территорию от Приморья до Аральского моря. По одной из версий, часть жужаней, двинувшихся на запад, образовали позднее Аварский каганат (исчезнувший народ авары известны в древнерусских хрониках как «обры»). Очевидно, что монгольской была знать жужаней, а основной состав их огромной империи был этнически разнообразен. Потерпев в 555 г. сокрушительное поражение от тюрок, Жужанский каганат рухнул, при этом тюрки поголовно истребили всех мужчин, взяв себе женщин и детей.
Следующий виток монгольской истории происходит спустя несколько столетий после конца царства жужаней в XII в., когда ряд монголоязычных кочевых этносов образуют улус (особую политическую организацию, значение которой переводится на русский язык как «страна» или «государство») Хамаг Монгол под руководством Хабул-хана. Она объединяет несколько монгольских этносов (27 племен), среди которых руководящее положение занимают род хияд-борджегин. В XIII в. из рода хияд-борджегин, к тому времени существенно ослабевшего, появляется великая историческая личность — царевич Темучжин, который позже будет провозглашен Чингисханом, т. е. «великим правителем».
Второй раз после жужанского каганата монголы заходят на исторический виток создания народа. На этот раз Чингисхан строит такую огромную империю, равной которой не было в истории.
В основе империи Чингисхана стоят воинские кочевые ценности, которые он обобщил в своих высказываниях — «Ясе Чингисхана». Дошедшие до нас фрагменты этого текста описывают основные принципы создания государства с опорой на воинственное ядро (сами монголы), организованное как армия, утверждающееся на основании чисто героических ценностей — верность, мужество, послушание, активность, презрение к смерти, честь, жестокость, служение начальнику, товарищество. «Яса» отражает типичную структуру построения государства с опорой на героический тип личности. В отношении оседлых и менее воинственных народов Чингисхан призывает поступать чрезвычайно жестко: либо они подчиняются воле монголов, либо уничтожаются. Щадить предлагается только служителей культа, женщин и детей.
Именно эти принципы монголы положили в основании своей политики и в кратчайшие сроки построили государство, куда входили завоеванный ими Китай, Манчжурия, вся евразийская степь, Средняя Азия, Иран и Русь. Никогда ни до, ни после Чингисхана никому не удавалось объединить эти территории в единое политическое пространство. На русских монгольское завоевание повлияло самым непосредственным образом, т. к. на двести лет русские оказались в положении завоеванных монголами провинций и частью «Золотой Орды», возникшей после раздела империи Чингисхана между его потомками.
Подробнее мы рассмотрим этот период позднее, здесь же следует обратить внимание на то, что монголы не только при Чингисхане, но и за много столетий до него предпринимали (успешные) попытки построить самостоятельную кочевую империю с опорой на монголоязычную знать, демонстрируя устойчивую тенденцию к созданию на основе этнических групп цельного лаоса с государственностью и культурой.
В то же время в течение длительных периодов монгольские этносы существовали в качестве простейших сообществ, койнем, не подавая признаков лаогенеза. Так, современные буряты и калмыки в России, монголы в Китае, являющиеся потомками древних монголов, ведут чисто этнический образ жизни, тогда как монголы в Республике Монголия представляют собой искусственно образованную квази-нацию, отличающуюся архаическими, чисто этническими чертами.
При этом воспоминания об историческом бытии народа (лаоса) сохранилось у современных народов этой группы в виде эпоса. В этом смысле большой интерес представляет героический эпос калмыков «Джангар», в котором живет историческая память гомеостатического этноса о совершенно иных этносоциологических условиях, в которых находились их предки. Л. Гумилев называл такое состояние «мемориальной стадией»686, когда исторические (то есть связанные с народом/лаосом) деяния живут лишь в священных рассказах, повествующих о стиле жизни, не имеющем никакого отношения к настоящему. У бурятов такую же роль играет общий с тибетцами эпос о герое Гэсэре.
§ 3. Этносы и народы Кавказа
Различия в степени влияния на древних славян представителей разных языковых групп
Рассмотрим кратко языковые группы Кавказа и влияние их представителей на лаогенез русского народа. Это влияние было несопоставимо меньшим, чем в случае индоевропейцев, финно-угров и алтайцев. Тем не менее соприкосновение с этносами и народами Кавказа оставило в истории русских значительный след.
Если рассмотренные нами ранее типы народов и построенные ими государства в разной степени прямо влияли на древних славян и играли в их истории решающую роль (завоевывая и подчиняя славян, враждуя с ними или вступая в стратегические альянсы), то влияния этносов Кавказа были менее значимыми. По крайней мере, народы и этносы Кавказа никогда не выступали для славян как серьезная угроза или конкурирующая этносоциологическая система.
Cеверо-кавказская языковая семья: абхазо-адыгская ветвь
К северо-кавказской семье относят три ветви, состоящие из целого ряда этносов. Это абхазо-адыгская ветвь, нахско-дагестанская и вайнахская.
Ближе всего к этносоциологической структуре народа (лаоса) подошли представители абхазо-адыгской языковой группы, к которой относятся такие современные этносы, как черкесы, кабардинцы, абхазы, адыги, абазины, шапсуги, убыхи. Самоназвание большинства этих этносов звучит как «адыгэ», за пределами России они известны обобщенно как «черкесы». В Древней Руси представители этих этносов называли косогами. В греческих древних хрониках они именовались как «меоты», «зихи», «керкеты».
Представители этих этносов живут, по меньшей мере, последние пятьсот лет преимущественно в горной местности на Северном Кавказе и частично на Южном (абхазы). Их социологической особенностью является предание о некогда кочевом существовании их предков, откуда происходит особая воинственность, священное отношение к оружию, воспитываемая с детства храбрость. Родство у многих этносов является матрилинейным, отмечается также повышенное уважение к женщине и выделение фигуры дяди по материнской линии.
Предпочтительная хозяйственная деятельность этих этносов — земледелие и разведение мелкого скота. Общество имеет определенную социальную стратификацию (наличествуют рода потомственной аристократии). В настоящее время большинство этих этносов пребывают в гомеостатическом состоянии, но их социальная организация хранит отчетливые следы принадлежности к структуре народа как исторического организма.
Судя по устойчивому распространению среди этносов Нартского эпоса, вероятно, они вместе с предками современных осетин принадлежали к кочевой героической культуре.
С VI по XIII вв. на Северном Кавказе существовало мощное Аланское царство как независимая политическая единица, заключавшая политические альянсы с Византией и Ираном и распространившая свое влияние на Северный Кавказ687. Это было воинственное государство героического типа, организованное по классическому принципу кочевых индоевропейских этносов (туранцев). Кроме воинской знати в его состав входили многие земледельческие общества, в Нартском эпосе совокупно называемые «боратами».
Сам Нартский эпос, в ядре своем формировавшийся в древнейшие эпохи скифо-сарматских обществ, мог уже во времена Аланского царства играть роль экзистенциальной, социальной и политической инструкции, образца общественного устройства и этических правил. После разгрома Аланского царства монголами эпос существовал как явление «мемориальной стадии».
Судя по всему, этносы абхазо-адыгской группы на определенном этапе, возможно, очень древнем, примкнули к структуре воинственного индоевропейского народа, интегрировались в него и восприняли определенные существенные культурные, социологические, хозяйственные и политические черты.
Очевидно, что они были и интегральной частью Аланского царства.
В VIII в. у адыгского народа существовало самостоятельное государство Абхазское царство, управляемое выходцами из абхазского княжества Абазгия. В 778 г. Абхазское царство присоединило к себе Лазику, территорию Западной Грузии и создало мощное и самостоятельное политическое образование с православием как господствующей религией. В таком качестве оно просуществовало до 1008 г., после чего правящим этносом становятся картвелы (с этого момента власть переходит к потомкам Багратиона).
С косожским князем Редедей сталкивается русский князь Мстислав в 1020-е гг., и победа над косогами приводит к объединению их с древними русичами. Позднее они неоднократно появляются в русской истории как воины и особые части русского войска. Черкесские князья появляются и в Польше, где они также составляют особое отделение польского войска.
Позже, в XV в. легендарный адыг Инал, приехавший на Северный Кавказ из Египта, объединил черкесов в единое государство. Часть этого государства стало известно как Кабарда. Социально-политическая структура Кабарды представляла собой аристократическую систему правления, отдаленно напоминающую европейские феодальные княжества с большим объемом полномочий мелких князей.
В XVI в. кабардинские (жанейские) князья присылают к Ивану IV гонцов с просьбой о вступлении в состав Московского княжества. Таким образом, Кабарда становится первым политическим образованием Северного Кавказа добровольно присоединившимся к Руси. Спустя некоторое время сын кабардинского князя Темрюка Михаил Темрюкович Черкасский становится боярином и принимает живейшее участие в политических и военных делах Московской Руси.
Судя по ряду признаков, адыги оказали существенное влияние и на образование русского казачества, представляющего собой совершенно особое социальное явление русско-православного общества, организованного по воинственно-кочевому принципу. Казаки представляют собой русский аналог степняков, включая многие типичные воинско-героические установки, правила и формы жизни.
Таким образом, представители абхазо-адыгской языковой группы внесли свой вклад в русскую историю. При этом на всех ее этапах они проявляли изрядную долю независимости и гордости. В более поздние времена (XVIII и XIX в.), когда российские власти оказывали на кабардинцев давление, черкесские князья неоднократно переходили к ответным военным действиям, длившимся по несколько десятилетий, стремясь отстоять свои автономные права на самоуправление.
Таким образом, при общей лояльности русскому государству абхазо-адыги неоднократно восставали против русских и с оружием в руках десятилетиями вели неравную, но ожесточенную борьбу за свои права.
Вайнахи
Не менее свободолюбивым поведением отличались и другие горские народы, представляющие другую ветвь северо-кавказских языков — вайнахи, к котором относятся ингуши, бацбийцы и чеченцы, в свою очередь, подразделяющиеся на множество племен («туккум», по-чеченски).
У вайнахов также наличествует Нартской эпос, хотя и в значительно измененной, отредактированной форме (индоевропейский след). Это может служить указанием на их древнейшие связи с аланскими политическими системами и собственно Аланским царством.
В отличие от черкесов вайнахи в историческом прошлом не выступали как самостоятельное ядро народа (лаос), но при этом сохраняли древнейшие этнические самобытные черты.
Вайнахи (ингуши и чеченцы) выступают как гомеостатические этносы, которые отличаются многими типично кавказскими чертами — мужественностью и воинственностью. Такое состояние этносов можно признать этнокинетическим: в них присутствуют ярко выраженное героическое начало, есть элементы социальной стратификации, сочетание земледельческого труда и мелкого скотоводства, но в целом сохраняется равенство, демократический баланс между родами и племенами при принятии решений, превалирующее влияние этнических мифов или своеобразно перетолкованных религиозных сюжетов монотеистической религии (система суфийских вирдов на основе исламской традиции). Все эти факторы сдерживали переход вайнахских обществ в стадию народа и формированию аристократически-феодальных отношений, как в случае соседних с вайнахами черкесов.
Для вайнахского общества характерна модель «военной демократии», когда намечающийся раскол этноцентрума (начало этнокинетики) не переходит в фазу народа (лаоса), не запускает механизм лаогенеза, но остается в промежуточном состоянии сохраняющегося гомеостаза. При этом суфийские шейхи начинают выполнять в таком обществе функции шаманов более архаических этносов.
С вайнахами славяне столкнулись довольно поздно, хотя топонимика многих мест в Чечне позволяет предположить, что древнерусские поселения существовали в этой зоне с древнейших времен. Например, крупный центр Чечни Ведено явно назван так по названию русского православного праздника «Введение Богородицы во храм». Тем не менее, исторические контакты в полной мере произошли лишь в период присоединения Северного Кавказа к Российской Империи. В этот период вайнахи ничем особенно не выделялись среди остальных горцев — черкесов и дагестанцев, стремясь любыми силами отстоять свою автономию и сохранить этнический строй своих обществ. В желании оставаться этносами, живущими по своим правилам и в согласии со своими законами и устоями, вайнахи демонстрировали удивительное упорство и доставили царскому правительство множество проблем. В данном случае сказалось различие этносоциологических типов. Полицентричное общество военной демократии, сохраняющее признаки этноцентрума, категорически отказывалось интегрироваться в намного более дифференцированное общество Российской Империи, построенное на совершенно иных принципах.
Нахско-дагестанская ветвь: Кавказская Албания
К нахско-дагестанской ветви северокавказских народов относятся: аварцы, даргинцы, лакцы, лезгины, табасаранцы, рутульцы, агуды, цахуры, удины и их племенные более мелкие группы.
Общей чертой этносов нахско-дагестанской группы является отсутствие у них Нартского эпоса, что позволяет предположить их относительную независимость от аланского влияния в древности. Вместе с тем в культуре этносов этой группы явно прослеживаются отчетливые иранские влияния. У некоторых из них есть свои версии героического эпоса — например, у лезгин эпос «Шарвили». В целом, сегодня эти этносы пребывают в гомеостазе, а их социальная структура варьируется от аристократической (как у адыгов) до военной демократии (как у вайнахов) с множеством нюансированных и промежуточных форм.
Территория Дагестана являлась в период с IV в. до н. э. по IV в. н. э. центром особого государства — Кавказской Албании, к которой относились территории Азербайджана и нагорного Карабаха. Это государство вступало в сражения с римлянами в составе армии понтийского царя Митридата. Позже территория Дагестана была превращена в укрепленный рубеж правителями Сасанидского Ирана.
В V—VI вв. на территории Дагестана формируются небольшие государства: Лакэ, Табасаран, Зерихгеран, Кайтаг, Гумик, Серир, Дербент, Маскут, ядерные этносы которых сохранились частично до настоящего времени.
Этносы Дагестана активно сопротивлялись попыткам соседних держав установить над ними политический контроль. Если хазарам, монголам и Тамерлану удалось завоевать Дагестан и покорить его этносы, то с османской Турцией и с иранцами они сражались упорно (в 1582 г. объединенные силы лакцев, аварцев и даргинцев нанесли турецким янычарам крупное поражение), а после прихода русских войск периодически поднимали восстания. В XIX в. главной действующей силой антирусских восстаний выступали главы местных суфийских общин — шейхи. Наиболее известным из этих восстаний был организованный аварцем Шамилем имамат. Наряду с дагестанским этносом в нем принимали участия и вайнахи (чеченцы).
Стремление к независимости и приверженность к традиционным этнокультурным и религиозным ценностям народов Дагестана, равно как и всех народов Северного Кавказа, связаны с их воинственным характером и, соответственно, тем этносоциологическим качеством, которое мы встретили у вайнахов: эти этносы пребывают в этнокинетическом состоянии и при определенных обстоятельствах готовы активно включиться в исторические процессы. Но мозаичность этнических культур и сохранение структур военной демократии с очень сильными и равноправными обществами препятствуют построению жесткой социальной стратификации среди самих этих этносов. Ни один из них не является настолько отстраненным и «превосходящим» другие, чтобы преобразить это этническое разнообразие в единый народ. Поэтому рано или поздно Северный Кавказ оказывается под контролем внешней силы, при которой устанавливается более дифференцированная и стратифицированная социально-политическая модель.
С другой стороны, отмеченные особенности северокавказских этносов показывают, что полная интеграция в ту или иную социополитическую структуру государственности (в том числе и современную российскую) с необходимостью будет наталкиваться на сопротивление самих этноцентрумов. Поэтому максимум, чего можно достичь в вопросе их интеграции, это установление стратегического контроля с предоставлением широких прав и региональных гарантий в рамках автономной социальной, культурной и хозяйственной политики
Нахско-дагестанские этносы
Самым крупным среди этой языковой группы является этнос аварцев. Самоназвание этноса — «маарулал». Это оседлый земледельческий и скотоводческий этнос. В качестве религии распространен ислам. Большое влияние имеют суфийские общины и северокавказские нормы «обычного права», известные как «адат».
Второй по численности этнос — даргинцы. По своим социологическим и хозяйственным особенностям они близки к аварцам. Среди даргинцев и аварцев основой общества являются сельские общины с довольно слабым уровнем социальной дифференциации. Также распространен суннитский ислам с многочисленными вкраплениями местных этнических традиций и широким распространением суфийских братств. У обоих этносов распространены мужские союзы воинского типа.
Сходным по социологическим особенностям с аварцами и даргинцами является этнос лакцев, также основанный на сельских общинах, занятых земледелием и разведением скота. Так же, как и у предыдущих групп, общество лакцев слабо стратифицировано, основано на принципе племенной демократии (тухумы). Лакцы — мусульмане-шииты шафиитского мазхаба. Религиозные взгляды лакцев имеют множество явных доисламских черт — обряды вызывания дождя, культ огня и т. д.
Отдельными этносами, принадлежащими к сходной этносоциологической структуре, являются малые этносы современного Дагестана — табасараны, рутульцы, агулы, цахуры и удины. Все они чрезвычайно архаичны. Удины же представляют собой потомков древнего аграрного племени утиев, упоминания о котором встречаются в хрониках древнейшего государства Урарту.
Особый случай составляет этнос лезгин, восходящий корнями к древнейшей группы легов, известных еще с IV в. до нашей эры, когда они активно сопротивлялись римлянам, иранцам, а позже византийцам, хазарам и другим завоевателям. Вероятно, современные лезгины являются потомками народа (лаоса), вернувшимися к гомеостатическому состоянию. Свидетельством этому служат наличие у лезгин самобытного героического эпоса «Шарвили», прославляющего подвиги древних лезгин, боровшихся против пришельцев и защищавших свою землю. У лезгин в большей степени, чем у аварцев и даргинцев, развито скотоводство, что является этносоциологической чертой, указывающей на связь с древней кочевой культурой.
Славяне пришли в соприкосновение с этим этносами довольно поздно, а в состав Российской Империи Дагестан вошел только в XIX веке.
Картвелы и сваны
Совершенно отдельную группу языков представляют две лингвистические ветви, распространенные в Грузии — грузино-занская и сванская ветви. Они соответствуют автохтонным этносам Грузии. К грузино-занской ветви относятся грузины (картвелы), делящиеся на этнические группы хевсуров, пшавов, имеритенцев, гуриццев, рачинцев, лечхумцев, карлиецев, кахетинцев, месхов, джавов, имерхевцев, кларджетов, пархали и тао.
Вторая часть грузино-занской ветви представлена менгрелами и этническими группами, говорящими на разных диалектах менгрельского языка.
Отдельную ветвь представляют собой сваны, чей язык также имеет целый спектр диалектических отличий.
Термин «картвелы» объединяет все перечисленные этнические группы. Древние пракартвелы сложились в этническую единицу в древнейшие времена в лоне хеттско-хурритской культуры и переместились в область Южного Кавказа к началу первого тысячелетия до нашей эры. В VI в. до нашей эры на основании менгрельского племенного союза «кулха» сложилось менгрельское государство, известное как Колхида. Спустя два века к востоку от Колхиды (Калхети) грузинские племена, смешавшиеся с нахско-дагестанскими этносами, образовали другое государство — Картлия или Иверия. В I в. нашей эры оба государства попали под власть Рима, а в III в. снова стали независимыми, но только в других границах и с другими названиями. Южная часть Колхиды (территория современной Аджарии и Малой Азии) фигурировала как Тао-Кларджетия и Лазика (Лазети). Северная Колхида, включая Мегрелию и Абхазию, вошли в состав Абхазского царства. Восточно-грузинское государство Иберия распалось на Картлию, Кахетию, Месхетию и Джавахетию. В IV в. на востоке утвердилось христианство. В то же время Лазика попала под власть Византии, а Картлия и Кахетия вошли в состав Сасанидского Ирана. В 1064 г. турки-сельджуки захватили Картлию и Кахетию, которые восстановили независимость в 1122 г. при Давиде IV Строителе. При нем в состав Грузии были включены Алания и Армения. Грузинская царица Русудан (1222–1245) захватила Дагестан и часть Сельджукского государства. В XV в. Великая Грузия распалась: Армения, Аджария и Лазика были захвачены турками-османами. Образовались независимые княжества: Карталино-Кахетинское, Абхазия, Имеретия, Гурия, Мегрелия, Сванетия. В XIX в. все эти государства стали частью Российской Империи. Позже Грузия вошла в состав СССР, а сегодня она является независимым государством.
Картвелов вполне можно рассматривать как самостоятельный народ с высокой степенью социальной стратификации, ярко выраженной аристократией, разделением труда, полиэтнической структурой. Эта полиэтничность сопряжена как с многообразием самих картвельских этносов, так и с постоянными этническими взаимодействиями с абхазско-адыгскими и нахско-дагестанскими этносами, а также с армянами, турками, персами греками и т. д. на всем протяжении грузинской истории.
Грузины, таким образом, исторически выступали и продолжают выступать как народ (лаос), обладающий всеми соответствующими этносоциологическими признаками — койне (грузинский язык), полиглоссой (диалекты обеих ветвей картвелов и менгрелов, а также сванов, к чему следует добавить языки иных языковых групп, оказавшихся в разные периоды истории под контролем грузин — абхазов, осетин, азербайджанцев, дагестанцев и т. д.), неоднократно создававшейся и воссоздававшейся после утраты государственностью, дифференцированной культурой, героическим эпосом (например, древнейшим эпосом об Амиране, герое, прикованном к скале за конфликт с небесными богами), наличием высокоразвитого сельского хозяйства, потомственной военной аристократии, городской культурой, ремесленничеством, письменностью и т. д.
Грузины вошли в состав Российской Империи в обмен на защиту их от Ирана. При том, что в настоящее время грузины имеют собственное государство, значительная часть грузин проживает на территории России и может рассматриваться как один из российских этносов.
§ 4. Палеоазиаты
Этносоциологические особенности палеоазиатских этносов
Нам осталось рассмотреть последнюю языковую группу, чьи представители живут на территории России — палеоазиатскую. В отношении этих этносов можно сказать, что они вообще не оказали никакого влияния на лаогенез русских и на судьбы русской государственности и были автоматически без большого сопротивления включены в политическое пространство России. Единственным исключением является этнос чукчей, который по контрасту с другими палеоазиатскими этносами упорно отказывался платить ясачную дань русским колонизаторам Сибири и демонстрировал в этом нежелании удивительное упорство и воинский дух.
К палеоазиатам относятся чукчи, коряки, кереки, ительмены, алеуты, эскимосы, нивхи. По культурным свойствам к ним близки архаические этносы алтайской семьи — в первую очередь юкагиры.
Все представители палеоазиатской языковой группы являются ярко выраженными этносами в чистом виде, т. е. носителями этноцентрума. Их общества представляют собой койнемы. Они являются охотниками и собирателями, имеют шаманов и предельно архаические магорелигиозные культы. В обществах практически отсутствует социальная стратификация и любые формы социального или имущественного неравенства. Преобладает ярко выраженная коллективная идентичность. Все эти народы живут в условиях далекого севера, тайги и тундры.
Единственной дополнительной (к простейшему типу общества) чертой является оленеводство, которое можно рассматривать как инновацию, принесенную бывшими кочевниками, дошедшими до северных земель (например, якутами).
Значение палеоазиатских этносов для этносоциологии
Если в процессе лаогенеза русских палеоазиатские этносы, а также архаические этносы алтайской языковой семьи не играли никакой роли, то для этносоциологии и культурной антропологии эти этносы представляют огромный интерес. То, что они сохранили архаичные формы социального уклада, помогает нам составить адекватное и достоверное представление о самом явлении этноса, который в большинстве случаев скрыт под более сложными напластованиями и производными.
Если мы хотим понять и изучить, что такое этнос, мы должны обратиться к исследованию именно таких архаических обществ, которые и есть этносы в чистом виде. Они сохранили все признаки койнемы — этноцентрум, архаическую мифологию, психо-ментальный комплекс шаманизма, глубокую связь с окружающим миром, структуры этнического мышления. В них мы можем проследить и основы этноса как статической структуры и формы этнической работы, составляющей сущность этнодинамики.
Кеты, нивхи, коряки сохранили и обряды инициации, и маски, и обрядовые танцы, и древние мифы, позволяющие понять структуру мышления самых базовых и глубинных «этажей» этноса. Культура палеоазиатских этносов представляет собой прозрачное и эксплицитное изложение социального «подсознания», с которым в более дифференцированных, сложных обществах мы сталкиваемся лишь косвенно, иносказательно, опосредованно.
При всей своей малочисленности и периферийности российские палеоазиаты составляют бесценное сокровище всего общества, т. к. несут в себе связи не просто с прошлым, давно прошедшим, но с тем, что существует во всех производных этноса и по сей день. Знакомясь с культурой палеоазиатов, мы открываем базовые уровни самих себя, от которых у нас не осталось следов даже в самых древнейших формах сказок и фольклорных мифологических мотивов.
Вместе с тем необходимо учитывать особенную хрупкость таких культур, которые без подготовки, принудительно, оказываются в среде намного более дифференцированных обществ, к которым у них нет ни малейшего иммунитета. В такой ситуации они становятся крайне уязвимыми для самых разнообразных процессов: прикосновение к современной технологической культуре, русскоязычию, социальным и правовым нормам, политическим институтам может оказаться губительным для этих койнем, столько тысячелетий упорно работающих над сохранением своей уникальной идентичности.
В этом смысле палеоазиатские этносы России должны быть объявлены высшей ценностью и поставлены в особые, чрезвычайные условия существования, которые способствовали бы их сохранению и свободному развитию — не по тому пути, который нам представляется единственным возможным, но по тому, который они сами себе выберут.
Глава 15
ЭТНОС ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. ДРЕВНЕСЛАВЯНСКАЯ КАРТИНА МИРА. СЛАВЯНСКИЙ ЭТНОЦЕНТРУМ.
§ 1. Этноцентрум восточных славян
Реконструкция этноса
Предки восточных славян представляли собой подвижных землепашцев, расселившихся вдоль рек и торговых путей Русской равнины с первых веков нашей эры. Как мы видели, с большой вероятностью можно утверждать, что они относились к периферийной зоне кочевых степных империй, куда входили на правах третьего сословия, относящегося к «господам домов» или к оседлым «домохозяевам». Мы не имеем достоверных сведений, в какой степени у древних славян наличествовала социальная стратификация — о собственно славянской знати практически не осталось упоминаний, кроме ссылок на «древлянского князя Мала», чье имя указывает на его славянское происхождение. Но достоверно судить по этому и еще ряду обрывочных сведений о существовании у восточных славян воинского сословия (аналога второй касты) невозможно. При этом нельзя сбрасывать со счетов и того факта, что с сословно-кастовым устройством общества древние славяне были, очевидно, знакомы, но в качестве воинской и княжеской знати для них выступали военные элиты более агрессивных кочевых племен — индоевропейских кочевников Евразии (скифов, сарматов, аланов), германцев, тюрок и т. д. Можно предположить, что находящаяся в тесных контактах со славянами часть этой инородческой элиты могла славянизироваться и, утратив собственные этнические черты, превратиться в княжескую касту. Именно такую картину мы имеем в балканской Болгарии, где тюркская династия и княжеская дружина довольно быстро ославянились под влиянием южных славян. Можно предположить, что нечто подобное имело место и среди славян восточных.
Структура древнеславянского общества с наибольшей степенью вероятности представляла собой земледельческую общину с минимальной социальной дифференциацией, устроенной по принципу соседской общины. Это означает, что мы имеем дело с земледельческим этносом. На этом основании можно реконструировать структуру древнеславянского этноцентрума.
Мир и его значения
Типичное племя восточных славян может быть представлено как классический этнос. Оно являло собой эндогамную общность, объединенную языком, верой в общее происхождение и специфическими обычаями и обрядами.
Этноцентрум обязательно включал в себя и общество, и природу, не делая между ними четких различий. Это наблюдается в семантике древнерусского 1) «крестьянская община», 2) «космос, окружающая среда, природа», 3) «отсутствие войны», «благоденствие» и «спокойствие». До реформы современного русского языка, отменившей ижицу, эти значения разделялись в написании «мир» (значения 1 и 3) и «мiр» (значение 2), но в древних текстах и, в частности, в церковно-славянском языке используется единый термин с единым написанием — «мир».
Такое соединение значений в одном слове чрезвычайно показательно. Это понятие описывает три главные характеристики древнеславянского этноцентрума, оно и означает сам этноцентрум, в котором нет различия между обществом (общиной) и природой. Поэтому слово «мир» относится и к тому, и к другому. Внешний мир есть продолжение крестьянского мира, и наоборот — крестьянская община построена по образцу Вселенной. Третье значение указывает на то, какую главную черту древние славяне выделяли в этноцентруме — это «мир» как «покой», «отсутствие войны», «гармония» и «уравновешенность». И вновь мы видим, что именно это является главной чертой этноса как такового, как формы общества, не знающей фигуры другого, не впустившего в себя стихию войны.
В таком тройном отождествлении обнаруживается вся структура древнеславянского самосознания: оно строится на основе мирного труда крестьянской общины, гармонично вписанного в окружающую среду, еще не отделенную от самой этой общины, а поэтому оживленную, одухотворенную, персонифицированную.
Мировая река древних славян
Само понятие «мир» и заложенные в нем значения представляют собой классическую структуру этноцентрума, каким мы его видим у большинства архаических народов, и в частности, у эвенков. Славянский этноцентрум должен быть устроен приблизительно сходным образом. На основе фольклорных и мифологических сюжетов, а также материалов волшебных сказок мы можем восстановить картину этого этноцентрума, следуя той общей схеме, которую описали применительно к архаическому этносу тунгусов.
В центре славянского мира должна была располагаться река. Это тем более вероятно, что славяне были речным этносом, передвигавшимся преимущественно на вместительных ладьях по рекам Восточной Европы. Вероятно, новгородские ушкуйники, подвижные группы речных торговцев и часто одновременно разбойников, представляли собой в более поздние времена приблизительный эквивалент того, чем было большинство восточных славян на ранних этапах, предшествующих возникновению государственности.
Эта славянская река, протекающая в центре славянского мира, для каждого племени была своя — Днепр, Ока, Дунай, Висла, Волхов, Днестр, Припять, Двина, Сула, Полота, Сейм, Волга и т. д. Ее выражением мог стать отдельный приток или даже небольшой ручей. Принципиально важно само наличие реки, протекающей сквозь этноцентрум, т. е. сквозь мир. Поэтому славянская река есть река мира, мировая река.
Эта река конструировала этническую географию славян. У ее истоков пребывали нерожденные души потомков. В устье находилось жилище мертвых. В центре обитали живые. Циркуляция душ, как и плавание по самим рекам, было формой «вечного возвращения» по замкнутой траектории славянского рода. Река была истоком жизни и смерти, она несла в себе живую и мертвую воду, поскольку по ней приходили и уходили души.
Показательна легенда о путешествии Геракла в Скифию, которую приводит Геродот. В ней фигурирует змееногая женщина, царица реки Борисфен (Днепр), которая украла у Геракла его лошадей и согласилась отдать их только взамен на замужество. От брака речной царицы Борисфена и Геракла, по словам Геродота, ведут свое начало скифы.
Сходный сюжет есть в осетинском эпосе о богатырях-нартах. Там фигурирует Донбеттыр, царь реки. Его дочь, принцесса Дзерасса, становится женой нарта Ахсартага и тем самым кладет начало всему роду нартов.
Сюжеты о водном царе (обитающем на дне озера Ильмень или моря) мы встречаем в новгородском цикле эпических легенд о Садко, что указывает на их архаическое происхождение. Сам Садко берет себе в жены одну из подводных дев.
В заниженной и более поздней версии мы встречаем в славянской мифологии различных обитателей подводного мира — вил, русалок, водяных, берегинь и т. д.
В мифологии мировая река может выступать как огненная река или река с резким запахом — откуда река Смородина, та, что смердит, сильно пахнет. Она же называется иногда Пучай-рекой, от треска огненного горения. В этом случае миф подчеркивает сверхъестественный характер «мировой реки», которая является и жидкой и огненной, и безвкусной и отличающейся сильным запахом. Река-Смородина отделяет мир мертвых от мира живых, как и в классических моделях этноцентрума.
Мировая река сопряжена с мирами Начала и Конца, но оба этих мира замкнуты в славянском этноцентруме друга на друга, и эта замкнутость обеспечивает постоянство циркуляции жизни славянского племени.
Поэтому почитаемая древними славянами Земля устойчиво именуется «сырой» –« Мать Сыра Земля», а единственное женское божество в киевском пантеоне князя Владимира именуется «Макошью» или «Мокошью», что ряд исследователей трактует как указание на стихию влаги, на нечто «мокрое».
Речная вода становится мировой стихией и не просто включается в этноцентрум, но становится главной силой этноцентрума, организует собой этноцентрум, определяет его вечно длящуюся и вечно неизменную структуру.
Волхвы и вурдалаки
В этноцентруме древних славян мы (теоретически) должны обнаружить центральную фигуру шамана. Это полностью подтверждается историческими материалами, и мы знаем даже собственно славянское название для этой функции — «волхв». Те скудные сведения, которые у нас имеются о древнеславянских волхвах, позволяют предположить, что это речь шла не о жреческом сословии в высокодифференцированном обществе, но о фигуре, во всех отношениях тождественной шаману архаических племен.
Слово «волхв», давшее название реке, на которой стоит древнейший русский город Новгород, «Волхов», восходит к слову «волк», чей корень является общим для многих индоевропейских языков.
Волк является тотемическим первопредком у тюрок (Ашина, первопредок тюрок, означает «волк»), римлян, осетин (первые нарты произошли от сыновей Уархага, «волка») и т. д. Мы видели, как шаман связан с интегрированным первочеловеком и как шаманская инициация восстанавливает разрыв между людьми, духами и зверьми. Славянские волхвы в этом смысле представляют собой тех, кто восшел к истокам славянского рода и вернулся оттуда, наделенный священными знаниями и способностью исцелять, осуществлять ритуалы, объяснять тайны племени и священные мифы. Волхв — это человеко-волк, восстановивший интегральный статус первопредка. Видимо, отсюда в поздние эпохи возникли легенды о «волкодлаках» или «вурдалаках» — оборотнях, способных превращаться в волков.
Вурдалаки, согласно славянским преданиям, пьют кровь. Кровь есть одна из форм «мировой реки», по которой циркулируют славянские души. Шаман является тем, кто обеспечивает беспрепятственное круговращение этих душ и тем самым бессмертие рода. Когда этнические формы общества забываются, этот миф утрачивает свою актуальность и превращается в зловещий комплекс представлений, утративших смысл. То, что шаман-волхв следил за круговращением душ по реке-крови и обеспечивал тем самым бессмертие, вечность этноса, превращается в легендах о вурдалаках (вампирах) в сюжеты о том, что вурдалак сам является покойником (изначально волк-первопредок), что он питается кровью живых людей (изначально обеспечивает замкнутость реки-крови), что он опасен и обладает сверхъестественными способностями (целительные и магические свойства шамана).
Показательно, что цикл преданий о вурдалаках-вампирах локализуется в Восточной Европе, причем в районе расселения преимущественно славянских племен.
Славянское дерево
Обычно символизм реки в этносе сочетается с символизмом дерева, составляя с ним единое целое. Древние славяне почитали священные деревья, и корень «древ», «дерев», мы обнаруживаем в ряде понятий, имевших для древних славян важнейшее социальное и мифологические значение. Таковы слова «древний», «деревня» и т. д.
«Древний» означало «восходящий к корням родового древа», к истокам этноцентрума. Древность есть причастность к этническому древу. Поэтому деревья становятся священными — в них выражается жизнь племени, ее поток.
Деревня есть место древнего поселения, древнее место, где происходит процесс вечного возвращения, вечного роста ветвей, одного и того же древнего древа.
Священность древа как древа самого этноцентрума воплощается в то, что славянская цивилизация была основана на обработке дерева. Из дерева строились жилища, из древесины изготавливалось большинство инструментов, в том числе и посуда, домашняя утварь. Из древесной коры славяне делали некоторые элементы одежды — в частности, традиционную славянскую обувь лапти.
Жизнь славянина начиналась в древесной люльке, проходила в древесном бревенчатом жилище и оканчивалась в древесном (как правило, долбленом) гробу. Стихия дерева сопровождала древних славян на протяжении всей жизни и носила священный характер.
Отсюда легко понять таксономию различных видов деревьев — каждый вид дерева подчеркивал ту или иную сторону мироздания. Наиболее священным деревом древние славяне почитали иву. Это вполне логично, т. к. ивы растут рядом с рекой, другим центральным символом мира у славян. В иве сходятся река (вода) и дерево, составляя общий сакральный комплекс.
Три пласта славянского язычества
Согласно академику Рыбакову, можно различить три пласта в язычестве древних славян688. Он описывает их как:
1) культы упырей и русалок;
2) культы Рода и рожениц;
3) балто-славяно-германо-иранская языческую реформу пантеона князя Владимира.
В целои, с этим можно согласиться. Приняв эту реконструкцию, можно предположить, что на первом уровне («культ упырей и русалок») мы имеем дело с чистым этноцентрумом и почитанием мировой реки и мирового дерева.
Второй пласт «культ Рода и рожениц» должен представлять собой более дифференцированное отношение к этноцентруму, в котором намечается отдельно «общество» (племя, род, сам этнос) и отдельно «природа». На этой фазе происходит относительное и пока обратимое отчуждение этноса от окружающей среды. Интегральность этноцентрума нарушается. Отныне этнос не просто растворен в мире, но находится внутри мира, как нечто имеющее отличительные черты по сравнению с окружающей средой. Общество начинает осознавать себя не рекой, а тем, что находится на берегу реки, создавая предпосылки для различия культуры и природы.
И, наконец, третий пласт представляет собой совершенно искусственную конструкцию, выстроенную княжеской властью на синкретическом обобщении различных языческих пантеонов, где можно предположить строгую дифференциацию функций отдельных божеств и где явно отсутствуют исконно славянские фигуры архаических культов (в первую очередь, «скотий бог» Велес). Этот третий пласт оказался поверхностным и недолговечным, а сам организатор этой упорядочивающей реформы князь Владимир в скором времени отказался от него в пользу христианства.
Собственно, славянскими были первые два пласта язычества и особенно самый первый. О нем нам известно меньше всего, но именно он полнее всего связан с этническим измерением славянского мировоззрения, т. е. с сущностью древнеславянского этноса, а значит, с сущностью русской этничности как таковой. Наиболее архаический пласт русского этноцентрума, над которым последовательно и постепенно надстраивались все новые и новые пласты (относящиеся к более дифференцированным типам обществ), должен иметь отношение именно к стихии мировой реки и мирового древа, к тематикам «русалок» и «упырей», к этноцентруму, где по лесу текут водные потоки, составляющие не среду обитания древних славян, но структуру их собственного бытия, не разделяемую еще на внешнее и внутреннее, на общество и окружающий мир, на «род» и «природу». Здесь «природа» есть «род», а «род» есть «природа». Древо и река слиты в единую священную личность, не меняющуюся со временем. И это единство составляет священную карту Руси, неотъемлемой частью которой являются сами славяне.
§ 2. Племена и племенные союзы Древней Руси
Венеды — древнейшие славяне
Первые упоминания о славянах появляются в I в. нашей эры. Речь идет о племенном союзе венедов или венетов. Согласно греческим и римским историкам (в частности, Плинию Старшему), венеды жили вдоль Балтийского побережья между Штетинским заливом, куда впадает Одра, и Данцингским заливом, куда впадает Висла, и далее по Висле от ее верховьев в Карпатских горах и до побережья Балтийского моря. Готский историк VI в. Иордан пишет о славянах, что они «…ныне известны под тремя именами: венетов, антов, склавенов».689 Племена, называвшиеся «венетами», локализовались как в Северной Италии, так и в балтийском ареале.
Об этнической принадлежности венедов существуют различные гипотезы. Одни историки уверенно причисляют их к славянам, другие — к сарматам, третьи — к германцам, четвертые — к кельтам. Нельзя исключить, что это была группа индоевропейских племен, в которых объединились представители всех этих культур.
Тот факт, что венеды могут быть прямыми предками восточных славян, косвенно подтверждается возможными толкованием этнонима «вятичи», ранее писавшимся как «вентичи», а также тем, что финно-угорские народы (современные эстонцы и финны) называют Россию «Веняйя» или «Венемаа», а русских — «вэнэ».
Анты как народ
Вместе с венедами и собственно славянами часто упоминаются анты. В еще большей степени, чем в случае венедов, с которыми они часто упоминаются вместе, очевиден полиэтнический состав антов. Видимо, это был не столько этнос, сколько древний народ (лаос), состоящий из различных этнических групп, имеющий высокую степень социальной стратификации и все признаки государственности. В IV в. упоминается царство антов и имя короля Божа. Есть свидетельства, что анты враждовали с готами.
В культуре антов прослеживаются влияния сарматов и древнего индоевропейского этноса киммерийцев, обитавшего в Причерноморских степях. Ареал распространения антов охватывает район среднего течения Днепра и простирается в степную зону вплоть до Керчи и Крыма. Так же много следов антов встречается в междуречье Днестра и Днепра. Ту же территорию позже населяли тиверцы и уличи, которые считаются славянским элементом, входившим ранее в антский племенной союз.
В пик своего могущества владычество антов простиралось от Дона до Румынии и Балкан.
Анты представляли собой дифференцированное общество, организованное по военному принципу, в чем можно увидеть прямое влияние индоевропейских кочевых воинственных племен Турана. Весьма вероятно, что антская знать состояла из сарматов и их потомков алан. При этом, по всей видимости, в состав этого народа входил и значительный сегмент древних славян, представлявших собой земледельческий слой этого народа.
Антское государство получило серьезный удар от остготов Витимира, а позднее было разрушено аварцами, создавшими Аварский каганат, расположенный в западной части владений антов. Анты, как и, скорее всего, венеды, были именно народом, т. е. исторической и политической общностью, куда почти наверняка входили предки восточных славян. Существуют гипотезы о том, что в народ антов входили древние черкесские племена, а также угорские этносы.
Дулебы — племенной союз
Западнее древних антов на правом берегу Днепра, на территории Западной Волыни проживало древнейшее восточнославянское племя дулебов. Возможно, под этим именем фигурировал широкий племенной союз. По одной из версий, при установлении Аварского каганата авары нанесли удар не только по царству антов, но и по дулебам, что привело к выделению их них отдельных племенных групп древлян и дреговичей, переместившихся с правобережья Днепра на север и северо-запад. При этом другая часть дулебов смешалась с антами, жившими на правом берегу Днепра или вытесненными туда аварами и позднее давшая начало волынянам и бужанам. Нельзя исключить влияние дулебов и на племенной союз полян.
О дулебах сохранилось очень мало сведений. Известно лишь, что они дважды участвовали в походах русских князей на Царьград.
В отличие от антов, мы не располагаем сведениями о наличии у дулебов государственности и строго дифференцированного социального строя. Вместе с тем, учитывая воинственность этого племени, можно предположить, что и оно было этнически разнородным и представляло собой сочетание военной аристократии (сарматского, аланского, готского или германского происхождения) и собственно славян-земледельцев.
Поляне как ядро будущего древнерусского народа
Восточные славяне представляли собой созвездие отдельных племен, отличающихся друг от друга диалектами, некоторыми культурными особенностями, многими специфическим чертами, а также структурой межэтнических контактов с соседними этносами. Вероятно, эти межэтнические контакты влияли и на отдельные стороны бытового уклада и образ жизни каждого конкретного племени.
Среди восточных славян, составивших в дальнейшем основу для формирования древнерусского народа (русичи), можно выделить ряд племен и распределить их по географическому признаку, а также по соседству с другими этническими группами.
В центре восточнославянских поселений находились территории Приднепровья, которые были населены преимущественно славянским племенным союзом полян. Древний Киев как укрепленное оборонительное сооружение (возможно, основанное кочевниками как центр сбора дани с окрестных племен) располагался в центре земель, где обитали поляне. В более поздние времена они фигурируют под именем «кияне», т. е. племена, расселенные вокруг Киева. Логично предположить, что для полян роль «мировой реки» играл Днепр, а сама география Приднепровья — от северных истоков до черноморского устья (где русло реки протекало через степи, населенные кочевниками) предопределил структуру сакральной географии Руси в целом, поскольку именно поляне позднее составят ядро древнерусской государственности и выступят полюсом формирования древнерусского народа (русичи). Другие крупные реки в районе расселения древних полян — Рось и Ирпень.
Летописец Нестор считает полян (равно как и другие племена — дреговичей, древлян и кривичей) потомками белых хорватов, хорутан и сербов, обосновавшихся на территории современной Беларуси в VI–VII вв. Он же объясняет этноним тем, что «поляне жили среди полей» («занеже в поле седяху»). Летописец подчеркивает наличие у полян развитой культуры, отличавшей их от других племен. «Поляне бо своих отец обычаи имяху тих и кроток, и стыденье к снохам своим и к сестрам и к матерем своим…. брачные обычаи имеяху».
Поляне на северо-западе граничили с дреговичами; на западе — с древлянами; на юго-западе — с тиверцами; на юге — с уличами. К востоку от полян располагалась область расселения северян, главным населенным пунктом которых был Чернигов.
Северяне на границе со степью
Северяне, по мнению некоторых исследователей, представляли собой ославяненных потомков скифо-сарматского племени. Есть гипотезы, что они были частью племенного союза гуннов и имеют отношение к упоминавшимся в византийских хрониках «савирам». Другие исследователи связывают их с уграми или тюрками.
Позже северян стали называть «севрюквами».
Северяне жили вдоль русла рек Ворсклы, Псла, Десны, Сейма, а также небольших речек северской земли — Езуча, Терна, Сулы, Ромена.
К востоку и северо-востоку от северян жили племена вятичей; к северу — радимичи; к западу — поляне и древляне. На юге северяне граничили с зоной степи, и на их земле сохранились останки многочисленных укрепленных сооружений, видимо, созданных для защиты от периодических набегов степняков-кочевников.
Главным центром северской земли был город Чернигов, игравший важную роль в структуре Древней Руси. Другими городами были Курск, Новгород-Северский и Путивль.
Радимичи — пришельцы с Запада?
Радимичи считаются славянским племенем, пришедшим на территорию Русской равнины из области современной Польши («от ляхов»). По другой версии, они представляют собой ославяненное автохтонное балтийское население. В летописях упоминается предводитель этого славянского племени Радим, под руководством которого первые радимичи пришли на ту землю, которую занимали впоследствии.
Они населили верховья Днепра и Десны по течению реки Сожа (и ее притоков), а также окрестности рек Ипуть и Беседь. Скорее всего, именно эти реки были у радимичей священными и являлись осью этноцентрума.
Радзивиловская летопись сообщает, что в IX в. радимичи платили дань хазарам. «И посла к радимичем, река: „Кому дань даеть?“ Они же ръша: „Козаромъ“. И рече имъ Олегъ: „Не дайте козаромъ, но мнъ давайте“. И даша Олгови по щълоягу, якоже и козаром даяху»690.
Среди городов радимичей упоминается Пропошаск (позже Славгород), располагавшийся на притоке реки Сожа Пещань, а также Кричев (Кречют), Гомель (Гомий), Рогачев и Чечерск.
Радимичи, вероятно, повлияли на этнический состав современных белорусов.
Кривичи — племена северо-западной Руси
К северу и северо-западу от радимичей жили представители мощного племенного союза кривичей. Как и в случае радимичей, в культуре и языке кривичей есть ряд признаков, позволяющих говорить о смешении славян с балтами, но полным вытеснением балтийского языка славянским.
Кривичи занимали обширные территории от Витебской и Могилевской областей до Пскова, Брянска и Смоленска. На востоке он граничили с вятичами, а на западе с балтийскими племенами. Летопись возводит их, как и полян, древлян и дреговичей, к потомкам белых хорватов, сербов и хорутан.
Западные кривичи создали Полоцк, северные — Изборск, а южные — Смоленск (Гнездово).
Сохранились сведения о том, что у кривичей были свои князья, и сохранилось даже имя одного из них — Рогволод (скорее всего, славянское). Скорее всего, Новгородскую культуру создали северные кривичи и близкие к ним по культуре ильменские словене. Вместе с радимичами и дреговичами они стали основой позднейшего белорусского этноса.
Кривичи (наряду с вятичами) приняли активное участие в освоении восточных земель Руси (современные Тверская, Владимирская, Костромская, Рязанская и Ярославская области, север Московской, а также Вологодчина). Священными реками для них были, скорее всего, Западная Двина, Неман, верховья Днепра, Ловать, Великая и т. д.
Ильменские словене — создатели Новгородской культуры
К востоку от кривичей, на самом севере Русской равнины, по берегам рек Молога и Волхов расселился племенной союз словен.
В этом регионе появляются древние поселения Руса, Городище, Ладога, потом Новгород, сыгравший огромную роль в русской истории.
Предками ильменских словен Иоакимова летопись, цитируемая Татищевым, но считающаяся большинством историков малодостоверной, называет Словена и Руса. Далее упоминается некий князь Вандал и три его сына — Избор, Владимир и Столпосвят.
Ильменские словене были представителями земледельческой культуры и активно расселялись во все стороны от озера Ильмень, активно взаимодействуя с кривичами на западе и с автохтонным финно-угорским населением.
Летописцы говорят о подчинении ильменских словен варягам и о периодических восстаниях. При всей спорности летописных сведений, касающихся древнейших времен, археологические раскопки показывают близость культуры ильменских словен с германо-скандинавской культурой, что можно объяснить как тесными торговыми связями, так и периодическим включением этой территории в состав той или иной варяжской германо-скандинавской государственности.
Именно ильменские словене вместе с кривичами и двумя финно-угорскими племенами, по Повести временных лет, и пригласили Рюрика княжить на Руси, что привело к установлению на Руси царской власти и созданию самостоятельной русской государственности.
Притом, что новгородская культура представляла собой довольно сложную систему, именно среди ильменских словен дольше всего сохранился институт городского вече как коллективной формы политического правления, свойственной этническим обществам.
Дреговичи — западный этнос болот
На западе от радимичей и на юго-западе от кривичей находились земли, заселенные третьим племенным союзом, ставшим этнической основой современных белорусов — это племя дреговичей. И их тоже летописец возводил к белым хорватам, сербам и хорутанам. Этноним «дреговичи» восходит к древнерусскому названию болота — «дрягва». Возможно, они названы так из-за болотистой местности, которая характерна для территорий их расселения. Священной рекой для них был, скорее всего, Неман.
Древней столицей дреговичей был город Туров.
С запада дреговичи соседствовали с балтийскими племенами — с ятвагами, Литвой и имели с ними ряд общих культурных черт.
Южнее дреговичей простирались земли древлян, а к юго-западу — волынян.
Древляне и брачные культы вод
Древляне жили на территории Украинского Полесья — на правобережье Днепра вплоть до реки Припять. На востоке они граничили с полянами; на севере — с дреговичами; на юге — с волынянами. Этноним «древляне» в древности объясняли тем, что они живут в лесах, среди «деревьев». Киевский летописец Нестор культурно противопоставляет их полянам, имеющим с ними общее происхождение. «Живяху скотьски, убиваху друг друга, ядяху все нечисто, и брака у них не бываще, но умыкиваху у воды девица». Очевидно, что нравы древлян существенно отличались от нравов полян (христианский летописец осуждает здесь языческие ритуалы и привычки), но вскользь упомянутый обычай «умыкать девиц у воды», возможно, является свидетельством древнейшего славянского брачного обряда, связанного с рекой и водой.
Центром древлян был город Искоростень, позднее известный как Вручий. Он стоял на реке Уж, видимо, бывшей для древлян священной.
Сохранились упоминания о том, что у древлян был свой племенной князь Мал, который сватался к княгине Ольге после убийства древлянами князя Игоря.
Волыняне — племя семидесяти крепостей
К югу от древлян жили представители другого славянского племенного союза — волыняне. Некоторые историки считают их потомками древнейшего восточнославянского племени дулебов, упоминавшегося вместе с антами среди самых ранних сведений о древних славянах и их племенах.
Главными городами волынян были Волынь, Владимир Волынский, а также Червень. Также в Повести временных лет говорится, что в стране волынян было 70 крепостей.
Бужане в центре народа русичей
Потомками дулебов также считают близкое к волынянам племя бужан,, обитавшее южнее полян и восточнее волынян и слившееся с ними впоследствии.
Главным городом бужан был город Бужск. Рекой, вокруг которой были организованы поселения бужан, был Западный Буг.
Бужане, видимо, довольно рано слились с полянами, составив этническое ядро Киевской Руси.
Белые хорваты и другие хорваты
К югу от волынян, в Северной Буковине, в древности обитали представители восточнославянского племени хорватов. В истории известны три ветви хорватов: белые хорваты, те самые, к потомкам которых относили полян, древлян, кривичей и дреговичей и которые жили на территории современной Западной Украины между волынянами и тиверцами; черные хорваты, расселившиеся в Моравии и Словакии; и красные хорваты, спустившиеся южнее и составившие ядро современных балканских хорватов.
Центром белых хорватов был древний город Перемышль на реке Сан.
По одной из версий, белые хорваты представляли собой смешанный славяно-сарматский этнос. Одна из ветвей аланской группы сарматов была известна как аорсы (белые) или аланорсы (белые аланы) 691. Наличие сарматских элементов в структуре этого самого западного из этносов восточных славян, возможно, повлияло на известную из истории повышенную воинственность хорватов и на социальную специфику западнорусских (Галицко-Волынских) княжеств, где военная аристократия получила существенно больший политический вес, чем в других частях Руси.
Тиверцы — славянский контроль над Причерноморьем
Огромные территории от северо-западного побережья Черного моря до области расселения белых хорват и бужан к северу (территория современной Молдавии и частично Валахии) занимали восточнославянские племена тиверцев.
Основные их поселения располагались в междуречье Днестра и Прута, а также Дуная.
О тиверцах есть упоминания в Повести временных лет наряду с другими восточнославянскими племенами: «…улучи и тиверьцы седяху бо по Днестру, приседяху к Дунаеви. Бе множьство их; седяху по Днестру оли до моря, и суть гради их и до сего дне…»692.
На западе тиверцы граничили с романоязычными потомками гетов и даков, предков современных румын (с 552 по 796 гг. к западу от земель тиверцев располагался Аварский каганат). На востоке они граничили с Великой Степью, что делало их уязвимыми для постоянных волн воинственных кочевых народов и этносов. Постепенно тиверцы под давлением кочевников отступали к северу. Там они частично смешались с другими славянскими племенами, а частично стали одним из элементов молдавского этноса.
Священными реками были Днестр, Дунай, Прут.
Уличи — защита южного рубежа
К северо-востоку от тиверцев располагались земли древних уличей, населявших земли вдоль нижнего течения Днепра, Южного Буга и побережья Черного моря. Иногда этот этноним передается как угличи или лютичи. В «повести временных лет», как мы видели, что они упоминаются вместе с тиверцами.
Столицей уличей был город Пересечень.
Вятичи — самые восточные славяне
Самым восточным из восточнославянских племен и племенных союзов были вятичи. Их центром был город Дедославль, месторасположение которого сегодня не установлено. По мнению Б. А. Рыбакова, главным городом вятичей был Корьдно (точное местоположение также неизвестно) 693. Вятичи селились вдоль течения реки Оки, которая была для них, по всей видимости, сакральной. Памятники и городища, свидетельствующие о пребывании вятичей, обнаружены также вдоль рек Нара, Протва, Москва, Жиздра, Угра, Десна, Уча, Клязьма, Проня и в верховьях Дона.
Область, которую занимали вятичи, покрывает территорию современных Московской, Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Липецкой областей.
К востоку от вятичей простирались обширные земли, населенные финно-угорскими племенами — мещера, мурома, мордва, меря и т. д.
«Повесть временных лет» соотносит вятичей, как и радимичей, с выходцами из Польши («от ляхов») и называет их предводителем Вятко. Этот же источник утверждает, что вятичи (как и радимичи) выплачивали дань хазарам.
Вероятно, что вятичи этнически были связаны как с северянами, так и с балтийскими племенами, которые, скорее всего, обитали на этих территориях до прихода славян. Так среди ареала расселения вятичей уже в исторический период мы встречаем литовское племя голядь, позже растворившееся в древнерусском народе.
Вятичи дольше других восточнославянских племен придерживались языческих традиций и отчаянно сопротивлялись вхождению в Киевское великое княжество.
Этносоциологическая картина племен Древней Руси
Скудность сведений, отсутствие достоверных источников и пристрастность большинства летописцев, так или иначе выполнявших политический и религиозный заказ, а также подстраивающих свои тексты под образцы известных им византийских хроник и ветхозаветных сюжетов, не позволяют нам составить полноценной картины социального устройства древнейших племен и племенных союзов восточных славян, сплотившихся позднее, в эпоху Киевской государственности, в древнерусский народ (русичей).
Скорее всего, на чисто архаический пласт (мировая река, мировое древо, волхвы, вечное возвращение, сельская община, коллективная идентичность, интегральный и целостный этноцентрум, неразделимость культуры и природы и т. д.), т. е. на древнеславянскую койнему накладывались более сложные социологические формы. Так, у некоторых племен мы встречаем княжескую власть. В некоторых случаях ее инородческий характер бросается в глаза. В других случаях князья носят славянские имена. Однако и в этом случае трудно сказать, не является ли анахронизмом идентификация летописцами, творившими в княжеский период, того или иного лица как «князя». Возможно, речь шла всего лишь о старейшине или о предводителе, выбранном на время военных походов. Нельзя исключить, что в определенных случаях функции вождя мог брать на себя волхв.
Вместе с тем, вероятно, часть восточнославянских племен и племенных союзов, если не все они, были интегрированы в состав внешней государственности — степной (с юго-востока) или германской (с юга, при готах Германариха) и с севера (варяжские походы на северные земли славян). В вызывающей сомнения Иоакимовской летописи гипотетические князья Новгородских словен носят германские и славянские имена. Нечто похожее мы увидим и в исторический период Киевской Руси.
В целом же мы видим картину славянских этноцентрумов, объединенных общим или близким языком, хозяйственным бытом, культурой и традицией, над которыми надстроены — в довольно слабой и эфемерной форме, не затрагивая этноцентрумы глубоко — этажи более дифференцированного общества с центром, расположенном вне собственно славянского мира.
§ 3. Славянские племена в политической системе древнего мира
Гардарика и политические истоки славянских городов
В картине Древней Руси еще до создания государства мы видим целый ряд довольно крупных для той эпохи городов. Наличие развитых и населенных процветающих городов было настолько яркой отличительной чертой, что германские этносы называли эту территорию «Гардарикой» или «страной городов».
Большинство городов возникает уже в период Киевского государства, но несколько городов, в частности Киев, существовали и ранее.
Эти наиболее древние города едва ли создавались самими славянскими племенами. Занятие земледелием само по себе не приводит к возникновению города. В этом заключается специфика общинного способа ведения сельского хозяйства. Поселение крестьян располагается в центре пахотных земель. Если количество населения и, соответственно, количество жилищ увеличивается выше определенной критической черты, собираемого с полей урожая не хватает для его жизнеобеспечения. В такой ситуации группа крестьян вынуждена перебираться на новое место и основывать новое поселение с новыми пашнями вокруг него. Поэтому как бы ни росло население этноса, оно будет способствовать только увеличению деревень, сел, весей, но города не возникнут. Скорее всего, распространение восточных славян по Русской равнине шло именно таким путем — через миграцию крестьян-колонистов, движущихся на север и восток вглубь территории будущей России в поисках новых земель, пригодных для пахоты. Сколько бы ни увеличивалось количество сел, в город они сами по себе превратиться не могли.
Поэтому следует предположить, что древнейшие города, расположенные на территории расселения восточных славян в самые ранние периоды их истории, были созданы не ими. Эти города, как и большинство городов мира, создавались искусственно как оборонные или наступательные сооружения и центры сбора дани с покоренных этносов. Следовательно, создателями этих городов должны были выступать воинственные, агрессивные (чаще всего, кочевые) народы, обладающие политической дифференциацией, принадлежащие к той или иной форме государственности или эту государственность устанавливающие.
Города создаются лаосом как форма политического оформления пространства, но никогда не этносом. Поэтому следует предположить, что и древнейшие славянские города были заложены не самими славянами, но политическими культурами, где функции знати выполняли представители воинственных (и чаще всего кочевых) этносов, уже сложившихся в народ (лаос) и имеющих государственность, либо только становящихся народом через факт установления контроля над оседлым крестьянским и чисто этническим населением.
Структура древнейших славянских обществ
Этносоциологический анализ древнейших восточнославянских племен позволяет реконструировать следующую картину.
Вся территория расселения древних славян представляла собой три этносоциологических слоя, налагающихся друг на друга.
Базовым слоем были автохтонные народы — в большинстве своем финно-угорского происхождения на севере и северо-востоке, некоторые балтийские этносы, жившие в условиях охоты и собирательства, а также других промыслов с зачаточной ремесленной инфраструктурой (например, выплавка меди, известная ряду финских племен). Это — уровень чисто этнический и соответствующий архаическому обществу.
Вторым слоем были славяне-земледельцы, представлявшие собой совершенно иной и намного более динамичный социологический тип. Сельские поселения славян также были этническими единицами, этноцентрумами. Но вместе с тем славянские крестьяне, оставаясь, с одной стороны, чистым этносом, могли другой стороной быть квалифицированы как важный и постоянный элемент политической системы. Этот пласт можно рассматривать и чисто этнически, и как третью касту трехфункциональной индоевропейской политической модели, т. е. как основу народа (лаос).
Третьим слоем были носители воинственных героических культур, занятых приоритетно войной, грабежами и (в степных условиях) разведением крупного скота. Они-то и были носителями государства, собирали дань с оседлого местного населения, организовывали его в ополчение для новых военных походов, составляли ядро аристократии (первая и вторая функции трехфункционального индоевропейского общества), строили крепости и города.
Славянские племена представляли собой второй пласт этой трехслойной этносоциологической композиции. Приняв эту версию, нам становятся совершенно прозрачными основные социальные, экономические, этнические и политические процессы, развертывающиеся в зоне расселения восточных славян в период, предшествующей созданию Киевской государственности и частично параллельный ему.
Скифия и первочеловек Тарх Тархович
В самые архаические периоды можно предположить, что предки славян, праславяне, были функциональным элементом скифской кочевой империи. Реки Днестр, Днепр и Дон упоминаются греческими источниками как протекающие по территории Великой Скифии. Согласно историку Г.В. Вернадскому, на основании данных о скифах и их торговле с греческим Югом и монголо-китайским Востоком, вполне можно предположить, что скифам временами, по крайней мере, удавалось объединить под своей властью не только степь, но часть лесной зоны. На границе леса и степи по рекам для торгового обмена с давних времен должны были возникнуть культурные поселения (археологические данные свидетельствуют, например, о глубокой древности городского поселения на месте позднейшего Киева)694.
Славяне вполне могли быть частью этой скифского государства еще до того, как появились первые упоминания об их этнической самобытности. Академик Рыбаков придерживается версии, что праславяне фигурировали как «сколоты», скифы-пахари, подтверждение чему он видит в русских былинах и волшебных сказках, где речь идет о «старом богатыре Тархе Тарховиче». Об этом персонаже практически ничего не сообщается, кроме имени и указания на его древность. Рыбаков видит в нем ославяненный образ скифского первочеловека Таргитая695.
Сарматы и аланы
На смену скифам приходит другой индоевропейский кочевой туранский ираноязычный народ сарматов, одной из ветвей которого были аланы. Во II в. сарматы заняли практически все Причерноморье, а ведущая роль аланских племен ясно обозначилась к первому веку нашей эры.
Сарматы по своему социологическому типу точно соответствуют предшествующему народу скифов, и логично предположить, что перемена воинской элиты, контролирующей степь и частично лесостепную зону, не оказала большого влияния на праславян, продолжавших играть ту же социологическую роль оседлого крестьянского населения в сарматских и аланских политических образованиях, как ранее в скифских. Сарматские политические структуры, возможно, представляли собой не единое целое (империю), но ряд автономных княжеств, в которых между собой пересекались различные этнические группы, объединенные сарматской военной верхушкой. Одним из таких оставшихся после многочисленных перераспределений зоны влияния образований, скорее всего, и было антское царство IV в., где славяне играли видную роль.
Готы и Германарих
Во II–III вв.с севера в южнорусские земли спускаются другие воинственные племена — германские готы и устанавливают в этом регионе свою политическую систему, в целом воспроизводящую предшествующие скифо-сарматские. Воинственные готы покоряют себе кочевые племена Причерноморья, но заимствуют от них многие стороны кочевого и военного быта. Так складывается крымское готское царство, достигшее своего расцвета в IV в. при короле Германарихе. Готский историк Иордан включает во владения Германариха всю Русскую равнину и, следовательно, согласно этой трактовке, древнеславянские племена оказываются под германским владычеством.
Важно отметить, что смена правящей воинской элиты скорее всего никак не меняет принципиальной этносоциологической структуры славянских обществ, т. к. парадигма распределения социологических функций между этносами и племенными союзами остается одинаковой.
Нашествие гуннов и империя Атиллы
В IV в. в южнорусские степи из глубины евразийских степей приходят гунны. Они опрокидывают царство готов и создают новую гигантскую империю, растянувшуюся от Северной Монголии до Паннонии. Пика могущества гунны достигают под предводительством Атиллы. На определенный период праславяне оказываются вместе с другими окружающими их этносами в составе гуннской империи. Наравне с остальными они рекрутируются в гуннское ополчение и участвуют в европейских походах. Очевидно, лесостепная зона, где проживает оседлое земледельческое население, снова облагается данью со стороны новых властителей.
При этом общая этносоциологическая модель снова не меняется.
Аварский каганат
В середине VI в. начинается становление Тюркского каганата. Тюрки входят в силу на востоке евразийских степей и обрушивают монгольскую империю жужаней. Часть жужаней вырезается поголовно, а часть бежит на запад и основывает в Паннонии Аварский каганат. Возможно, авары были не чистыми монголами, как основной этнос империи жужаней, но соединением монгольских и тюркских племен.
До аваров (известных в русских хрониках как «обры») все эти территории были заселены славянами. Аварцы наносят удар по антам, но местное славянское население покоряют и облагают данью, а также используют как ополчение. Так, славяне принимают участие в 626 г. в аварском походе против византийского императора Ираклия. Авары распространяют свое влияние на западную часть восточных славян, а также частично на славян южных и западных.
В середине VII в. из-под власти авар выходят чехи и Моравы, создающие раннее славянское государство под властью князя Само. Южные славяне попадают под власть булгар.
В конце VIII — начале IX вв. франкские войска Карла Великого наносят по аварам решающий удар, в результате которого аварский каганат падает.
Падение аварского каганата разорвало связи между тремя группами славян — восточных, западных и южных, которые до этого времени более или менее сохраняли свое культурное и социальное единство.
И вновь социополитическая модель этнического взаимодействия славян с воинскими элитами степных кочевников строилась по той же самой схеме. Правда, в русских летописях сохранилась память народа о том, что владычество аваров было особенно нестерпимым, а радость от разгрома их державы вошла в поговорку — «погибоша яко обры».
Хазарский каганат
Тюркский каганат, вытеснивший авар далеко на запад, вскоре распался на западную и восточную части, а в скором времени в западной части образовался хазарский каганат. Верхушка хазар приняла иудаизм. Хазарская кочевая империя распространила свое влияние глубоко в лесную зону, так что под ее власть попали многие племена восточных славян. Граница между Хазарским каганатом и Аварским каганатом проходила по Днепру. Центром Хазарского каганата был город Итиль, о местонахождении которого до сих пор ведутся споры. Многие историки считают, что он располагался недалеко от современной Астрахани.
Хазарская держава простиралась от Каспийского моря и нижнего течения Волги до Оки, среднего течения Днепра и Черного моря. В IX в. после распада Аварского каганата, хазары подчинили себе радимичей, вятичей и обложили данью полян.
В состав Хазарского каганата входили многие восточнославянские племена и, соответственно, большая часть территории будущей Киевской Руси.
В очередной раз мы видим одну и ту же этносоциологическую схему: земледельцы-славяне как третья каста в составе воинственных, политических империй с неславянской (туранской или германской) военной аристократией.
Варяги и их функция в докиевский период
С германцами в качестве организаторов политического пространства, к которому относились древние восточные славяне, мы сталкивались, когда речь шла о крымских готах и царстве Германариха. В начале IX в. воинственные дружины норманнов, скандинавских германских племен, потоком хлынули на территорию Европы, добираясь по суше и по морю до ее южных границ. В русских летописях они названы «варягами», что было либо одним из норманнских этнонимов, либо общим названием для военной дружины (варингр).
Варяги промышляли разбоем и торговлей, подчиняя себе там, где это удавалось, местное население. В скандинавской мифологии, в частности, в «Эдде», это отразилось в дуализме асов и ванов. Асы были воинами-захватчиками и представляли самих варягов. Ваны обозначали мирное сельское население. Ряд исследователей видит в самом назывании «ваны» прямое указание на славян и венедов.
Варяги в этот же период (начало IX в.) проникли и в зону расселения восточных славян. Вначале они подчинили себе северную часть восточных славян, которые не попали в зону аварского или хазарского влияния. Варяги упорно продвигались к югу, пока не вошли в прямое соприкосновение с хазарами. Позднее они достигли границ Византии, открыв Днепровский путь «из варяг в греки».
Из Финского залива варяги проникли через Ладожское озеро к озеру Ильмень и, видимо, основали древний город Руса (сегодня Старая Руса).
Варяги, распространявшиеся по территории Русской равнины, назывались «русами» или «Русью».
В 842 г. варяги-русы появились в Черном море и совершили набег на город Амастрида. В 860 г. они же предприняли первый поход на Византию, которой закончился почетным для нападавших миром. По мнению Г.В. Вернадского696, вернувшиеся из византийского похода варяги-русы закрепились в Киеве, основав там Варяжское княжество, получившее название по имени варягов «Русь».
Этносоциологические парадигмы межэтнических процессов у древних восточных славян
Кратко рассмотрев имеющуюся у нас информацию о древних восточнославянских племенах и племенных союзах до возникновения Киевского государства, мы можем выявить несколько устойчивых этносоциологических закономерностей.
1) Древние славянские племена активно взаимодействуют с неславянскими этническими группами, причем это взаимодействие подчиняется строго определенным правилам: славяне выступают агентами аккультурации и «руководящим этносом» для автохтонных этносов охотников и собирателей (финно-угорского и, реже, балтийского происхождения) и одновременно исполняют функцию третьей касты (труженики, крестьяне) в более дифференцированных обществах (народах), где «руководящим этносом» выступают либо кочевые племена туранцев (индоевропейцев, монголов, тюрок) с востока, либо воинственные германцы с севера. Этим определяется основанная парадигма межэтнических процессов у древних восточных славян.
2) Древние восточные славяне имеют опыт участия в государстве и дифференцированных политических системах еще до возникновения Киевской государственности, что оказывает на славянские этносы определенное влияние и, возможно, способствует процессу их внутренней дифференциации (социальному расслоению, появлению собственно славянской знати и т. д.). При этом невозможно четко определить, в какой степени сами славянские этносы приобретают политическое измерение, т. е. переходят в режим этнокинетики и вступают в процесс лаогенеза, а в какой они лишь пассивно соучаствуют в социальном расслоении под воздействием внешних воздействий. Славяне сталкиваются с опытом «другого», но на древних этапах славянской истории трудно определить — впускают ли они «другого» в свой этноцентрум (и тем самым его раскалывают), либо игнорируют появление этой фигуры и перетолковывают его в привычном для целостного этноцентрума ключе.
3) Последнее замечание позволяет выдвинуть гипотезу о том, почему древние славяне терпимо относились к иноземному и инородческому господству, различные формы которого мы кратко описали. Можно предположить, что в духе замкнутого этноцентрума дань, выплачиваемую господствующему этносу, славянские крестьяне воспринимали не как свидетельство своего рабского положения перед лицом «другого», но как священное жертвоприношение, как ритуал «уничтожения излишков», как потлач. В этом случае мы имеем дело с этнической интерпретацией механизмов политически и социально дифференцированного общества, т. е. с перетолковыванием властных иерархических отношений по оси Господин–Раб в ключе этнического воспроизводства вечной гармонии, уничтожения излишков и поддержания баланса «вечного возвращения». Так как покорность основной массы славянского населения является исторической и социологической константой и на более поздних этапах русской истории, вплоть до настоящего времени, мы должны отнестись к этой гипотезе с повышенным вниманием. Если она верна, то мы получаем важное социологическое объяснение ряда устойчивых черт русского общества, которые можно свести к тому, что славянский этноцентрум активно противится столкновению с фигурой «другого», иерархическому и поэтому травматическому осмыслению властных отношений и стремится эвфемизировать механизмы господства и социальной стратификации через перетолковывание их в режиме этноцентрума.
Дань и подчинение политической элите приобретает характер «уничтожения излишков», т. е. становится элементом священного круговорота сил. Таким образом, этнос отстаивает свое место в структуре традиционного общества (народа/лаоса), стараясь как можно дольше сохранить свои структуры и «не заметить» вступления в исторический процесс и систему социальной дифференциации.
Глава 16
РУССКИЙ НАРОД И ЕГО ГОСУДАРСТВО. КИЕВСКИЙ ПЕРИОД, МОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД, ЭПОХА МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА, ПЕРИОД РОМАНОВСКОЙ РОССИИ
§ 1. Образование Киевской Руси: этносоциологический анализ
Момент рождения народа
Создание Киевского государства представляет собой четко фиксируемый момент рождения русского народа как первой производной от этноса.
Народ (лаос) есть этнос, вступающий в историю, переходящий к радикально новой форме социального бытия. В этот момент этноцентрум открывается, раскалывается. В него проникает фигура «другого». Начинается активная социальная стратификация и интенсивные процессы межэтнического смешения. Война становится нормативным состоянием. В центре социальной системы оказывается фигура героя. Все этнические процессы перестают быть сбалансированными и замкнутыми и становятся асимметричными, травматическими, проблемными. Кольцо «вечного возвращения» размыкается, начинает действовать линейное время. Складывается иерархическая полиэтническая система; одни этносы оказываются в положении «руководящих», другие — «подчиненных». Появляются хроники, письменные документы. Возникает одна или одновременно несколько типичных форм творений народа — государство и/или религия (с четко структурированной теологией и упорядоченным пантеоном) и/или цивилизация. Герой выступает как царь, пророк или философ. Иногда эти функции объединяются.
Все эти явления мы отчетливо наблюдаем при создании Киевской Руси.
Парадигма рождения народа в «Повести временных лет»
Повесть временных лет летописца Нестора так описывает (ретроспективно и пристрастно, но в целом верно) момент рождения русского народа.
«В лето 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по закону“. И прошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие назывались шведы, а иные — норманны и англы, а еще иные готландцы — вот так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами“»697.
В этом фрагменте мы видим все основные этносоциологические признаки и элементы рождения народа как первой производной от этноса.
Начинается оно с описания того, что славянские и финно-угорские этносы, бывшие ранее частью политической системы, где роль военно-политической элиты выполняли варяги (скандинавские племена норманнов), выходят из-под их контроля и тем самым отлагаются от предшествующее формы государственности, где они занимали подчиненное положение. Мы видели, что такое положение дел было совершенно обычным для большинства восточнославянских этносов, преимущественно занятых земледелием и выполняющих роль третьей касты в индоевропейских трехфункциональных системах и сходных с ними кочевых империях с иной этнической доминантой.
То, что славяне и финно-угры вышли из-под власти варягов, само по себе не является принципиальным и поворотным. Скорее всего, такие события происходили с определенной периодичностью, когда власть руководящих воинственных этнических элит начинала ослабевать.
После этого, выйдя из-под контроля иного племени, славяне и финно-угры стали «сами собой владеть». Они вернулись к состоянию этноса из состояния слабо интегрированной и самостоятельной части предшествующей германо-скандинавской государственности, одного из многих и часто недолговечных варяжских княжеств. Попытка «владеть сами собой» ни к чему хорошему не приводит. Начинаются раздоры и усобицы и межродовая вражда. Это означает, что по отдельности каждый из этих этносов или племенных союзов не в состоянии одолеть других. Причина, вероятно, коренится в том, что сами этносы слабо стратифицированы и дифференцированы, собственная военная аристократия отсутствует, и социально-экономический тип обществ (земледелие у славян и охота у финно-угров) не предрасполагает к выработке качеств, необходимых для практики упорядоченного властвования. По закону этноса, основанному на равенстве, никто не хочет признать за другими права на власть. Все мыслятся как свои, а значит, равные. Все это совершенно обычные этносоциологические процессы, повторяющиеся в разных этносах тысячи раз, и очевидно, в таком состоянии восточнославянские племена Русской равнины оказывались неоднократно. Но чаще всего это заканчивалось тем, что со стороны приходили воинственные агрессивные кочевые племена, не спрашивая ни у кого согласия, устанавливали над этими этносами и племенами свою политическую власть (в частности, выражающуюся в сборе дани).
Но на этот раз, в 862 г., в случае четырех славянских и финно-угорских этносов, события стали развиваться иначе. Эти четыре этнические группы продемонстрировали уникальное качество, не свойственное этносу. Они обнаружили «отсутствие порядка». Они отдавали себе отчет в том, что «земля их велика и обильна», но самое главное, они осознали, что этой земле не хватает принципиального качества, и нашли для этого качества точно соответствующее имя — «порядок». Действия четырех этносов, предопределивших всю историю русского народа и российского государства, проистекали из фундаментального судьбоносного чувства — из пронзительного чувства нехватки, недостатка, отсутствия. Этнос не может столкнуться с таким чувством, он всегда оперирует с замкнутыми системами, в которых всего хватает, А если чего-то и нет, то этот вакуум мгновенно заполняется многообразными этническими практиками баланса. Этнос не знает драмы и острого осознания «нехватки». В этом отсутствии порядка этносы, упомянутые в Несторовой летописи, демонстрируют, что их этноцентрумы расколоты и им знакомо трансцендентное измерение. Это измерение есть интуиция и несогласие эвфемизировать это отсутствие через привычные практики баланса, полноты, цельности и «вечного возвращения», свойственные этносу как койнеме. Именно осознание отсутствия порядка перед лицом обилия и величия страны и есть несомненный факт рождения русского народа. Русские становятся историческим явлением, Лаосом, народом именно в тот момент, когда к ним приходит это прозрение.
Возможно, они достаточно долго жили в более дифференцированных обществах с инородческой властью, возможно, окрепли в своих собственных социальных и даже военных силах так, чтобы ощутить вкус порядка или заметить его отсутствие — в любом случае, славяне и финно-угры сделали решительный и необратимый шаг от этноса к народу.
Далее следуют также строго логические шаги. Осознав отсутствие порядка, кривичи, словене, чудь и весь решили этот порядок установить. Остро переживая «трансцендентность» порядка, они не стали выбирать власть между собой (такая власть была бы имманентной и этнической, что противоречило самой сути власти) и отправили послов к «другим». Отдаленность подчеркивается выражением «за море». Власть должна быть «не своей», но «чужой», ее следует искать не «близко», а «далеко». Среди перечисленных германских этносов решено было остановиться на варягах, называемых «Русью», т. е. на «русских».
Были ли они теми же самыми варягами, от которых ранее эти этносы освободились, или совершенно другими, но так или иначе о них, их племени и князьях должно было быть известно.
В любом случае мы отныне имеем дело с народом и с переходом к линейному времени. Собственно русская история начинается с этого момента, и в скором времени эта история начнет фиксироваться в летописях. Этносы становятся народом и переходят из циклического времени к линейному. Момент призвания варягов-русь в земли восточных славян есть точка отсчета особого времени, связанного с историческим бытием народа как первой производной от этноса.
Три этносоциологических пласта древнерусского народа
Созданный призванием варягов народ представлял собой базовую этносоциологическую парадигму всей последующей истории. В этом народе, который можно назвать древнерусским или народом «русичей», мы видим сразу несколько этносов — славян, финно-угров и варягов. При этом все они обладают четко выделенными этносоциологическими характеристиками.
Финно-угры, вероятно, уступающие славянам в наступательности и агрессивности, представляли собой этносы охотников и собирателей, живущих в архаических условиях. Этот пласт (хотя к нему по мере расширения русских территорий примыкали все новые и новые этнические группы) сохранялся на протяжении всей российской истории, и даже в наше время ряд этносов Российской Федерации (малые этносы Севера, Сибири, Алтая и Дальнего Востока) продолжают сохранять соответствующий именно этому этносу архаический уклад. Таким образом, этот пласт является константой в общей структуре народа.
Собственно славяне составили ядро русского народа и предопределили его социально-экономический профиль. Это были земледельцы, живущие в этнических группах сельских общин. Именно этот пласт был преобладающим на всем протяжении русской истории вплоть до 30-х гг. ХХ в., т. е. до начала массовой и принудительной коллективизации, индустриализации и урбанизации («смычки города и деревни»). Именно восточнославянский тип стал восприниматься как нормативный в культурном, языковом, психологическом, ментальном и ином смыслах как сам русский народ. Славянский язык стал койне для всей системы лаоса, а славянский крестьянин — олицетворением народа как такового, наиболее частый и характерный тип.
Именно славяно-крестьянские земледельческие оседлые установки, авто- и гетеростереотипы, ценности и реакции легли в основу русского общества в целом. Но в случае народа это было не просто выражением этнического начала славян-земледельцев, но расширенной и часто бессознательной проекцией этнического уровня на уровень народный. Отдельные языковые, культурные, экономические и психологические стороны славянского крестьянского комплекса в иных сегментах народа изменялись, перетолковывались, подвергались де- и ресемантизации. Этнические славяне служили образцом и парадигмой для всего народа, но содержание и семантика «славянизма» (языкового, культурного, экзистенциального) в разных секторах народа приобретали своеобразные черты. Например, знакомые со славянским языком финно-угры и другие этнические группы, очевидно, толковали его как метаязык, т. е. как субститут языка, необходимый для решения конкретных и практических жизненных ситуаций и осуществления административных и экономических операций. Это и есть функция койне. Точно так же, подражая подчас славянам в одежде, образе жизни и отдельных обрядах, этнические группы неславянского населения интерпретировали их совокупно и по отдельности в своем этническом контексте, что качественно видоизменяло этническую структуру славянского этноцентрума в сторону совершенно новой формы, соответствующей народу как производной от этноса. Перетолковывание славянского этнизма в полиэтнической среде народа не могло не влиять и на самих славян, которые часто получали свои изначальные культурные установки и психоментальные комплексы в измененном виде, и одновременно, насыщались этническими элементами иных, неславянских культур, оказавшихся внутри единого народа (лаоса).
И, наконец, третьей этносоциальной группой стали варяги-русь Рюрика, призванные на княжение. Сам Рюрик и его род были, скорее всего, скандинавами, и значительную часть его дружины составляли представители других сходных по воинственности и агрессивности германских этносов.
Нельзя исключить, что в составе этой дружины были и аланы, одно из племен которых (роксоланы), имело сходное название и вполне могло интерпретироваться как «русь». Мы видели, что сами варяги с начала IX в. постоянно перемещались от Балтики до Черного моря, а аланские воинственные племена постоянно вторгались из территорий Северного Кавказа и Причерноморья вглубь Европы. Отдельные племена аланов вместе с вандалами дошли до Португалии и участвовали позднее в создании африканского королевства вандалов на территории бывшего Карфагена. Аланско-сарматской гипотезы происхождения этнонима «русь» придерживаются многие авторитетные историки, в том числе Л.Н. Гумилев698.
Варяги играли в становлении древнерусского народа фундаментальную роль. Именно они обеспечивали трансцендентное измерение, на котором основывалось Киевское государство. Они выступили той вертикальной осью, которая легла в основу дифференцированного общества и позволила выстроить властную и социальную стратификацию. Именно варяги-русь превратили этнические племена в единый народ.
С точки зрения структуры возникновения государства варяги-русь выполнили ту же роль, которую выполняли многократно воинственные кочевые (часто скотоводческие) племена, покорявшие мирных оседлых крестьян, облагавших их данью и устанавливавших парадигму государства — с высшими и низшими стратами (кастами, сословиями), иерархией, системой подчинений, законами и нормативными актами. В Европе нашей эры именно германские этносы стали создателями большинства государств, так или иначе восходящих к имперостроительским инициативам Карла Великого. Его военные победы и, в частности, разгром казавшегося столь могущественным Аварского каганата, произвели настолько сильное впечатление на славянские этносы, находившееся частично под властью авар, что имя «Карл» стало нарицательным и от него образовалось славянское слово «король».
В этом смысле варяги-русь среди восточных славян выполняли роль, чрезвычайную близкую той, которую их прямые родственники, другие германо-скандинавские народы, выполняли при создании европейских государств приблизительно в тот же исторический период. Принципиальная разница состоит лишь в том, что практически везде в Европе государства возникали через факт прямого покорения автохтонных этносов, тогда как в русской истории мы имеем дело с осознанным решением «приглашения на царство» со стороны автохтонных этносов. Исключительность и неправдоподобность такого поворота событий заставляла многих историков предположить, что мы имеем дело с чистым вымыслом летописца, стремящегося придать ославяненной к тому времени династии Рюриковичей более благообразный и легитимный в глазах широких славянских масс характер. Иными словами, было бы логично и естественно, если бы никакого посольства за море к варягам-руси не было и Рюрик и его дружина оказалась на этой территории точно так же, как предшествующие завоеватели и сборщики дани (например, как те варяги, от которых словене, кривичи, чудь и весь освободились накануне призвания Рюрика). Но возможно, что призвание варягов происходило в действительности, т. к. и на более поздних этапах истории новгородцы, прямые наследники тех самых словен, что призвали Рюрика, приглашали со стороны князей для защиты Новгорода и его земель от противников; в самом же Новгороде демократическая система вечевого управления не располагала к созданию слаженной и четко действующей военной дружины. И приглашенные князья не пользовались в Новгороде каким-то особым авторитетом и рассматривались скорее как наемники: как только их задачи были выполнены, с ними спешили быстрее расстаться.
То, что нам известно о Рюрике и его военачальнике Олеге, полностью укладывается в эту парадигму новгородского отношения к княжеской власти. Рюрика и его дружину пригласили в какой-то критический момент, перед лицом серьезной угрозы, но как только опасность миновала, словене выжали его сына Игоря и военачальника Олега подальше от своих территорий (в Киев) и долго еще упорствовали в признании легитимности великокняжеской власти. Эта черта была настолько устойчивой в Новгороде, что окончательно сломить его свободолюбивый дух удалось только Ивану Грозному — и то ценой жестоких и беспрецедентных репрессий.
В любом случае, в результате призыва варягов-руси северными этносами восточных славян возник русский народ как историческое явление. Сами варяги — князья и дружина — составили ядро политической элиты, т. е. властной касты, которая, будучи изначально иноэтнической и неславянской, впоследствии приняла славянский язык, впитала частично этническую культуру, но перевела свое этническое отличие в социальное, политическое и кастовое. Варяги, бывшие некогда этносом, в составе русского народа стали кастой, аристократией, элитой. Они приняли на себя образ и функцию «героя» и создали государство — как наиболее часто встречающееся выражение рождения народа из этноса.
Аналоги трех этносоциологических пластов, встречающихся уже на заре русской государственности, легко распознаются на всех последующих этапах.
Призвание Рюрика было первым актом становления русской государственности. Вторым и переломным моментом стало успешное взятие Олегом, военачальником из дружины Рюрика и воспитателем его сына князя Игоря, Киева и перенос в Киев великокняжеского престола. Когда Олег подходит к стенам Киева, им правят Аскольд и Дир — явно представители варягов, установивших контроль над полянами и прилегающими к Киеву территориями на предыдущем этапе. Ряд историков считает, что Аскольд и Дир находились в вассальных отношениях с хазарским каганатом и собирали для него дань699.
Олег действует от имени Игоря, что предполагает наличие у Рюрика и его потомства определенных династических прав, признаваемых остальными варягами. Однако эти права, видимо, достаточно неопределенные, и Олегу приходится хитростью убить Аскольда и Дира, чтобы захватить Киев.
Именно в Киеве начинается полноценная история русского народа. Задачей Олега, а позже Игоря, и особенно Святослава становится битва за власть над окружающими племенами и требование платить отныне дань киевским варягам-руси, а не тем, кому они платили до сих пор.
Вновь мы имеем дело с сюжетом, повторявшимся на пространстве Русской равнины бесчисленное количество раз: новые завоеватели бьются с прежними за сбор дани с тех или иных племен, конкурируя за контроль над территориями. Киевские князья осуществляют походы на Византию. В 907 г. Олег осаждает Царьград, и византийцы вынуждены от него откупаться.
Но главным противником Киевских князей Рюриковичей становятся на этом этапе хазары, которым платят дань большинство восточнославянских этносов, и важнейшей для них задачей является конкуренция с Хазарией. Л. Гумилев считает, что это освобождение произошло не при Олеге или Игоре, но лишь при Святославе, мать которого, княгиня Ольга, старается примириться с Византией и сосредоточить свое влияние на противостоянии хазарам.
Вместе с тем Олег идет на древлян, радимичей и северян, подчиненных ранее хазарам, с целью переподчинить их Киеву.
При Игоре русь снова идет на Царьград, первый поход оканчивается поражением, а второй приводит к миру, условия которого подобны тем, которые греки заключили с Олегом. В правление Игоря, вероятно, киевские князья выступают как младшие союзники Хазарии или их вассалы. По мнению Л. Гумилева, Игоря убили древляне, когда тот решил собрать с них дань для хазар.
Лишь Святославу удается полностью опрокинуть хазарский каганат и установить контроль над Причерноморьем, Прикаспийским регионом и степной зоной вплоть до Дуная. Византия решила использовать Святослава для отражения нападок со стороны балканских болгар. Поход Святослава на болгар оканчивается полной победой, и он захватывает стратегический центр Переяславец на Дунае, куда планирует перенести столицу Киевского княжества. Всего за восемь лет Святослав создает огромную империю, простирающуюся от Балтики до Причерноморья, от Каспия до Балкан.
Хотя Святославу не удалось закрепиться на Дунае, поскольку византийский император Иоанн Цимисхий увидел в нем еще большую опасность, чем в болгарах, и нанес русским войскам сокрушительное поражение, а сам Святослав на пути в Киев был убит печенегами, именно в этот период Киевская Русь достигает невиданного доселе территориального объема, полностью избавляется от власти хазар и становится безраздельной хозяйкой лесной и лесостепной зоны Русской равнины.
При Святославе практически все восточнославянские племена платят дань Киеву, и Киевское великое княжество становится мощным консолидированным государством.
Русские и Русь: эволюция понятия
Теперь стоит рассмотреть с этносоциологической точки зрения значение этнонима «русский».
Изначально «русский» — это не ответ на вопрос «кто?», и даже не ответ на вопрос «какой?», но ответ на вопрос «чей?». Такие формы этнонимов довольно распространены. Этноним «француз» также означает дословно «находящийся под властью франков», «принадлежащий франкам», «подчиненный франкам». Франки — германское племя, завоевавшее огромные пространства Западной и Центральной Европы и подчинившее себе множество этносов, в том числе романизированных кельтов (галлов), которые и стали после этого называться «французами».
Этноним «русские» складывался в четыре этапа.
1) В самом начале Киевской государственности под «Русью» понимались варяги — князья и княжеская дружина (гридь). Славяне (т. е. славянские этносы, племена и племенные союзы) рассматривались отдельно. Они были не более «русскими», чем до этого «хазарскими». Они подчинялись варягам и платили им дань. В своих военных походах варяги-русь собирали из славян ополчение, где, судя по всему, они себя показывали с самой лучшей стороны. Поэтому первые походы «руси» описывались как «русь» со «славянами».
2) По мере того как Киевская великокняжеская власть укреплялась, понятие «русский» распространялась на те племена, которые непосредственно примыкали к Киеву, первыми стали платить «Руси» дань и признали ее главенство. Это были поляне, затем бужане и северяне. Они первыми интегрировались в социально-политические структуры вновь созданного государства и составили его основу. Это важный момент: Рюрика призвали словены и кривичи, и тем самым стали исходным моментом превращения восточнославянских этносов в народ. Но не они стали славянским ядром этого народа. Таким ядром выступили именно поляне, а несколько позже северяне. Они-то и стали первыми «русскими», выступив как славянское ядро нового, только что вступившего в историю народа русичей. Именно в этой среде факт выплаты дани варягам-руси впервые начинает осознаваться как нечто большее, нежели обычный для древних славян эпизод смены этноса политической элиты. В какой-то момент (в какой конкретно, точно установить нельзя, но он локализуется позднее начала XI в., а может быть, уже и в X в.) группы славян и, в первую очередь, поляне, начинают осознавать, что на этот раз они имеют дело с их собственным государством и в инородческой правящей элите отражаются (пусть преломленным образом) взгляды самих славян. Русь-варяги славянизируются, славяне становятся русскими. От значения «чей» (т. е., кому принадлежишь, кому платишь дань и отдаешь сыновей для участия в военных походах) происходит переход к значению «какой». «Русский» с определенного времени начинает означать одновременно и варяжскую элиту, и славянские массы. Варяжские элиты ославяниваются, славянские массы начинают воспринимать князей и дружину как «своих».
Нечто подобное, видимо, произошло и с балканскими болгарами, которые также заимствовали свой этноним от тюрок-булгар хана Аспаруха, подвергшихся славянизации. Мы такие же «русские», как болгары — «булгары», а французы — «франки».
Важно заметить, что именно поляне стали сердцевиной в лаогенезе древнерусского народа. Возможно, вся история и призвание Рюрика есть не что иное, как ретроспективная проекция на реально имевшие место события исторического самосознания именно «русских» полян более позднего периода. Поляне осознали, зачем славяне призвали Рюрика и русь, поскольку они стали очевидцами как формирования славянской государственности с грандиозными имперостроительными успехами Олега, Игоря и Святослава и последующих великих князей киевских, так и культурного ославянивания правящей элиты. В любом случае, Повесть временных лет уже явно отражает русско-славянскую идеологию и отчетливое осознание исторического бытия народа как совершенно особой формы общества, резко контрастирующей для летописца с этническими параметрами бытия славянских и неславянских племен. Нельзя исключить, что поляне приписали ильменским словенам и кривичам то, что стало историческим фактом лишь намного позже — после захвата Рюриковичами Киева и переноса туда великокняжеского престола.
Из этого наблюдения можно сделать важный вывод: в основе исторического мировоззрения древнерусского народа, русичей, вероятно, лежит именно полянский этноцентрум — с сакральной рекой Днепром, со спецификой равнинного ландшафта право — и левобережной Украины, с некоторыми культурным особенностями, свойственными племенному союзу полян. Поляне не могли не распространить структуры своего этноцентрума, своей сакральной географии на новые обширные территории, постепенно оказывающиеся внутри древнерусского государства и, следовательно, не предопределить в значительной мере общерусскую мифологию пространства. Пространство Лаоса и сакральные мифы древнерусской государственности, скорее всего, формировались семантически на основе архаического этнического психоментального комплекса полян и близких к ним бужан.
3) На следующем этапе в понятие «русский» стали включаться и остальные включенные в состав Киевской Руси славянские племена, семантика понятия «русские» также варьировалась от «тех, кому уплачивается дань» до самоотождествления с новой исторической общностью. В этом смысле отчаянно сопротивлялись «русификации» славянские вятичи, отстаивавшие свои культурные и социальные обычаи и долго воспринимавшие инициативы киевских князей по их включению в состав «русской» государственности как очередное «нашествие иноплеменных». Еще дольше сопротивлялись ильменские словене и частично кривичи, упорно отказывавшиеся называть себя «русскими».
4) И лишь намного позже понятие «русский» получило то значение, которое оно имеет в наши дни и обозначает один народ, в который входят все восточные славяне. В этом случае «русский» — это уже ответ на вопрос «кто?» и подразумевает принадлежность к народу как к единой исторической общности, общности судьбы.
Централизация Руси при Владимире
Кульминации первый этап создания древнерусского народа, русичей, достигает в эпоху царствования великого князя Владимира, сына Святослава (978–1015). В этот период степные зоны выходят из-под контроля Киева; экстенсивное строительство империи, проводимое Святославом, завершается; усилившиеся орды новых тюркских кочевников (вначале печенегов, затем половцев) отбрасывают славян на север. Киевский князь сосредотачивается на том, чтобы укрепить политическое и стратегическое единство в землях, населенных славянами. При этом надо учитывать, что практически во всех концах Русской равнины в Киевское государство наряду со славянами входили и иные этнические группы: на северо-западе — балтийские племена, на северо-востоке и севере — финно-угорские, на юге и юго-востоке — тюркские. На территории Киевского княжества размещались тюркские племена «черных клобуков» (берендеев), называвшие «славян», в отличие от «диких» половцев, «свои поганые».
Владимир старается укрепить Киевскую государственность в тех границах, которые сложились при Святославе после разгрома хазар, за исключением южного направления. На этом направлении начинают укрепляться пограничные рубежи (при Владимире укрепленная граница начиналась через два дня пути от Киева к югу). При этом печенеги доставляют много хлопот русским. В 992 г. они подступают к Киеву, а в 997 г. берут Белгород на реке Ирпень, недалеко от Киева.
При Владимире начинают проясняться противоречия с западными соседями — ляхами, а также с латинским западом. В 981 году Владимир идет на ляхов и устанавливает контроль над Волынью и Галицкой Русью. В 985 г. Владимир движется в противоположном восточном направлении и с помощью союзного тюркского конного племени торков побеждает камских болгар, но затем заключает с ними мир. Показателен отрывок из летописи, в котором воевода Добрыня (прототип былинного богатыря с таким же именем и дядя Владимира) советует Владимиру отказаться от подчинения болгар. Увидев, что взятые в плен болгарские воины носят кожаные сапоги, он заметил: «Они не будут нашими данниками». Пойдем лучше искать лапотников»700. Это важная этносоциологическая деталь. Сапоги изготавливались из кожи животных. Это было признаком воинственной кочевой скотоводческой культуры. Такая культура предполагала высокий социальный дифференциал и наличие особой воинской знати. В сапогах могли ходить только профессиональные воины.
Лапти изготавливались из коры деревьев и были признаком славянской древесной культуры, что означало оседлость, землепашество и, соответственно, миролюбие. Воин в лаптях наверняка был бы ополченцем, мобилизованным против профессиональной княжеской дружины той или иной инстанцией. Встретив в камских болгарах (преимущественно тюрках) воинов в сапогах, воевода делает рациональный вывод: покорить таких будет непросто, и лучше поэтому заняться более податливыми сельскими этносами.
Укрощает Владимир и взбунтовавшихся радимичей. Кроме того, судя по некоторым данным, у Владимира нарастают конфликты со своей варяжской дружиной. Это чрезвычайно показательно. Мать Владимира, ключница Малуша из Любеча, была славянкой (это будет поставлено ему в вину как гипогамия его отца и, следовательно, его собственная бастардизация в знаменитом эпизоде о сватовстве Владимира к полоцкой княжне Рогнеде Рогволодовне, которой Владимир позднее за это жестоко отомстил). Славянское начало во Владимире делает его личность несколько отличной от обычных варяжских князей.
Владимир, вероятно, осознает потребность в придании Киевской государственности новой исторической формы. Но собственная варяжская дружина, скорее всего, начинает ему в этом мешать, предпочитая вести себя подобно завоевателям, безжалостно эксплуатирующим автохтонов. Сам же Владимир склоняется к иной — монархической — форме правления, которая отчетливо проявится в русской истории намного позже, но истоки которой мы видим уже в эпоху его царствования. Киевская Русь становится для него не просто зоной сбора дани, но самостоятельной ценностью, историческим и династическим проектом. Поэтому он старается избавиться от старой варяжской дружины и отправляет значительную часть ее служить византийскому императору в Царьград.
Религиозные реформы Владимира и принятие Православия
Озабоченность в упорядочивании основ русской государственности проявляется в религиозных реформах Владимира. Вначале он пытается унифицировать языческий пантеон, для чего возводит в Киеве статуи богов. Этот пантеон является синкретическим и состоит из варяжских, аланских, иранских и славяно-балтийских персонажей, главным из которых назван Перун, громовержец. Эта фигура характерна для многих индоевропейских религиозных систем и представляет собой высшего небесного бога, атрибутом которого являются молнии, гром и верховная власть в мироздании. Образом Перуна на земле является вождь или князь. Показательно, что в пантеоне не нашлось места для собственно славянского бога Велеса, называемого «скотьим богом», который, видимо, имел отношение к земле, влаге и сельскохозяйственному труду основного славянского населения, а также считался покровителем домашней скотины. Владимирский пантеон был искусственным, и сам Владимир выступил в его контексте как религиозный реформатор, упорядочивающий религиозные представления и верования строго параллельно тому, как он упорядочивает политическую сферу и укрепляет государственность. Иерархизация богов и утверждение первенства Перуна очевидно необходимы были Владимиру для дальнейшего закрепления властной вертикали и религиозного обоснования особой позиции великого князя, чья власть должна была восприниматься как имеющая сакральное обоснование. Владимир правил не только с опорой на силу, но и с опорой на божественную санкцию: он сам и являлся представителем Перуна на земле.
Таким образом, мы видим в лице Владимира еще один признак народа — государство создано, теперь лаос стремится найти свое выражение в религии. И эта религия должна быть не простым продолжением сакральных верований этноцентрума, но чем-то радикально иным, основанным на трансцендентности, высокодифференцированной теологии и носить подчеркнуто героический характер. Владимир, создавая пантеон, скорее всего, совершенно искусственно, с опорой на культы, прежде всего распространенные в дружине, хотя и имеющие определенные аналоги в славянском мировоззрении, поступает как активный созидатель народа, чьи дифференцированные структуры надстраиваются над этноцентрумами его подданных.
Однако, судя по всему, Владимира не удовлетворил результат проведенных им реформ язычества. Так, в 986 г., согласно летописи, его посещают представители всех монотеистических конфессий — мусульмане из камских булгар, иудеи из остатков Хазарии, германский посланник от Римского папы и православный греческий философ. Владимиру нужна была именно монотеистическая религия, которая придала бы государственности максимально возможную трансцендентность.
Сопоставив монотеистические учения, Владимир, не без учета политических факторов, останавливает свой выбор на православии. С этого момента русское государство и славянское общество устойчиво входит в зону православного мира, византийской и болгарской культуры, что предопределяет во многом всю дальнейшую историю русского народа.
Согласно летописи, в 988 г. происходит «Крещение Руси». Владимир крестит население Киева в реках Днепр и Почайна. Византийский император выдает за Владимира греческую царевну Анну. Князь Владимир меняет свои языческие привычки и входит в русскую церковную историю как святой Владимир. В тот же период происходит и массовое обращение в православие новгородцев.
Отныне и до конца монархического периода в 1917 г. русские великие князья, а впоследствии и цари, остаются в лоне Православия, которое становится верой русского народа. Из славянских и неславянских этносов прочно создается единый православный русский народ.
Владимир в богатырских былинах: функции русского эпоса и лаосоциализация
Деятельность Владимира, получившего в народе устойчивый эпитет «Красно Солнышко», была настолько принципиальной для всей истории русской государственности, русской церкви и русского народа, что обращение к его образу мы находим не только в святцах и иконописных сюжетах, но и в народных сказаниях, легендах и былинах. Фигура князя Владимира становится обязательным атрибутом большинства эпических сказаний о русских богатырях. Эти богатыри действуют при дворе князя Владимира, служат ему и русской государственности и совершают свои подвиги, выезжая из «стольного города Киева» и возвращаясь в него. При этом двор князя Владимира становится мифологическим явлением, обретает значения архетипа. В героических рассказах путаются времена и эпохи, накладываются друг на друга разные исторические события и персонажи. Таким образом, Владимир и окружающие его богатыри приобретают значение временных архетипов, с помощью которых народное сознание осмысливает сложность и противоречивость исторических фактов, объясняет себе, как устроено государство, власть, как живет и чем руководствуется политическая элита. Былины представляют собой народное и отчасти этническое толкование структуры власти не только в ее правовой и упорядочивающей функции, но в ее экзистенциальном, психологическом измерении.
Владимир становится не исторической личностью, но собирательным образом русского великого князя, царя. Он есть государство как таковое, центр лаоса, народа.
Вместе с тем героический эпос сам по себе относится именно к лаогенезу. Герой появляется тогда, когда происходит расщепление этноцентрума и когда возникает потребность в столкновении с «другим». В цикле былин о князе Владимире и окружающих его богатырях запечатлены архетипы народа и силовые центры и пересечения энергий, действующие в народе (а не в этносе!). Традиционное общество, в отличие от архаического, является достаточно дифференцированным. Это значит, что разделяются между собой не только верхи и низы общества, но намечаются и иные линии разделения: между великим князем и его окружением; между героями из народа и героями из элиты; между личностями на вершине власти. Богатыри индивидуальны. Они чувствительны к унижению их достоинства и гордости. Они эмоциональны и увлекаются сиюминутными порывами. Они дорожат славой больше всего и готовы ради нее на любые подвиги. Все эти черты прямо противоположны этническим нормам, в том числе и этническому осмыслению своего положения в дифференцированной структуре государства. Народ послушен, безличен, сосредоточен на своем этнобытии, стабилен, держится в рамках привычного уклада. Богатыри, окружающие Владимира, полная противоположность этому: они обидчивы, капризны, дерзки, склонны к шалостям и готовы сделать нечто новое и неожиданное, чего никто до этого не делал.
При этом этнос не может вместить столь чуждый ему самому архетип героической воинской элиты и придумывает ему объяснение — все это имеет смысл в контексте защиты русской земли, сохранения самого народа в его массах и служения «князю Владимиру» и «светлой вере христианской».
Цикл богатырских былин, создававшийся народом в течение долгих веков, может быть рассмотрен как постоянная и неизменная карта лаоса, как первой производной от этноса. В этих былинах отмечены основные тенденции, которые так или иначе будут проявляться в русской истории и интерпретироваться позднее именно в контексте былинных архетипов.
Царь бывает добр и несправедлив. Это отражено в действиях, поступках и речах былинного Владимира. Он часто слушает злодеев из своего ближайшего окружения, которые советуют ему наградить подлеца и наказать достойного. Он сплошь и рядом недооценивает тех, кто по-настоящему ему предан, и увлекается пустыми и бессодержательными делами. Он следует устоям отцов, но не чужд и нововведений, которые чаще всего заканчиваются бедой. Он иногда конфликтует со своей дружиной, которая стремится ослабить его власть. У него есть проблемы с княжной или с женитьбой, которые либо решаются с помощью богатырей, либо приводят к катастрофам. Он является центром всего русского мира и самым ценным, светлым и «красным» («красивым», «ярким») солнцем для всего народа.
Показательны также фигуры трех богатырей, постоянно встречающихся в цикле легенд о князе Владимире. Это Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Они представляют собой три сословия. Добрыня — княжеского рода. Алеша Попович — как явствует из его имени — духовного сословия, сын попа. Илья Муромец — из крестьян. Три богатыря представляют собой три пласта сословного стратифицированного общества, помещенных в сферу героизма и лаоса и организованных вокруг фигуры самого великого князя Владимира, как общей для всех центра. Три богатыря служат князю Владимиру так, как все страты русского народа служат своим царям. Но эта служба в эпосе имеет героический и военный характер, а также сопряжена с драматическими и трагическими подчас событиями.
Все эти признаки имеют отношение именно к народу как первой производной от этноса. Знакомство с русскими былинами представляет собой одну из самых эффективных форм помещения русских людей всех страт и сословий, включая чисто этнические крестьянские круги, в контекст исторического бытия народа как этноса, вступившего в историю. Можно назвать это «парадигмальной лаосоциализацией», по аналогии с этносоциализацией, которую мы видели в обрядах инициации, жертвоприношениях и брачных правилах в этноцентруме.
Цикл былин о князе Владимире, получивший окончательную форму, вероятно, намного позднее Киевских времен, в монгольскую эпоху или даже в период Московской Руси, представляет собой, тем не менее, наглядную этносоциологическую карту, на которой отмечены основные моменты становления русского народа из созвездия славянских и неславянских этносов и парадигмальной структуры этого народа. С исторической точки зрения былины требуют тщательной проверки и выделения в них различных смешанных между собой пластов. С этносоциологической точки зрения они представляют собой безусловный и совершенно достоверный материал, который сообщает нам важнейшую и ключевую информацию о том, какие специфические черты, процессы и ситуации сделали русский народ как историческое явление тем, чем он был и есть сегодня. В этом смысле они не просто не утратили своей актуальности, но сегодня, быть может, актуальны как никогда.
§ 2. Удельная Русь
Центробежные тенденции и парадигма Удельной Руси
Параллельно тому, как идет укрепление центральной власти в Киевской Руси и складывается структура единой государственности, дают о себе знать и противоположные процессы, ослабляющие государственность. Их можно свести к трем типам:
1) нападения внешних врагов — в основном, с запада и юга;
2) восстания, вспыхивающие там и тут со стороны этнических групп населения, отказывающихся платить Киеву дань;
3) дробление княжеского рода.
Совокупно эти тенденции приводят к укреплению удельных княжеств, что постепенно становится исторической судьбой русского государства, ослабляет его, затем делает легкой добычей для монгольских завоевателей, длится весь монгольский период и преодолевается только в Московском царстве, и то с огромными усилиями и колоссальным напряжением централизаторской власти.
Этот процесс можно назвать Удельной Русью, в основании которой лежит усиление центробежных тенденций, конкуренции и войны князей друг с другом, жесткого и кровавого соперничества за великокняжеский престол, а также за владение удельными княжествами. Данное явление оказало самое существенное влияние на этнические процессы и поэтому может быть рассмотрено в этносоциологической перспективе.
Этносоциология удельных княжеств
Борьба князей за великокняжеский престол начинается уже с потомков Святослава, который оставил Киевский престол Ярополку, землю древлян отдал в удельное правление Олегу, а третьему сыну, Владимиру, передал Новгород. Здесь мы сталкиваемся с классическим для древних государств распределением отдельных территорий между наследниками правящей династии. Важно отметить, что чаще всего никакой связи между землями, отдаваемые в удел, и самими княжескими наследниками на первых порах не существовало, и они распределялись произвольно, исходя из довольно случайных соображений — милости князя, объема собираемой дани, стратегического расположения внутри государства и т. д. Так, Олег, ставший князем древлян, не имел к ним почти никакого отношения, равно как и Владимир к Новгороду.
Важно проследить этносоциологическую структуру образования самих удельных княжеств. В основе этих княжеств лежат этнические и племенные принципы. При создании общего государства для всех русских отдельные племена начинают воспринимать свои собственные политические центры по модели главной столицы. Так, главный город той или иной территории — Овруч для древлян, Чернигов для северян, Новгород для ильменских словен и т. д. — становится полюсом притяжения и вторичным политическим центром. Так, по аналогии с великим княжеством, куда входят все земли Киевской Руси, складываются отдельные части, основанные на повторении того же принципа в региональном масштабе. Территория региона определяется с учетом этнических особенностей. Вместе с тем отношения «этнос–политический центр» не является прямым. Политический центр чаще всего представляет собой искусственно созданный центр для сбора дани. В случае восточных славян сборщиками дани были представители чаще всего иных воинственных племен. Поэтому центры будущих удельных княжеств лишь частично отражают этническую специфику племен, проживающих вокруг него. Города в определенной степени отчуждены от этноса, живущего в сельских условиях, хотя вместе с тем они постепенно насыщаются и выходцами из сельской местности, что способствует их «этнизации». Но здесь же протекает и противоположный процесс: в столицы удельных княжеств стекаются купцы из разных стран, периодически перемещаются ремесленники из других городов и там же располагается ставка воевод или удельных князей, представляющих центральную власть. В таких городах происходит постоянное этническое смешение.
Так возникает особое явление: формирование внутри единого государства нескольких минигосударств, устроенных по тому же политическому принципу и на основании той же модели социальной стратификации и политической иерархизации, как и в случае большого государства. И как государство в целом управляется инородческой в своих корнях элитой, сосредоточенной в городах с их особым этносоциологическим укладом, так и в удельных княжествах воспроизводится похожая модель. Так, древлянский Овруч населен не столько собственно древлянами, сколько смешанным населением, равно как и северский Чернигов и т. д. Поэтому удельные княжества на своем уровне повторяют процесс перехода от этноса к народу, раскол этноцентрума и навязчивое внедрение фигуры «иного» в этнический контекст.
Это значит, что удельные княжества представляли собой модель, в рамках которой не только существовали отдельные этносы или племенные союзы, но и возникали предпосылки для появления отдельных народов как первых производных от этноса. А это, в свою очередь, ставило проблему: как «удельные народы» Киевской Руси соотносятся с единым народом, формировавшимся внутри государства?
Историки придерживаются на этот счет различных взглядов: одни утверждают, что единое самосознание древнерусского народа подтверждается рядом культурно-исторических свидетельств, другие считают его чрезвычайно слабым и подчеркивают значение региональных, «удельных» социальных единиц, созданных на основе отдельных племен и их административных центров.
Это важно учитывать, т. к. такая структура удельных княжеств в дальнейшем окажет решающее влияние на судьбу русской государственности в целом.
Усобица Святославовичей
Итак, дети Святослава Игоревича получают в наследство различные регионы Руси. Ярополк наследует Киевское княжество и вместе с ним великокняжеский престол. Это значит, что он становится главой всей Киевской Руси. Его брат Олег получает удельное княжество древлян, другой брат Владимир — Новгород.
Далее летопись повествует нам о походе Ярополка на Олега и о гибели Олега. Владимир, напуганный вначале наступлением Ярополка на Олега, покидает Новгород и бежит к варягам «за море», а затем вместе с варяжским войском возвращается на Русь, берет штурмом Полоцк, где он надругался над Рогнедой, ранее отказавшей его сватовству, и берет ее свой гарем, а далее идет на Киев. Ярополк укрывается в городе Родня на реке Рось, но не выдерживает осады, выходит навстречу брату, где его коварно убивают два варяга из свиты Владимира. Так Владимир захватывает великокняжеский престол и начинает проводить централизаторские реформы, о которых уже шла речь.
Важно заметить, что с этого исторического момента смерть почти каждого великого князя будет сопровождаться династическими распрями, усобицами, распределению уделов и последующими столкновениями князей между собой — в битве за Киевский престол или за иные стратегические цели.
Уже Владимир не просто получает Киев и власть надо всей Русью, но отвоевывает ее в боях с братом и основывает на братоубийстве. До него эту кровавую традицию начинает Ярополк, убивший другого брата — Олега (хотя и не так подло — отступающий с древлянами Олег была задавлен конем во вру).
Усобица Владимировичей и политика Ярослава
После смерти Владимира сценарий усобицы снова повторяется. И прежде чем наступает великое княжение Ярослава Мудрого, когда централизаторские реформы снова подчиняют себе центробежные тенденции, самому Ярославу приходится выдержать трудные испытания.
Владимир предполагал, что оставит великокняжеский престол Борису, против чего выступили Святополк и Ярослав, которому досталось Ростовское княжество, а позже (после смерти старшего брата Вышеслава) — Новгородское. По одной из версий, Святополк, который был сыном Ярополка, усыновленный Владимиром и который получил удел в Турове, захватил власть в Киеве и вероломно убил князя Бориса. После чего он расправляется с Муромским князем Глебом и древлянским Святославом. Борис и Глеб были признаны первыми русскими святыми-мучениками, а сам Святополк получил устойчивый эпитет Окаянный. Еще один сын Владимира, Мстислав, получил в надел самую южную территорию Тмутаракань, отделенную от основной теории Киевской Руси контролируемой кочевниками (печенегами) степью.
Ярослав, повторяя сценарий Владимира, обращается за помощью к варягам и побеждает воска Святополка под Любечем, выбивает Святополка из Киева. Святополк бежит в Польшу к Болеславу I Храброму, на чей дочери он был женат еще в бытность Туровским князем. Для усиления альянса Святополк заключает союз с печенегами, и в 1018 г. польские и печенежские войска занимают Киев, а Ярослав отступает в Новгород. Там он еще раз повторяет все тот же прием и через год возвращается под стены Киева с вновь набранным варяжским войском. Святополк бежит к печенегам и пытается снова захватить Киев. В битве на реке Альте он был разбит и бежал заграницу, и Ярослав остается единоличным правителем Киевской Руси, не считая своего брата Мстислава Тмутараканского.
Мстислав в период византийско-грузинской войны выступает на стороне византийцев и атакует алан, бывших союзниками Грузии. В составе аланского войска находились абхазо-адыгские дружины, называемые косогами. С вождем косогов Редедей вступает в личное единоборство Мстислав и побеждает в нем соперника. Этот сюжет прочно запечатлен в народной памяти и повторяется в многочисленных произведениях народного искусства.
В 1023–1024 годах Мстислав выступает против Ярослава и наносит ему сокрушительное поражение близ города Листвен на реке Руда. Мстислав устанавливает контроль над левобережьем Днепра (кроме Переяславщины), центром которого становится Чернигов. При этом по не очень понятным причинам Мстислав оставляет Ярославу великокняжеский престол и впоследствии выступает его союзником в походах на ясов (1029) и против ляхов (1031).
В результате усобицы между Владимиром и Мстиславом складывается устойчивая связь между Тмутараканским княжеством и северской землей с политическим центром в Чернигове. После смерти Мстислава в 1036 г. Ярослав остался единоличным властителем Киевской Руси. В этом же году он отразил печенегов, подошедших к Киеву, и больше они не решались повторить свои атаки.
Укрепившись на Киевском троне, Ярослав Мудрый проводит целый ряд централизаторских реформ, чем качественно укрепляет структуру государства. При Ярославе строятся храмы (в частности, храм святой Софии), переводятся с греческого на русский язык хроника Георгия Амартола и Кормчая книга. Ярослав публикует первый свод русских законов — Русская Правда. На Руси расцветает монастырская культура. Первый восточнославянский митрополит Илларион создает свое «Слово о Законе и Благодати», прославляющее деяния князя Владимира, принесшего на Русь христианство.
Таким образом, во второй половине своего правления Ярослав повторяет стратегию своего отца князя Владимира и стремится максимально укрепить единство русского государства как единого целого. Ретроспективно борьба с братьями со стороны Ярослава воспринимается как противодействие централизма удельному дроблению Руси.
Следует обратить внимание, что уже трижды повторяется один и тот же сценарий. Из Новгорода с опорой на варяжскую дружину приходят объединители Руси. Вначале это «вещий» Олег. Затем Владимир, потом Ярослав. Единство Руси и противостояние раздробленности и усобицам исходит с севера и опирается на все новые и новые варяжские (норманнские) военные отряды.
Социологическая специфика княжеств
После правления Ярослава Русь окончательно переходит в фазу удельных княжеств. Количество князей, имеющих претензии на великокняжеский престол и на удельные княжества, постоянно растет, что порождает непрерывные раздоры… Хотя в теории само наличие великокняжеского престола сохраняется на всем протяжении русской истории вплоть до установления царской власти в XVI в. в Московском царстве при помазании на царство Ивана IV.
После Любечского съезда в 1097 г. внуков Ярослава, когда князья решили «каждый да держит вотчину свою», состоялся, по сути, раздел Руси, но Владимиру Мономаху и его старшему сыну Мстиславу Великому снова удалось на определенный срок воссоздать государственное единство, окончательную утрату которого и, соответственно, начало удельного периода принято отсчитывать со смерти Мстислава в 1132 г. Единство государства уходит в прошлое и несколько веков и существует лишь номинально.
Некоторое время Киев оставался наиболее сильным княжеством. Киевский князь продолжал распоряжаться Туровским, Переяславским и Владимиро-Волынским княжествами. Обособились от Киева Чернигово-Северское, Смоленское, Ростово-Суздальское, Муромо-Рязанское, Перемышльское и Теребовльское княжества, а также Новгородская земля. Постепенно в каждом из этих княжеств (за исключением Киевского и Новгородского, а за Галицко-Волынское княжество после гибели Романа Мстиславича на протяжении около сорока лет шла война между всеми южнорусскими князьями, закончившаяся победой Даниила Романовича Волынского) складывались свои собственные династии и получали все больше автономных прав. Летописцы стали применять для них название «земли», которым ранее обозначались государства. Внутри княжеств образовывались дополнительные уделы, призванные служить «вотчинами» для различных ветвей уже удельных династий.
Среди всех княжеств следует особо выделить пять, отличающиеся разной этносоциологической спецификой.
Новгородская Республика: вечевая демократия
Новгород и новгородское княжество было построено на принципе вечевой городской демократии, в целом подобной греческим полисам и, в частности, Афинам. В Новгороде все влияние сосредотачивалось в руках богатых купцов (гостей), но на политические решения оказывало значительное влияние и городское вече, в котором принимали участие представители всех городских концов. Эти городские концы выступали как владельцы земельных хозяйств, расположенных вокруг города, и собирали с них дань. В Новгороде мы видим именно город/полис с развитым торговым сословием, с «буржуазной демократией» и с минимальным влиянием князей и аристократии (бояр и дружины). Князья выступали в отношениях с Новгородом как с политическим организмом на равных, заключая сделки и соглашения о совместных действиях, когда это было выгодно обеим сторонам. При этом жители Новгорода противились устойчивому установлению прочной династической власти, что проявляется в отсутствии постоянной ветви новгородских князей. Возможно, это явилось следствием сильного варяжского влияния, т. к. весьма сходные структуры мы встречаем в развитых германских (чаще всего портовых) городах Ганзейского союза.
Формула Новгородского княжества может быть выражена кратко так:
урбанизация – доминирующая вечевая демократия – торговое сословие – слабая аристократия – слабая княжеская власть.
Сходная модель существовала в Пскове.
Западнорусская аристократия
Совершенно иная социологическая картина обнаруживается в юго-западных княжествах Руси, особенно в Галицко-Волынском. Здесь существуют остатки древнеславянского вече, но преобладает аристократический тип общества. На Волыни и Галичине власть сосредоточена в руках военной знати — потомственного боярства. Влияние самого удельного князя зависит только от его личных качеств, но при любом удобном случае активные представители княжеских родов или даже боярства стараются бросить этой власти вызов. Данная социально-политическая модель более всего напоминает европейские феодальные государства того времени, с которыми Галицко-Волынское княжество соседствует и активно взаимодействует.
По одной из версий, такая особенность западнорусских княжеств связана с наличием среди славян большого количества сарматских элементов, что особенно заметно у белых хорватов, сближаемых иногда с аорсами. Нельзя исключить, что у белых хорватов и волынян были свои военные предводители, по аналогии с поляками и литовцами, оставшиеся от сарматских нашествий.
Формула Галицко-Волынской удельной модели может быть представлена таким образом:
аристократическое правление – слабое вече –
слабая княжеская власть – феодализм.
Владимирско-Суздальское княжество: прообраз московского самодержавия
Совершенно особая этносоциологическая картина складывается в самом восточном из русских княжеств — в Ростовско-Суздальском, а позднее Владимирско-Суздальском. Оно осваивается славянами позже других, а ранее является территорией расселения еще неславянизированных финно-угорских племен (меря и весь). Древнейшим центром этой территории был город Ростов Великий. В IX–X вв. туда двигаются русские переселенцы вместе с князьями и создают там — практически на пустом месте — русские города Суздаль, а затем Владимир. Специфика возникновения этих городов как княжеских поселений в отрыве от местного населения и от славянских землепашцев в округе придавала Залесским землям совершенно особый социально-политический стиль. Здесь была чрезвычайно сильна княжеская власть, которой было подчинены все остальные социальные формы. А вечевого института почти не было. Поэтому Ростовско-Суздальская, а позже Владимирско-Суздальская формула была такова:
сильная княжеская власть – слабая аристократия – очень слабое или вообще отсутствующее вече.
Социально-политическая структура Муромо-Рязанского княжества напоминала Владмиро-Суздальскую.
Южные земли Руси: военная демократия
На юге находились уличи и тиверцы, позднее потесненные кочевниками к северу, а совсем южнее — Тмутаракань, политически и династически связанная с Черниговом. В этой же зоне располагались поселения лояльных Киеву торков, берендеев, «черных клобуков». Южная и юго-восточная часть восточных славян, включая северян Черниговского княжества, а также славяне Тмутараканского княжества находились в более тесном контакте со степняками (индоевропейцами, черкесами и тюрками), и переняли от них ряд социальных и политических черт.
Основой здесь стал кочевой быт индоевропейских и тюркских народов, который позднее стал характерным социологическим признаком русского казачества, основанного на принципах военной демократии.
Эту южную формулу можно представить в виде:
военная демократия – кочевой быт – военные походы и набеги.
И, наконец, само Киевское княжество представляло собой синтез всех этих тенденций. Здесь мы видим баланс этих социально-политических типов. Киевская формула такова:
сильная великокняжеская власть – достаточно влиятельная аристократия – достаточно влиятельное вече – урбанизация – приезжие представители кочевых племен (например, косоги или черные клобуки).
В Киевском княжестве мы имеем формулу, обобщающую типологию удельных княжеств.
Показательно, что типы соответствуют четырем географическим точкам Древней Руси: Новгород — на севере; Волынско-Галицкое княжество — на западе; Владимиро-Суздальское — на востоке; Черниговское и Переяславское, а также пограничные со степью зоны — на юге; Киев же и само Киевское княжество — в центре всех русских земель.
«Народы», которые могли бы состояться
По мере обособления удельных княжеств, начиная с XII в., мы видим в них то явление, которое может быть описано как тенденции, направленные на формирования из этносов народов — по модели всего Киевского государства, но только на региональном уровне. По мере этнического смешения, социальной и политической дифференциации, сословного расслоения, выстраивания модели город–село и формирования удельных княжеских династий складывались внутри русского народа своего рода «удельные» народы. Частично их особенность проистекала из этнических черт местного населения. Частично это было следствием социально-политических особенностей сложившейся системы власти.
Теоретически процессы лаогенеза внутри удельных княжеств могли идти по четырем путям, в соответствии с выделенными нами социально-политическими типами. Большинство из этих «народов» не состоялось исторически, поэтому мы берем это слово в кавычки. Но эта несостоятельность стала результатом конкретных исторических событий, связанных с судьбой всего Русского государства в целом и окружающими народами и государствами, которым удавалось на разных этапах устанавливать контроль над русскими землями.
Новгородско-псковский «народ» формировался вокруг демократического города-государства с вечевой структурой и преобладанием торгового начала. В центре такого «народа» стояли этнически ильменские словене, заимствовавшие определенные социальные, культурные и хозяйственные черты от варяжских торговцев. Функции политического центра играли горожане, жители Новгорода. Это предопределило вечевую, демократическую форму правления.
На периферии новгородских земель располагались как славянские землепашцы, так и финно-угорское население, которые платили Господину Великому Новгороду дань. По сути, это была Новгородская Республика со специфическим этносоциологическим профилем и соответствующим «народом», из которого в Новое время вполне могла бы сложиться гражданская буржуазная «новгородская нация», если бы исторические события пошли по другому пути. Все предпосылки для этого в ранней истории Руси были и сохранялись вплоть до XVI в., пережив монгольские завоевания.
Другой «народ» мог сложиться на базе Галицко-Волынского княжества, с ярко выраженной аристократической системой правления, значительной урбанизацией с опорой на этнических волынян и остатки белых хорватов. В этом случае мы имели бы феодальное государство с доминацией аристократии общего восточно-европейского типа и земледельцами-славянами в основе. Этот волынско-галицкий «народ» представлял бы собой типичное для Восточной Европы образование с вероятным принятием католичества и воинственной «рыцарской» внешней политикой. Приблизительно таким и было Галицко-Волынское княжество при Романе Галицком и его сыне Данииле. Нечто подобное можно увидеть и в Полоцком уделе, а также в Смоленском княжестве. Показательно, что именно эти земли вошли позднее в Великое княжество Литовское, где преобладала именно такая социально-политическая парадигма. Но это государство образовывалась вокруг этнического ядра балтийского этноса литовцев, ставших ядром нового народа, а западнорусским людям оставалось только интегрироваться в этот народ на правах этноса или снова на правах этноса отстаивать свою самобытность и культурную идентичность.
Еще один «народ» мог сформироваться внутри Владимирско-Суздальского княжества, а также в близком к нему по структуре Рязанском княжестве. Здесь преобладала бы чисто монархическая власть с опорой на смешанное славяно-финно-угорское население сельского типа. Сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий много сделал для политической интеграции Ростовско-Суздальского княжества и его обустройства. Именно в период его княжения упоминается Москва, которой суждено было стать главным центром именно этого княжества, а затем и всего Московского царства. Незадолго до смерти он захватил Киевский великокняжеский престол, а его сын Андрей Боголюбский после захвата Киева вообще перенес во Владимир великокняжеский престол, сделав Владимир столицей всей Руси.
Именно владимиро-суздальский «народ» и стал в XIV–XV вв. народом без кавычек, т. к. с него и началось формирование великорусов, создателей следующих, послемонгольских этапов русской государственности, которым, в конце концов, удалось воссоздать не только Киевскую Русь в ее максимальных границах (как при Святославе), но и подчинить себе всю территорию северо-восточной Евразии.
Еще один «народ» с более расплывчатыми очертаниями мог сложиться на южных землях Руси, соседствующих со степью и ее кочевыми культурами. Ближе всего к этому были северяне Черниговского княжества, а также смешанное славяно-тюркское население, которое жило на южных рубежах Киевской Руси и принимало на себя удары степняков. Казачество как этносоциологическое явление точно соответствует такому типу.
Вопрос о феодализме Удельной Руси
В советском марксизме было принято считать Удельную Русь периодом установления на Руси феодализма. На самом деле это идеологическая натяжка, которая была необходима марксистам для того, чтобы втиснуть русскую историю в схему смены политэкономических формаций, идентичную истории Западной Европы. Если мы посмотрим на Удельную Русь непредвзято, то увидим в ней сразу несколько сосуществующих в рамках общего Киевского государства социально-политических систем. Новгородская республика соседствует с феодальной Волынью и Галичиной. Монархическое Владимиро-Суздальское княжество — с военной демократией южной Руси. В Киевском княжестве все эти тенденции соединяются в своеобразном и свойственном исключительно русской истории синтезе. Более всего при этом на феодализм похожи западные княжества — Галицко-Волынское и Полоцкое, которые располагались ближе всего к Европе. Но степные культуры и особенности этносоциологического ансамбля изначально варяжской княжеской династии, военной дружины, славян-землепашцев и лесных охотников финно-угров придавали русскому обществу — особенно на востоке и юго-востоке — совершенно уникальные свойства, которые позднее выразились в Московскую государственность.
Кроме того (и это самый важный аргумент) объем вотчинных хозяйств, которые, действительно, напоминали феоды с персональной властью господина над землями и людьми, их обрабатывающими, никогда не становился настолько значительным, чтобы говорить о преобладании феодальных отношений. Подавляющее большинство крестьянских хозяйств на протяжении всей русской истории не входило в состав боярских и дворянских вотчин. Они были свободными или полусвободными, но облагались общегосударственной (великокняжеской) данью, церковной десятиной и рядом других гражданских повинностей, обязательных для крестьянского и ремесленного сословия. Когда же Иван Грозный ввел поместный принцип, то количество вотчин еще сократилось, и поместья вместе с крестьянами выделялись аристократам не в «вечное кормление», а в награду за государеву службу и временно — пока боярский или дворянский род служит, как положено, и сохраняет лояльность Царю и Отечеству.
Феодальные хозяйства и феодальные отношения в Древней Руси были, и в Удельный период они распространились довольно широко. Особенно они затронули Западную Русь. Но даже там феодализма как такового не сложилось, поскольку общий баланс вотчинных земель и там никогда не достигал той критической пропорции, которая позволяла говорить о феодализме как о формации в истории Западной Европы. Пространство Западной Европы в феодальной период представляло собой почти сплошную череду феодов (включая владения церкви): переступая границу одного феода, мы попали бы почти наверняка на территорию другого. На Руси, и даже на Западной Руси, не говоря уже обо всей остальной, ничего подобного не было. Между одним вотчинным хозяйством и другим лежали гигантские пространства, на которых землю обрабатывали либо свободные крестьянские общины, либо они вообще никому не принадлежали. По мере движения к востоку и северу эти вотчинные территории становились все реже, что перечеркивает даже подозрение в возможности «феодализма» на Руси.
Конец древнерусского народа
Накануне монгольского вторжения Киевская Русь представляла собой совершенно раздробленное государство, внутри которого формировались отдельные княжества, каждое из которых обладало особой социально-политической системой, имело различную этносоциологическую структуру и управлялось (часто, но не всегда) удельной княжеской династией, склонной к еще большему дроблению, что приводило подчас к появлению полуавтономных уделов внутри самих удельных княжеств.
Этот процесс грозил разрушить единую государственность и расколоть древнерусский народ, проявивший себя в Киевской Руси, на несколько составляющих.
В некотором смысле так и произошло. Раздробленная Русь, погрязшая в усобицах, не смогла дать отпора монгольскому войску и стала жертвой монголо-татарского завоевания. При этом и в новых условиях, внутри монгольской государственности, русские князья не переставали враждовать друг с другом, углубляя в народе раскол.
Из того, что мы знаем о последующей истории, можно сделать вывод, что к моменту начала монголо-татарского завоевания древнерусский народ русичей прекратил свое существование как историческое и культурное единство, как исторический проект и общность, наделенная миссией. И в прежнем качестве он никогда более не возрождался. Однако память о Киевской Руси как о золотом веке русской государственности глубоко вошла в народное сознание и стала движущей силой русской истории на следующих этапах и применительно к другому народу, на сей раз великорусскому, который осознал Киевскую Русь как свои живые исторические корни и продолжил обозначенный изначально путь.
§ 3. Русь в эпоху монгольских завоеваний: этносоциологический анализ
Монгольский народ и монгольская империя
В конце XII в. среди монголов происходит стремительное становление народа из отдельных этнических групп. Это связано с деятельностью Темучжина, представителя некогда могущественного монгольского княжеского рода, потерявшего постепенно прежние позиции и вернувшегося к этническому образу жизни. Темучжин ломает этноцентрум своего племени, начинает серию военных действий с окружающими племенами, реорганизует монгольские кочевые племена по модели профессиональной армии и в скором времени добивается колоссальных успехов по строительству новой монгольской империи.
Вначале Темучжин покоряет соседние монгольские этносы и становится Чингисханом, верховным владыкой всех монголов. Затем он расширяет зону своих политических интересов и включает в новый быстро создающийся народ все новые и новые этнические группы. Те этносы, которые подчиняются Чингисхану, становятся частью его армии-народа. Тех, кто оказывает сопротивление, Чингисхан безжалостно вырезает. Так создается новый лаос — монгольский народ.
Татары были враждебным Чингисхану монгольским племенем, истребленным Чингисханом к 1202 г. Позднее этим термином стали называться некоторые тюркские этносы — в частности, камские болгары и половцы. Так имя монгольского племени, враждебного народу Чингисхана, вначале стало прилагаться к самим воинам Чингисхана, а затем к тюркским этносам, которые сами стали жертвой нашествия монголов, отчаянно сопротивлялись им, а затем оказались в роли их подчиненных.
Этническое ядро армий Чингисхана составляли именно монголы, но к ним быстро примкнула огромная масса степных тюрок. При этом степняки интегрировались именно в монгольскую армию, тогда как завоеванные монголами оседлые этносы лишь поставляли в эту армию ополченцев (на Руси их называли «числа»), а остальные формы лояльности поставлялись в виде дани.
Армии Чингисхана, а после его смерти — его наследников, захватывают Манчжурию, всю евразийскую степь от Тихого океана до Паннонии, Китай, владения хорезмского шаха, куда входила вся Средняя Азия, Афганистан и Персия, все Русские княжества, доходят до Сирии и Палестины на Ближнем Востоке (где терпят поражение от египетских мамлюков), захватывают Венгрию и доходят до Адриатики, откуда возвращаются назад. Так складывается мегаимперия, во главе которой стоят монголы как «руководящий этнос» (типичный случай создания государства через захват агрессивными воинственными кочевниками скотоводами обширных земель, населенных оседлыми земледельцами), а под ним оказываются не просто этносы, но огромная мозаическая структура, где сосуществуют как простейшие этнические группы, племена, племенные союзы, так и целые народы, государства, империи и цивилизации. Монголы надстраивают свою власть над сложнейшими и совершенно гетерогенными обществами и оказываются в роли правителей огромной и разнородной политически и этносоциологически территории Евразии.
В полном составе империя Чингисхана держится недолго: его дети и внуки становятся властителями лишь отдельных ее частей, повторяя общий сценарий распада большинства мегаимперий. Первое время еще существует система подчинения «удельных ханов» «великому хану», ставка которого вначале находится в Монголии, в Каракоруме, а затем переносится в Китай. Затем монгольская правящая династия Юань растворяется в китайской государственности (династия пала в результате восстания Красных повязок 1351–1368 гг.). Довольно быстро автономию получает улус Джучиев, куда входят западные территории империи Чингисхана, завоеванные его внуком Батыем от сына Чингисхана Джучи. Другими самостоятельным и элементами стали Чагатайское ханство (XIII в.) и государство Ильханов, а позднее гигантское царство Тамерлана, объединившее Хорезм, Афганистан, Персию, Южный Кавказ и Ирак.
На первых этапах все эти территории объединял монгольский народ, построенный Чингисханом по модели войска и организованный по правилам «Ясы» — свода законов, который Чингисхан составил сам и завещал своим потомкам. Впоследствии монголы стали правящими династиями в существовавших ранее государствах и тесно перемешались с другими аристократическими родами — китайцев, тюрок, персов и т. д. Большинство монголов растворилось в завоеванных народах и этносах, и лишь меньшая часть сохранилась и по сей день в виде этносов — таких, как собственно монголы, буряты и калмыки.
|
Монголы как руководящий этнос-династия |
||||
|
Типы обществ |
Империи |
Великие княжества |
Государства — Княжества |
Этносы, народы и языковые группы |
|
Примеры: |
Китайская империя Империя Хорезмшахов |
Владимирское (позже Московское) великое княжество Аланское царство |
Тангутское царство Камская Болгария Корея Венгрия Грузия Армения Камбоджа Чампу (Вьетнам) |
Китайцы Монголы Тюрки Финно-угры Индоевропейцы-туранцы Персы Корейцы Вьеты Адыги Нахско-дагестанцы Вайнахи Картвелы Армяне |
Схема 29. Монгольская мегаимперия
На схеме Монгольской мегаимперии видно (см. схему 29), что с этносоциологической точки зрения мы имеем дело с многоуровневой социальной системой, где друг на друга накладывается множество различных пластов — от самостоятельных империй и развитых дифференцированных государств до множества этнических групп, кое-где ставших народами, а кое-где остающихся в форме чистых этносов.
Этносоциология Золотой Орды
Теперь обратимся к улусу Джучиеву, Золотой Орде, созданному сыном Джучи и внуком Чингисхана Батыем, куда были включены завоеванные монголами русские княжества. Золотая Орда вначале была составной частью Монгольской мегаимперии и подчинялась верховному хану (платила ему дань и поставляла воинов для участия в новых военных походах), но позже постепенно автономизировалась и стала представлять из себя самостоятельное государство, управляемое монгольской династией Чингизидов, чтущих заповеди Чингисхана («белый завет») и законы «Ясы», но проводящих политику, основанную на своих собственных интересах. Так на 200 с лишним лет русский народ, поделенный на удельные княжества, оказывается в составе нового типа государственности, на сей раз не собственной, но установленной извне. Этот период принято называть «монголо-татарским игом», т. к. по сравнению с историческим опытом собственной государственности русские, видимо, восприняли монгольское владычество как «регресс», «катастрофу» и исторический «проигрыш».
Типологически можно сказать, что славяне снова вернулись к такой ситуации, когда они оказались данниками кочевых империй, центр которых располагался вне их территорий, как это не раз бывало в докиевский период. Разница состояла лишь в том, что теперь славяне знали, что такое свое государство, которого они лишились, и что такое историческое бытие, тогда как ранее они, видимо, воспринимали внешнее господства как нечто, не затрагивающее их этнического бытия. Теперь у русских было с чем сравнивать: еще жива была память о Киевской Руси, которая резко контрастировала с нынешним положением покоренного народа.
Политические и воинские элиты покоренных народов интегрировались в административный аппарат Золотой Орды и выполняли вместе с собственно монгольской знатью функции сборщиков дани и поставщиков «числа» — рекрутов на военную службу Золотой Орды.
Сама Золотая Орда представляла собой империю, в которую входило несколько царств или великих княжеств. Наряду с русским Великим княжеством к ней относилась Камская Болгария, Голубая Орда кипчаков, простиравшаяся от Каспия до Причерноморья, Белая Орда киргизов, занимавших земли к востоку от Каспия вплоть до Иртыша (южнее Сибирского ханства и Севернее Чагатайского) и территория Аланского царства на Северном Кавказе. Каждая из этих территорий представляла собой политическую единицу, в основе которой лежал тот или иной народ, сумевший ранее (до прихода монголов) объединить вокруг себя различные этносы и построить самостоятельное государство. Если все земли, завоеванные Чингисханом и Чингизидами были мегаимперией, то Золотая Орда была империей внутри этой мегаимперии, объединявшая под собой множество самостоятельных политических государств, устроенных весьма различным образом.
Столицей Золотой Орды был город Сарай, построенный в зоне северного Каспия, и все остальные политические центры были подчинены ставке ордынского хана, который выступал в роли «императора», «царя», тогда как правители подчиненных государств имели статус великих князей или просто князей — в зависимости от политического устройства каждого из них.
Итак, уже в Золотой Орде мы видим многослойную этносоциологическую модель имперского типа.
|
Монголы как руководящий этнос — династия |
|||
|
Типы обществ |
Великие княжества |
Государства — Княжества |
Этносы, народы и языковые группы |
|
Примеры: |
Русское великое княжество Аланское царство |
Камская Болгария Голубая Орда (кипчаки) Белая Орда (киргизы) |
Монголы Тюрки Финно-угры Индоевропейцы-туранцы (аланы) Адыги Нахско-дагестанцы Вайнахи |
Схема 30. Структура Золотой Орды как империи
Принципы «Ясы» в Золотой Орде
Судьба русского народа в монгольскую эпоху определялась рядом внешних и внутренних факторов. С одной стороны, большое влияние имело не зависящее от русских устройство самой Золотой Орды и ее социально-политический, культурный, религиозный строй, а также развитие самой ордынской политики, от которого русские поневоле зависели, а с другой — политические решения, принимавшиеся теми или иными великими князьями и удельными князьями. Огромную роль играли княжеские распри, к которым на разных этапах подключались и монголы. Поэтому в целом историческая картина этого периода чрезвычайно запутана и требует детального рассмотрения. Мы же обратим внимание только на самые основные моменты этносоциологического устройства Руси в монгольский период.
В первую очередь, следует обратить внимание на ценностную систему Золотой Орды, являвшуюся монгольским кодексом, отраженную в общих чертах в «Ясе» Чингисхана. На русских это не могло не оказать влияния, т. к. и политические элиты и сам народ — особенно в Восточной Руси — тесно пересекались с монголами на протяжении более чем 200 лет. Смысл «Ясы» Чингисхана701 сводится к следующим принципам:
– абсолютизация военного духа;
– провозглашение преобладающей воинской завоевательной героической этики надо всеми остальными культурными формами;
– полное отождествление общества и войска, армии;
– требование тотального послушания начальству;
– воспевание мужества, храбрости, выносливости и иных военных доблестей;
– презрение к мирному труду, изнеженности, оседлым и особенно городским формам существования;
– прославление крайней жестокости к противнику;
– ненависть к предательству и императивному наказанию за него;
– предпочтение смертной казни за любые формы серьезных нарушений закона;
– ограничение в еде, пьянстве и наслаждениях;
– тотальная обязательная веротерпимость в отношении всех религий и категорическому отказу от поддержки в какой-то одной веры в ущерб другой;
– постановка служителей религиозных культов вне общих правил и сохранение им жизни и свободы даже в случае поголовного истребления населения тех стран и обществ, к которым они относятся.
Этими принципами так или иначе руководствовались почти все золотоордынские ханы, положившие эти установки в основу своего правления. Исходя из них, монголы строили свое государство как армию, которая постоянно участвовала в военных походах, завоевывая новые земли или отражая удары противника. Война в Золотой Орде стала синонимом жизни, бытия. Нормативом был воинский аскетизм, сила и мужество. Порядок наводился самыми беспощадными методами: известна жестокость карательных экспедиций монголов в отношении тех, кто бросал вызов их власти и восставал против нее, искал союза с другими политическими силами или отказывался платить дань. В этих случаях монголы были беспощадны.
Этот героический стиль русские за двести с лишним лет вполне усвоили и в дальнейшем стали строить свою государственность именно на такой ценностной системе.
Вместе с тем, чрезвычайно важным моментом «Ясы» было императивное уважение к религиям. Это заставило ханов Золотой Орды поддерживать те верования, которые существовали на ее территории, никогда не вмешивая в эти вопросы политические интересы. Монголы охраняли веру своих подданных независимо от того, каковая была их собственная. Когда хан Берке принимает ислам, хан Сартак исповедует христианство, а хан Тохта обращается к шаманизму — они не распространяют свой выбор на подданных, позволяя им следовать своим религиозным традициям. Когда же хан Узбек принимает ислам, и именно эта религия становится главенствующей в Золотой Орде, и в этом случае — в резком противоречии с практикой многих исламских обществ, он не только не навязывает ислам своим поданным, но поддерживает Сарайскую епархию Русской Православной Церкви и даже не ограничивает проповедь православия среди монгольской знати.
И наконец, важнейшим элементом золотоордынской системы является почитание самого хана, который воспринимается не просто как административная инстанция, но как носитель абсолютной и непререкаемой власти, не сопоставимой с компетенцией всех остальных нижестоящих аристократов. Для монголов хан не первый среди равных, но абсолютный центр общественной системы, и все остальные представители знати не более чем его верные слуги, «холопы». Хан может в любой момент низвести любого из высшей ордынской знати, казнить его, превратить в ничто. Перед ханским могуществом нет никаких преград и никаких аргументов — без такого беспрекословного подчинения невозможно вести войну и построить общество-войско.
Ассимиляция и использование русским обществом ордынских социальных начал
На практике перечисленные принципы золотоордынского общественного устройства сформировали важнейшие черты будущего Московского царства. Благодаря веротерпимости русские сохранили и многократно укрепили свою православную идентичность. Религия стала в этот период тем, что делало народ народом, т. е. позволяло ему быть самим собой в условиях, когда государственная независимость была утрачена. Если в Киевской Руси народом вначале было создано государство лишь затем оно было укреплено принятием православной религии, то в ордынский период православие становится осью народного бытия, позволяет русским осознавать себя русскими — отличными как от остальных ордынцев, так и от внешних сил. Скорее всего, как будет явствовать из дальнейшей, постордынской истории, именно в эти двести с лишним лет произошло глубокое усвоение русским народом православных начал, изучение священного писания, ассимиляция православной этики. Русские увидели, что история имеет религиозно-моральное измерение — за грехи следует расплата, за распри — утрата свободы и иноземное иго, за прохладное отношение к вере — рабство в контексте чужой культуры.
Поэтому веротерпимость «Ясы» напрямую способствовала религиозному вызреванию русской идентичности. В этот период ига русские становятся полноценно православным народом, наделенным религиозной миссией. Представление об истории отныне окрашивается в христианские тона, русский народ начинает осознавать себя «народом-богоносцем».
Совершенно иное, но не менее сильное влияние оказывает и воинственность Золотой Орды, идея народа-армии, общества-войска. При всех впечатляющих успехах Киевских князей русские в своей массе оставались мирным народом, в котором преобладали ценности общинного земледелия, священного крестьянского труда. Существование в условиях постоянных угроз и необходимость их отражения стало особенно харктерным для русских в монгольский период. В конечном счете, в народе вызрела идея, что если русские хотят освободиться от монголов, необходимо стать такими же как они — народом-армией. Это осознание приходило постепенно и глубин этноса явно не достигло до сих пор, но чувство исторической тревоги и готовности встретиться лицом к лицу с опасным врагом все же повлияло на русское самосознание и обеспечило мобилизацию населения на самых разных периодах русской истории. Русские так и не стали народом-воином, обществом–армией, но обществом-ополчением стали.
Важнейшим результатом для социологической структуры русского общества стал принцип абсолютной ханской власти, ранее не известный русским во всей его полноте и радикальности. Каким бы ни был престижным титул великого князя, он все же оставался в глазах других князей не более чем первый среди равных. Великокняжеская династия обладала неоспоримым авторитетом, но никогда в русской истории обычные князья не рассматривали великого князя (даже если он был их отцом или старшим братом) как своего прямого начальника, а себя перед его лицом как простого подчиненного. Великокняжеский дом был семьей избранных, но его глава не был абсолютным правителем. Даже самые жесткие и авторитарные князья — такие как Святослав, Владимир, Ярослав, Владимир Мономах или Андрей Боголюбский — никогда и близко не приближались к тому ареолу абсолютной власти и беспрекословного подчинения, которым обладал ордынский хан. Познакомившись с такой формой власти, Владимирские, а позднее Московские князья сделали для себя очень важный вывод: если требуется сохранить единство великого государства, необходимо установить именно такую модель управления, когда верховный правитель не просто первый среди равных, а превосходит всех, кто находится вплотную к нему (включая своих родственников и детей) в той же степени, в которой он превосходит простых смердов.
Вот эти три аспекта золотоордынского социального устройства и особенности политической власти оказали на русский народ огромное влияние, значение которого со временем не стерлось и продолжает быть важным социологическим фактором вплоть до сегодняшнего дня.
Два пути русских княжеств в монгольский период
Все перечисленные моменты монгольского влияния дали о себе знать не сразу, но постепенно, по мере знакомства русских с ордынским укладом на протяжении 200 с лишним лет. Все это время на самой Руси продолжались раздробленность, распри между удельными князьями, стычки друг с другом более мелких князей и битвы за великокняжеский престол (у Московских князей это право оспаривают Тверские князья, что в одно время им удается). Создается впечатление, что по-настоящему никакого вывода — особенно на первом этапе — русская элита из монгольского завоевания не сделала и продолжала свое обычное существование, только теперь под эгидой монголов, чьими представителями и сборщиками дани они теперь стали.
При этом все яснее обозначалась граница между Западной Русью и Восточной Русью. К Западной Руси относились Полоцкое, Смоленское, Галицко-Волынское княжества, а также территории княжеств Киевского, Переяславского и часть Черниговского. К Восточной — Владимиро-Суздальское княжество, Рязанское, Новгородское и восток Северской земли. Практически все эти территории (кроме Угорской Руси и Полоцкого княжества), платили дань Золотой Орде и входили в ее территории. Но политически и социологически судьба этих двух половин Руси постепенно расходилась.
Образцом для Западной Руси можно считать поведение князя Даниила Галицкого накануне монгольского вторжения702. Даниил считал, что для отражения монголов необходимо заключить стратегический союз со странами Западной Европы, что он и попытался осуществить на практике. После того как идею военного союза с галичанами против монголов не поддержали ни в Венгрии, ни в Польше, куда князь Даниил обращался за помощью, он отправляет послов к Папе Римскому. Признав власть Батыя, Даниил еще несколько раз пытался выйти из-под монгольской власти, и для этого он принял католичество и короновался как католический король присланным венцом в Драгочине (1255). При этом он попытался вовлечь в антимонгольскую и прокатолическую коалицию брата Александра Невского, великого князя Андрея, стараясь объединить Западную и Восточную Русь против моголов с опорой на Западную Европу и католичество. Этого ему не удалось осуществить, т. к. великокняжеский престол во Владимире с опорой на Сартака, сына ордынского хана, занял Александр Невский, изгнав брата Андрея. Вскоре после этого новые монгольские отряды принудили Даниила срыть укрепления и признать полностью монгольскую власть.
Великий князь Александр Невский, начавший свое княжение князем Новгородским и отличившийся тем, что отразил наступление немецких рыцарей на Русь, с самого начала монгольского владычества сделал ставку на сотрудничество с монголами. Это был выбор, прямо противоположный выбору Даниила Галицкого, стремившегося объединить Русь под прозападной католической эгидой. Александр Невский поставил своей целью укрепление Руси, отталкиваясь от Владимирской земли, куда Андреем Боголюбским был перенесен великокняжеский престол. Тем самым он положил начало строительству будущей Московской Руси. Формулой его княжения было — союз с монголами и лояльность им и борьба с Западом и с католическими притязаниями Римских Пап и лояльных им государств (в частности, Тевтонский орден).
Здесь мы имеем дело с субъективным политическим фактором в истории. Даниил Галицкий и Александр Невский представляют собой два вектора развития русской истории, подошедшей к точке развилки. Надо было делать выбор — Запад или Восток? С социологической точки зрения это означает: сохранять ли верность православной идентичности и принимать ли монгольскую модель воинственного общества и абсолютистской власти или принимать католичество, интегрироваться в Западную Европу и принимать аристократически-феодальную модель, свойственную европейским государствам того времени?703 Ответ был далеко не очевиден. И Западная Русь, и Восточная находились под властью Золотой Орды, и проверить, кто в этой ситуации прав, было невозможно: любые попытки сбросить монгольское иго в эпоху расцвета Орды автоматически приводили только к жесточайшим репрессиям, т. к. расценивались ханами как предательство, а по законам «Ясы» это было самым страшным грехом и преступлением, требующим тотального уничтожения всех виновных и их близких. Этот ответ был отложен на несколько столетий, и две половины Киевской Руси последовали в двух разных направлениях.
Западная Русь в той или иной форме выбрала путь Даниила Галицкого. Восточная Русь — путь Александра Невского. Конечно, следует учесть, что и в Западной Руси не было полного единства и одобрения политики Даниила, и в Восточной и Северной Руси далеко не все разделяли линию Александра Невского. И там и там шли непрерывные склоки и раздоры. Но в целом эти два вектора предопределили две ориентации, и, по сути, стали полюсами для последующих этносоциологических процессов — в зонах Западной и Восточной Руси в эпоху монгольских завоеваний из останков единого древнерусского народа и в большинстве своем славянских этносов, трансформировавшихся в ходе предыдущей истории и приобретших новые свойства, постепенно формируются два кандидата на народ — западнорусский и восточнорусский. Позднее западнорусский народ получит название «белорусов» (на севере) и «малороссов» (на юге), а восточнорусский народ станет называться «великороссами». До этого момента пройдет еще несколько напряженных веков, полных исторических событий, но основные характеристики обоих направлений видны уже в исторических жестах двух знаменитых и почитаемых русских князей — Александра Невского и Даниила Галицкого.
Возвышение Москвы
Владимирская Русь с эпохи Александра Невского становится центром становления великорусского народа. Постепенно центр внимания переносится в Москву. С князя Даниила Московского, сына Александра Невского, берет свое начало династия московских князей. Даниил Московский, как и вся последующая линия московских князей, наиболее последовательно продолжает традиции Александра Невского, стремясь всячески укрепить, расширить и обстроить Великое княжество Владимирское, позже Московское, сохраняя при этом лояльность Орде, верность православию и настороженность в отношении Запада704.
При Данииле Московском к Московскому княжеству присоединяется Переславль. Его сын Юрий Данилович присоединяет Можайское княжество. В этот период разгорается спор между Тверскими и Московскими князьями за великокняжеский ярлык, который развертывается с переменным успехом. Другой сын, Иван Данилович Калита, добивается еще больших успехов в расширении Московских владений, покупая или присоединяя силой многие русские города и области в основном на севере страны — Углич, Галич Мерский, Белоозеро. Иван Калита интегрируется в ордынскую элиту, жестко собирает дань для хана с русского населения, подчиняет себе окружающие княжества, получает ярлык на великое княжение. Уже митрополит Максим, предшественник митрополита Петра, переносит престол из Киева во Владимир, а при Иване Калите в Москву из Владимира переносится митрополичья кафедра митрополита Петра, и с этого момента Москва становится центром русского православия. Окончательно этот религиозный статус Москвы закрепляется при следующем митрополите Киевском и Всея Руси Феогносте.
Дети Ивана Калиты, великие князья Симеон Гордый и Иван II Красный, действовали в том же ключе, укрепляя Москву, тесно сотрудничая с монголами и стараясь максимально усилить русское православие.
Следующим митрополитом после Феогноста становится этнический русский Алексий (что было большой редкостью, т. к. чаще всего митрополиты Киевский назначались Константинопольским патриархом из греков). Митрополиту Алексию суждено было сыграть большую роль во внешней политике Московского княжества при Иване Красном и Дмитрии Ивановиче Донском. Целью его деятельности было усиление православного влияния в языческой в то время Литве и препятствие расколу русской церкви и искусственной организации параллельной западной митрополии в землях Великого княжества Литовского. Митрополит Алексий стал опекуном Дмитрия Донского и помог ему сохранить и удержать великокняжеский престол.
Дмитрий Донской вошел в историю своей победой над ордынском войском Мамая на Куликовом поле, когда русские войска впервые за всю историю орды продемонстрировали свою способность побеждать монголов и их войско. Многие историки видят в этом переломный момент становления великорусского народа, Так, Л. Гумилев писал: «На Куликово поле пошли рати москвичей, владимирцев, суздальцев и т. д., а вернулась рать русских, отправившихся жить в Москву, Владимир, Суздаль и т. д. Это было началом осознания ими себя как единой целостности — России»705.
После 1380 г. пройдет еще около ста лет, пока Москва окончательно не освободится от монгольского ига, хотя после Куликова поля роль Орды существенно снизилась. Сама Орда стала слабнуть и превратилась из не подлежащего сомнению высшего имперского начала в сильное и могущественное, но клонящееся к закату государство, от которого Москва все еще зависела и которому платила дань («выход»), но которое уже не предопределяло ее судьбу.
После победы над Мамаем власть в Золотой Орде захватывает Тохтамыш, ставленник Тамерлана. Осень 1382 г. монголы снова пришли на Русь, спалили дотла Москву и разорили все княжество. Дмитрий Донской был вынужден снова признать власть Сарая. Но в своем завещании Дмитрий Донской уже пишет: «А переменит Бог Орду, дети мои не имут выходу в Орду платить»706, предвидя тот уже близкий момент, когда Русь будет свободным самостоятельным государством.
Сын и внук Дмитрия Донского, московские великие князья — Василий I Дмитриевич и Василий II Васильевич (Темный) — продолжали укреплять Московское княжество и вести параллельно этому усобные войны с удельными князьями. Но при сыне Василия II Иване III более чем двухсотлетний путь Восточной Руси, заложенный Александром Невским, достигает своей кульминации. Орда окончательно падает, а практически одновременно с этим турки-османы захватывают Константинополь. Московская Русь становится свободной державой и последним оплотом мирового православия.
Так завершается вызревание великоросского народа, который сложился в монгольский период из восточной части древнерусского народа — жителей восточных и северных княжеств Руси (Владимирско-Суздальского, Рязанского, Тверского, Новогородского).
Этот народ — великороссы — имел в своей основе преимущественно славянское население со значительной долей финно-угорского этноса. При этом за столетия государственности прочно сложилась политическая элита, состоящая из княжеской династии Рюриковичей, древнего боярства, а также значительного числа тюркской, монгольской, литовской знати, интегрированной в правящий класс в ходе исторических и политических перипетий.
Важнейшим скрепляющим этот народ — и в массах и в элитах — элементом было православие.
При этом огромное влияние на него оказало политическое и социальное устройство Золотой Орды — как «Ясы» Чингисхана, так и тюркского воинственного начала, поскольку тюрки были самым многочисленным населением среди множества этносов Золотой Орды.
§ 4. Литва и славяне
Древние балты
Теперь рассмотрим Западную Русь и судьбу второй половины древнерусского народа в ордынский период. Как мы видели, она также попала под власть монголов и выплачивала им дань. Проект союза с католической Европой и освобождение Руси от монголов князя Даниила Галицкого, не удался, но, в конце концов, в другом контексте, его проекту суждено было осуществиться. Однако на практике оказалось, что это воплотили в жизнь не славяне, а жившие неподалеку от них балтийские племена. Славяне же оказались на вторых ролях, и, в конце концов, заплатили за этот выбор слишком большую цену.
Западная Русь стала основой Великого Княжества Литовского.
Литовцы представляли собой группу этнических балтийских этносов — аукшайтов, жемайтов, ятвягов, селов, а также какие-то части скальвов и пруссов. Этнологическая история балтов до сих достаточно слабо изучена, и полной ясности в периодизации их древнейшей истории и структуре их обществ нет. Очевидными являются лишь следующие моменты707:
– балты относятся к индоевропейской языковой группе, причем столь же архаичной, как архаичен древнеиндийский санскрит;
– культура балтов была чрезвычайно архаичной и сохраняла уникальные черты даже в довольно поздние эпохи (среди европейских этносов балты дольше всех и упорнее всех придерживались языческих воззрений;
– балты преимущественно практиковали земледелие и использовали в хозяйстве крупный скот (лошадей, быков);
– характерной особенностью балтийских этносов была добыча и сбыт янтаря;
– балты жили на территории современной Прибалтики, Пруссии, Белоруссии и частично северной Руси, скорее всего, до прихода славян;
– балты имели воинскую касту и племенных вождей, т. е. представляли собой стратифицированное общество.
С точки зрения этносоциологии последнее свойство — наличие вождей
и профессиональных воинов — резко выпадает из общего описания балтов как этнических групп, т. е. койнем. Наличие у древних балтов сословно-кастовой стратификации выпадает из общей картины. Племенные вожди бывают либо у кочевых этносов, промышляющих скотоводством (кочевники евразийских степей), либо у военизированных маскулинных племен, подвижных, агрессивных и организованных по типу воинского отряда (как в случае европейских и скандинавских германцев). Но в этом случае широкое распространение земледелия может свидетельствовать только о наличии ранней полиэтнической структуры, объединившей когда-то разные этносы в общем лаогенезе (политическом, религиозном или цивилизационном). Относительно балтов у нас нет сведений, позволяющих достоверно утверждать у них существование древнейшей государственности, общей и четко структурированной религии или высокоразвитой и оригинальной цивилизации.
То, что известно о балтах — это их резкое отличие от близких к ним территориально финно-угорских народов, а также от славян и от германцев. Поэтому вопрос о происхождении древнейшей балтийской знати, о которой свидетельствуют как особые типы захоронений, так и упоминания первых документальных свидетельств, остается нерешенным. А вместе с тем, именно с этой особенностью, заставляющей предполагать в балтах не просто группу этносов, но остатки некогда единого народа, о котором практически ничего не известно, связаны определенные переломные моменты как в собственно литовской, так и, шире, русской и европейской истории.
Пруссы, латы и литовцы
Древние балты тесно соприкасаются со славянами на северо-западе. При этом в IX в., когда создается Киевская Русь и славяне осознают себя народом, балты остаются отдельными этническими группами. Вероятно, часть из них оказывается в определенной зависимости от русских князей, правивших в Полоцке. До XII в. о балтах есть только обрывочные упоминания. Подробнее всего известна история западных балтов, пруссов, которые подвергаются систематическому уничтожению со стороны немцев-католиков, стремящихся обратить их в христианство. Язычники-пруссы отчаянно сопротивляются. В конце XII в. создается Тевтонский орден, а в 1202 г. в Риге аналогичный ему Орден Меченосцев, получивший название Ливонского. Задача обеих католических орденов, образованных на основе германской военной аристократии — покорение балтийских этносов и обращение их в католицизм.
Здесь балтийские этносы разделяются на три части. Самые западные — пруссы — несмотря на ожесточенное сопротивление, оказываются раздавленными тевтонцами, и на месте их расселения создается немецкое государство — Пруссия. Язык исчезает, остатки пруссов ассимилируются немцами.
Вторая ветвь, где преобладают летты, живущие в северо-восточных землях, оказываются под властью Ливонского ордена, признают его владычество и сохраняются как этнос в составе государственности, опирающейся на германских крестоносцев. По большей части они принимают религию тевтонов. Потомками их являются современные латыши и латтгалы.
Третья группа балтийских этносов, проживавшая между пруссами и летами, постепенно организует собственную государственность, вначале чрезвычайно скромную и зависимую от западнорусских князей, затем все более и более активную. Речь идет о литовцах.
Происхождение литовской знати и гипотеза Европейской Сарматии
Здесь сказывается важнейший этносоциологический момент: наличие у балтов собственной знати. Происхождение этой знати не может быть достоверно изучено. Исходя из теории Uberlagerung («наложения») и принципа «инородческой элиты», с которыми мы сталкиваемся постоянно как в истории Древней Евразии, так и русской государственности, в основе балтийских князей должны наличествовать инородческие корни. Поэтому для объяснения феномена Литовского княжества просто необходима гипотеза о том, что балты ранее входили в какую-то форму государственности и были составной частью народа (лаос). Реликтами этого не известного современным исследователям периода и являлась балтийская знать, сохранившаяся даже тогда, когда основные группы балтов жили в условиях этноса. Этой знатью, скорее всего были все те же варяги, которые постоянно посещали Балтийские берега и, вполне вероятно, включили балтийские племена в состав своих часто эфемерных варяжских государств — так же, как намного позже эти же племена поставили под контроль крестоносцы и, частично, полоцкие князья. Мы не знаем ничего об этой древней литовской, или прусско-литовской, государственности. Но она должна была быть, и ее верным следом является наличие у литовцев собственных княжеских династий.
Чтобы восстановить отсутствующие у нас исторические данные, представим себе гипотетическую ситуацию, что документальные сведения о Киевском государстве у нас сохранились лишь с конца XII — начала XIII вв. Мы имели бы разрозненные княжества, управляемые удельными князьями, чаще всего носившими русские имена. И мы могли бы вполне принять их за собственно славянскую знать, и точно так же пришлось бы гадать, откуда она взялась у мирных оседлых славян-землепашцев. Но благодаря летописям и историческим источникам из Европы, Византии и Ближнего Востока, мы видим всю картину — приход варягов, формирование варяжской знати, создание единого народа и государства, а затем славянизация элиты и распад государства на удельные княжества.
В случае литовцев явно происходило нечто подобное, быть может, в смягченной форме. В любом случае литовская знать и профессиональные литовские воины, которые встречаются в особых типах воинских погребений, должны были иметь особое этническое происхождение. А тот факт, что они носят, появившись в истории, литовские имена, не должен нас сбивать с толку — вспомним славянизацию имен варяжских князей в ранней истории Киевского княжества.
Итак, прусско-литовские племена были не просто чистыми этносами, но реликтами какого-то народа (лаоса) и какой-то государственности, существовавшей на территории Пруссии и Литвы в более древний период.
В качестве гипотезы можно допустить ее сарматское происхождение. Эта теория известна как теория «Европейской Сарматии»708. Одним из первых эту теорию выдвинул Я. Длугош. Затем ее развили Л. Корвин в «Космографии» (1496), относивший к Европейской Сарматии Полонию (Польшу), Мазовию, Пруссию, Литву, и Ян из Стовбниц, добавивший к этому еще и Жемойтию, Курляндию и Ливонию. Близкие взгляды высказывались в поэме Я. Висклицкого «Прусская война» (1516), в «Трактате о двух Сарматиях» Мацея из Мехова (1517), в трудах дипломата и поэта Я. Дантышека, историка Е.Д. Леция и др. Легенды о Сарматии как о родине народов Восточной Европы и о сарматах как предках славянских и соседних с ними народов стали идеологическим обоснованием государственной унии Польши и Великого Княжеского Литовского, а после 1569г. — существования полиэтнической и поликонфессиональной Речи Посполитой. Окончательно сарматизм как этногенетический миф оформился в трудах М. Бельского «Всемирная хроника» (1551) и «О происхождении и истории поляков» М. Кромера (1555). А. Гванини в «Хрониках Европейской Сарматии» (1578) называет Речь Посполитую Сарматией709.
Великое княжество Миндовга
Как бы то ни было, на балтов к XII в. со всех сторон оказывают давления уже состоявшиеся и довольно развитые формы народов, образовавших государства и принявших христианство. На западе — это немцы и поляки. К югу и востоку от балтов — это Киевская Русь (к тому времени это не просто состоявшееся государство с письменностью, социальной стратификацией и наследственной знатью, но и полицентрическая удельная система). К тому моменту, когда литовцы начинают создавать свою государственность и становятся народом в полном смысле слова (как первой производной от этноса), соседние с ними и оказывающие на них значительное влияние русские разделяются на удельные княжества и вот-вот будут захвачены армиями Чингисхана.
В 40-х гг. XIII в. происходит важное событие: одному из литовских князей — Миндовгу — удается сплотить вокруг себя остальных князей и провозгласить себя великим князем. Вначале столицей провозглашенного Великого княжества Литовского являлся Новогородок (Новогрудок), расположенный в зоне верхнего Понеманья на Полоцкой земле. При этом, очевидно, литовцы к 1252 г. смогли не просто освободиться от контроля Полоцких князей, но и подчинить часть территории нынешней Беларуси710.
Великий князь Литовский Миндовг принимает католичество и ведет войны с Ливонским орденом на севере и Волынско-Галицким княжеством на юге. Миндовг получает от Папы Римского право короноваться королем Литвы. При этом на Миндовга оказывали влияния и православные. Так, его сын Войшелк отказался короноваться королем (Западной) Руси и предпочел стать православным монахом (принял постриг в монастыре в Галиче) и посетил Афон. К 1255 г. Миндовг разочаровался в католичестве, совершил поход на польский город Люблин, и Папа вынужден был объявить Крестовый поход против Литвы. В 1260–1263 гг. он официально отказался от католичества и стал называться, как и прежде, в русском стиле «Великим князем Литовским».
Великое княжество Миндовга представляет собой переломный момент в истории. Мы видим появление литовского народа как исторической общности. Этот народ, как и всякий народ (первая производная от этноса), является полиэтническим и имеет социальную стратификацию. В Великом княжестве Литовском мы видим различные этнические группы балтов и славян, объединенные великокняжеской властью и военной элитой. С самого начала Литва создается на землях, густо населенных западными славянами — потомками дреговичей, кривичей, радимичей и полочан. Ранее здесь также славяне жили бок о бок с балтами, поэтому на уровне масс славяно-балтское смешение не просто начинается, но продолжается, становясь более интенсивным. Если ранее доминировала славянская составляющая, то теперь на уровне государства начинает преобладать балтийская. Так как русский (славянский) язык имеет письменность и выступает как койне для всей Киевской Руси, частью которой являлось Полоцкое княжество, то именно как койне он распространяется и в Литве. Позже, по мере расширения границ Великого княжества Литовского в результате включения в него все большего числа русских земель, русский язык становится общегосударственным.
При Миндовге мы видим в Литве три ориентации, выражающиеся в религиозных конфессиях. Это язычники, православные и католики. Эти три религии отражают в данном случае три геополитические ориентации. Язычество характерно для ядра литовской знати и этнических балтов как их архаическая идентичность. Это идентификация этнического ядра «руководящего этноса».
Православная партия ориентируется на русских и поддерживается как славянским населением Западной Руси, так и славянизированной аристократией.
Католическая партия предполагает сближение Литвы с Европой — тевтонским и Ливонским орденами, Польшей и Римом.
Все эти три тенденции будут играть свою роль в истории Великого княжества Литовского на разных этапах, а, следовательно, их баланс скажется на судьбе русских.
От Миндовга до Ягайло: возможность Западной Руси
Великое княжество Литовское начинает свое возвышение в момент монгольского нашествия. Русь утрачивает свою политическую независимость, а Литва, напротив, только ее обретает и создает свое государство.
Монголы захватывают всю Русь, в том числе и Западную, и до середины XIV в. считают ее своей полноценной территорией711. Так, хан Узбек в 1340 г. считает своим долгом защитить Галицию как часть Золотой Орды от нападения польского короля Казимира Великого.
Со смерти Миндовга и до окончания правления Гедимина (1341), основавшего новую династию (сам он происходил их жмудского рода князей Эйрагола), большинство западнорусских земель остается под властью Орды, а в самой Литве сменяют друг друга различные князья с разными политическими и религиозными ориентациями. При этом сами великие князья вплоть до Ягайло остаются язычниками, с крестоносцами ведется постоянная война, а количество попадающих в зависимость от Литвы русских земель и, соответственно, рост славянского православного населения, включая легко интегрирующуюся в политическую элиту русскую знать, приводит к тому, что при Гедемине две трети Литвы являются русскими, а русский язык становится доминирующим. Параллельно растет влияние православия.
После смерти Гедемина Великое княжество Литовское чуть было не распадается на удельные княжества, т. к. его территория распределяется между его 8 сыновьями. Лишь благодаря совместным действиям двух братьев Ольгерда и Кейстута удается удержать страну от распада и начать с новой силой наступление во всех направлениях — присоединение к Литве русских территорий (установления контроля над Киевом, Брянской и Черниговской землями, а также попытки подчинить Псков и Новгород), постоянную борьбу с Орденом и (что принципиально важно) первую победу над монголами (разгром крымских татар и захват Подольской земли). В 1363 г. Ольгерд разбил силы трех монгольских князей у Синих Вод вблизи устья Буга и вышел к берегам Черного моря, хотя после смерти Ольгерда его сын, князь Владимир Ольгердович Киевский, вынужден был снова признать ханский сюзеренитет и выплачивать ему дань.
Земли княжества при Ольгерде простирались от Балтики до Причерноморских степей, восточная граница проходила примерно по нынешней границе Смоленской и Московской, Орловской и Липецкой, Курской и Воронежской областей. Во время его правления в состав государства входили современная Литва, вся территория современной Белоруссии, часть Украины.
До 1385 г. (принятие великим князем Ягайло, сыном Ольгерда, Кревской унии) Великое княжество Литовское представляло собой языческую литовскую династию, смешанную литовско-русскую элиту, с преобладанием русского православного боярства (часть литовских бояр также принимала православие), остававшимся языческим литовским этническим меньшинством, русско-славянским православным большинством и другими этническим и группами — такими, как романоязычные потомки даков молдаване, смешанные с тиверцами и уличами. В этой этносоциологической конструкции мы имеем дело с одним литовско-русским народом и несколькими этническими группами, в котором преобладали — культурно, религиозно и лингвистически — славяне.
В этот период от Миндовга до Ягайло сохранялась возможность воссоздания Киевской Руси с Запада под владычеством литовских князей, часть из которых склонялась к принятию православия (например, великие князья Войшелк и Тровтивил). Влияние Золотой Орды на Западную Русь после падение Ногая, опиравшегося на ее западную часть, постоянно сокращается, и Литва восстанавливает в целом границы Киевской Руси за вычетом восточных и северных земель. Но до определенного момента и восточные князья смотрят на этот процесс с определенной симпатией, т. к., по сути, литовские князья строят славянское православное государство, не зависимое ни от католического запада, ни от Золотой Орды.
Кревская уния и ее этносоциологические последствия для Западной Руси
Все резко изменилось после того, как великий князь Ягайло принял предложение поляков объединить силы двух государств через династический брак. Ягайло должен был взять в жены королеву Ядвигу Польскую и cтать королем Польши, оставаясь великим князем литовским, и креститься в католичество. Ягайло и ведущие литовские бояре приняли предложение, и 15 августа 1385 г. в Креве Ягайло подписал документ объединения за себя и от лица всех удельных князей Великого княжества. В 1387 г. произошло обращение Литвы в католицизм.
Это событие кардинально меняло статус русских — как князей, так и простонародья. Если в Литве, управляемой языческой династией, русские были этносоциальной основой и задавали тон в политической и культурной жизни, более дифференцированной, нежели языческие обряды самих литовцев, то после соединения с Польшей и провозглашения официальной религией католичества они оказывались в радикально новой ситуации:
– во-первых, католики рассматривали православие как «ересь, требующую искоренения наравне с язычеством»;
– во-вторых, европейская культура (в том числе социально-политическая) не уступала русской, но была организована на иных основаниях;
– в-третьих, простонародное русское население оказывалось в ущемленном положении перед лицом не просто высших сословий, но и носителей иной религии и иной политической культуры.
Из доминирующей части литовского народа русские превращались в людей второго сорта.
Кревская уния, естественно, вызвала протест со стороны большей части населения Литвы, и Ягайло, ставший польским королем, был вынужден признать право на верховенства в Литве сына убитого им Кейстута князя Витовта.
Витовт продолжал традиционную для литовских князей политику присоединения русских земель. При нем в состав Литвы вошел Смоленск. Благодаря политическим договорам он присоединяет к Литве огромные территории Дикого Поля, пространство причерноморских и приазовских степей. При этом Витовт проводил политику, в целом независимую от Польши, хотя усиление польского влияния в самой Литве продолжалось. Витовт пытался найти равновесие между католицизмом и православием, предложив создать церковную унию, но эта инициатива не нашла поддержки у католиков.
Тем временем положение русских в Литве неуклонно ухудшалось. Само же государство укрепляло свои позиции в международной сфере, став к первой половине XV в. важнейшим фактором европейской политики.
С этносоциологической точки зрения после Кревской унии резко изменился статус русских в Литовском княжестве. Доминирующей моделью общества стала польская модель: католичество, шляхетство и панство, европейская культура, преобладание латыни в религии (католические мессы), польский язык конкурировал с русским в качестве койне.
Литва в XV–XVI веках: к окончательной полонизации
После смерти Витовта последовали междоусобные склоки между Сигизмундом Кейстутовичем и Свидригайлом, в которых решалась степень зависимости Литвы от Польши. Сторонник подчинения Польше Казимир одержал верх, но вскоре был убит православным князем Чарторыйским в Торском замке (1440). В Литве воцарился великий князь Казимир Ягайлович, при котором была создана Западнорусская православная митрополия в Киеве, чтобы вывести православное население из-под влияния Московской митрополии, поскольку Московская Русь уверенно освобождалась от рушащейся Золотой Орды и претендовала на проведение самостоятельной политики.
При Александре Ягеллоне и Сигизмунде Старом сближение с Польшей продолжается, а противоречия с Москвой нарастают. А при Сигизмунде Августе Люблинской унией (1569) завершился процесс полного политического соединения Литвы с Польшей, подготовленный всей предыдущей историей.
Люблинская уния ставит точку в вопросе о Западной Руси. Имея на первых этапах истории Великого Княжества Литовского все шансы стать независимым русским православным государством, русифицировав литовскую знать и распространив православие среди большинства этнических групп, Литовская Русь постепенно лишилась этой возможности, утратила значение ядра литовско-русского народа и превратилась в угнетаемое (в социальном и культурном смыслах) сословие в структуре западноевропейского аристократического, феодального и католического государства.
В данном случае выбор Западной Европы в качестве образца и политической опоры сделал не русский князь (как когда-то Даниил Галицкий), но литовские князья. Результат же для славянского православного населения Западной Руси был плачевным. Русские:
– на западе не стали ядром литовского народа;
– не восстановили Киевскую Русь;
– оказалась в положении преследуемого религиозного меньшинства под давлением официальной католической политики;
– рассеялись на этносы (малороссы, белорусы, казаки);
– подверглись насильственной культурной и языковой полонизации;
– оказались на грани утраты культурной идентичности.
Несмотря на то, что русские Литовского княжества оказались на сто лет раньше свободными от ордынской власти, они в конечном итоге проиграли этносам Восточной Руси и народу великороссов, который после распада Золотой Орды вступил в историю ядром русского православного царства, приумножив свои территориальные владения и укрепив свою политическую, культурную и военную мощь.
Так XVI в. подвел черту под состязанием политики Даниила Галицкого, с его ставкой на Европу и католичество, и Александра Невского, с его ставкой на лояльность Золотой Орде. Из-под монгольского ига Московское царство вышло самобытной православной державой, созданной великорусским народом, сохранившим свою идентичность. Западнорусские этносы, со своей стороны, оказались людьми второго сорта в чуждой восточным славянам польско-католической государственности, утратив многие важнейшие аспекты культурной, социальной, религиозной и политической самобытности. Большая часть русской аристократии в Польско-Литовском княжестве полностью окатоличилась и полонизировалось, а народные массы оказались в положении презренных и угнетаемых меньшинств.
§ 5. Этносоциология Московского царства
Флорентийская уния и ее отвержение Москвой
В XV в. в Византии, религиозной провинцией которой была Русь, развертываются фундаментальные события. Под натиском турок с востока Византия ищет защиты у Западной Европы; и император, и Церковь готовы идти на признание главенства Папы Римского во всем христианском мире и на соглашение с догматами и правилами католичества. На Ферраро-Флорентийском соборе (1438–1445) решение о соединения церквей на условиях латинян подписывают Патриарх Константинопольский Иосиф II и византийский Император Иоанн VIII Палеолог. Правда, не все греческие епископы это признают. Так, Марк Эфесский отказывается отступать от православных позиций, собирает в Иерусалиме в 1443 г. Православный собор, в котором принимают участие патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский, на котором проклинают Флорентийскую Унию и ее сторонников. В 1450 г. в Константинополе противники Унии низлагают униатского патриарха Григория Маму и избирают патриархом православного Афанасия. Но через 3 года в 1453 г. турки-османы под руководством султана Мехмета II штурмом берут Царьград, положив тем самым конец более чем тысячелетней истории Византийской империи.
Показательно, что Москва с самого начала радикально отрицательно относилась к Унии с католиками. Когда московский митрополит Исидор, участник Ферраро-Флорентийского собора и католический кардинал, в марте 1441 г. приехал в Москву после завершения собора и потребовал православных признать Унию, князь Василий II (Темный), опираясь на единодушное мнение элиты и народа, бросил его в тюрьму и категорически отверг униатство. Исидор бежал в Рим. С 1442 г. установилась фактическая независимость (автокефалия) русской митрополии. В 1448 г. митрополитом русской поместной церкви без предварительных консультаций с Константинополем был проведен Собор иерархов, который избрал ставленника Василия II Рязанского епископа Иону.
Автокефалия Русской Церкви сопряжена с неприятием Унии и с выражением Московской Руси верности православию. Последовавший за этим вскоре крах Византийской империи был воспринят на Руси как наказание за отступление в «латинскую ересь» и заставил русских еще более укрепиться в приверженности православию. Более того, русские считали, что отныне только они являются носителями вселенского православия, предполагавшего не только православную церковь, но и православного царя.
Освобождение от монголов и учение о Третьем Риме
После окончательного ослабления Золотой Орды Великое княжество Московское при великом князе Иване III становится полностью независимым. Это происходит не мгновенно (сам момент стояния на Угре 1480 г.), но постепенно, начиная с битвы на Куликовом поле — в течение всего XV в. Москва постепенно укрепляется и расширяет сферу своего влияния, активно конкурируя с Литвой в деле воссоздания единого русского государства. Но с 1480 г. Московская Русь больше не платит никому дани и является в полном смысле слова не зависимым ни от кого государством.
Это совпадает с провозглашением автокефалии и падением Константинополя. Так политическая независимость Великого княжества Московского и стойкость в отстаивании православия сплетаются у русских конца XV в. в единый комплекс. Верность православию выражается в Русской Церкви, а политическая независимость и наличие свободного православного государя полностью вписывается в православное учение о симфонии властей, т. е. о гармоничном религиозно-политическом сотрудничестве церковных и государственных властей.
Русские видят: Византия, основанная на симфонии властей между Патриархом Константинопольским (Вселенским) и императором, рухнула в силу уклонения в латинскую ересь; но в то же самое время верность православию и автокефальность церкви на Руси совпадает с обретением политической независимости после более чем двухсотлетнего монгольского ига. Вывод из этого напрашивается сам собой: теперь Московская Русь призвана исполнять в мировом масштабе миссию Византии, т. е. служить последним оплотом мирового православия.
Именно это и выражается в учении, сформулированном псковским иноком Филофеем, о «Москве — Третьем Риме»712. В нем он кратко излагает теорию о перемещении центра мировой православной державы — от имперского Рима в Новый Рим, Константинополь, а после его падения — в Москву. Далее начинается история последнего периода, за которым должен последовать конец света. Так Московская Русь начинает мыслиться как государство, наделенное всемирной исторической миссией.
Этносоциология великороссов в Московский период
В конце XV в. формируется то общество, которое формально просуществует в России 200 лет, но которое заложит основы всему последующему периоду — вплоть до настоящего времени и контемпоральных процессов. Дело в том, что мы имеем дело с появлением нового народа, которому суждено стать ядром всех вариантов будущих русских обществ. В Московский период этот народ выходит на поверхность и проявляет себя открыто и разносторонне.
Этот народ точнее всего назвать великороссами. Как мы видели, он начинает складываться еще в ордынскую эпоху из населения восточных областей Киевской Руси. На Куликовом поле он проходит первую проверку, а к концу XV в. составляет основу Московского государства, которое этот народ и создает.
В данном случае следует понимать народ в строгом этносоциологическом смысле — как первую производную от этноса. Великороссы формировались на основе прежнего древнерусского народа, превратившегося в ряд «удельных» этнических агломератов, но в новых исторических условиях и в новых границах. Ядро великороссов располагалось в пределах Владимирского и Рязанского княжеств, где изначально преобладали вятичи, а на севере словене. Вместе с тем во Владимирской и Новгородской землях был сосредоточен максимальный процент финно-угорского населения, которое, так или иначе, повлияло на этнические структуры великороссов.
Вместе с тем тесные связи с Золотой Ордой, большая часть которой состояла из различных тюркских племен, а собственно монгольская знать была численно незначительна, также не могли не повлиять на этнический состав великороссов, явно воспринявших от тюрок ряд психологических и социальных черт. Контакт с тюрками и этническое смешение с ними только усилились в XVI в. после взятия Иваном Грозным Казани и Астрахани. Великороссия строилась через воссоздание пространства Золотой Орды, но на сей раз с центром не в Сарае, а в Москве, и начиная с севера и востока, а не с юга, откуда пришли первые монгольские армии. Поэтому в зону Московии и особенно после установления русского контроля над Поволжьем вплоть до Каспия, попали значительные пласты тюркского населения, массово заселявшие эти места.
Так, этническая композиция великорусского народа несколько отличалась от древнерусского народа русичей по своему составу и своим пропорциям. В западных и центральных районах древней Киевской Руси финно-угорского влияния было существенно меньше, а на северо-западе (Полоцкое княжество) было мало тюркских элементов, зато много балтийских (более редких к востоку и югу).
Вместе с тем язык, культура, религия и историческое самосознание великороссов были основано на славянском начале, продолжали славянский социально-культурный тип. В основе великороссов как народа мы снова встречаем преобладание мирного крестьянского труда, сельских общин и соответствующего этнического мировосприятия. То есть базовой составляющей народа был все тот же крестьянский этноцентрум. В этом смысле великороссы могут с полным основанием считать себя прямыми потомками древнерусского народа, основанного на центральности славянского языка и славянской культуры, а также на оседлых земледельческих общинах. Изменение пропорций этнической композиции народа великороссов в сравнении с древними русичами не является основанием для того, чтобы отрицать историческое единство и преемственность. В чем-то великороссы были новым народом, создавшим новое государство — Московскую Русь и ее дальнейшие формы вплоть до современной России. Но в чем-то они продолжали историческую судьбу древнерусского народа, воплощая ее в новых формах. У древних русичей и великороссов была одна и та же судьба, одна и та же история. Для народа это главное.
Вместе с тем преемственность народа подтверждалась и преемственностью элиты. Владимирские, а затем и Московские князья были Рюриковичами и наследовали изначальную династию, сплотившую Русь. Состав этой элиты менялся, в нее включались новые и новые этнические и культурные элементы (монголы, тюрки, балты, греки, черкесы, европейцы и т. д.), но ее ориентация оставалась неизменной. Элита была православной и стремилась укрепить русскую государственность. При этом боярский слой был пополнен значительным числом тюркской военной знати, что не могло не сказаться на повышении боевого духа русской аристократии.
При этом московские великие князья породнились и с византийским императорским домом. Супруга Ивана III Софья была племянницей последнего византийского императора Константина XI Палеолога, что в контексте учения о «Москве-Третьем Риме» и в свете последующей коронации Ивана IV приобретает особое значение.
Великороссы вторично вступают в историю — с новым государством, с новым религиозным самосознанием, с новой этнической композицией, с обновленной элитой (впитавшей опыт ордынского порядка), с новым видением мира (после распада Византии и долгих веков монгольского ига), но с тем же языком, с той же культурой, с той же социально-экономической доминантой (крестьянство), с той же верой (православие), с той же культурой.
Московская Русь представляет собой тип традиционного общества с этнической основой и высоким социальным дифференциалом — политическим, сословным, культурным, интеллектуальным. Частично это традиционное общество продолжает Киевский этап на новом уровне, частично многие черты заимствует у «Золотой Орды», а частично представляет собой нечто совершенно новое — синтез византийских, чингисхановских и собственно славянских начал.
В Московской Руси мы видим результат того исторического выбора, который совершил Александр Невский: Восточная Русь пошла по его пути и спустя двести лет вышла из-под Орды мощным и обновленным православным государством, в основании которого стояли великороссы. В то же самое время разрозненные славяне Западной Руси оказались в тяжелом положении граждан второго сорта и еретиков в католическом государстве европейски-феодального типа. Великороссы были народом, западные русичи (позже малороссы и белорусы) остались этносами.
Царствование Ивана IV: «турская правда и православная вера»
Кульминации Московская Русь достигает в XVI в. в период правления Ивана IV. В этот момент происходит окончательное закрепление социально-политической системы новой русской государственности. Она целиком и полностью основана на учении о «Москве — Третьем Риме», но конкретные формы реализации этой идеи постоянно уточняются.
Современный российский историк И.Я. Фроянов в своей работе, посвященной данному периоду истории713, выдвигает гипотезу, что, начиная с Ивана III, во все великое княжение Василия III и на всем протяжении царствования Ивана IV Грозного между собой конкурировали две модели политического устройства Московской Руси. Одна была ориентирована на западноевропейскую феодально-дворянскую модель, преобладавшую на Западе и, в частности, в Литве. Ее сторонники предполагали также религиозные реформы православия в рационалистическом духе, постановку великого князя (позже, царя) в зависимость от боярской знати, расширение числа и масштаба наследственных вотчин. В эпоху Грозного такой программы придерживались вдохновители Избранной Рады — поп Сильвестр и Адашев. Мы без труда узнаем в ней алгоритм политического устройства, который получил развитие в Западной Руси (линия Даниила Галицкого), а позднее в Литве и особенно Польско-Литовском королевстве.
Вторая модель была связана с собственно Московской, а ранее Владимиро-Суздальской версией политического устройства — с абсолютной властью великого князя (монарха), т. е. с самодержавием при полной зависимости от монарха элит, сокращением вотчинных земель, опорой на широкие массы и верностью православной традиции. Эта линия возобладала во второй период правления Грозного, а крайней формой ее проявления стала опричнина. Здесь легко узнается дух Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты и Дмитрия Донского.
В этот период определенное звучание приобретают идеи военного наемника Ивана Пересветова714, служившего разным государям, в том числе и османскому султану, и вернувшемуся на Русь для службы Грозному. (Некоторые историки считают, что это целиком вымышленный персонаж, за писаниями которого скрывается сам Грозный, избравший себе псевдоним и биографию для изложения своих взглядов на политические преобразования, поданные якобы от третьего лица). Согласно Пересветову, политические реформы на Руси должны сочетать «правду турскую и веру православную». Имеется в виду, что следует создать систему военизированного, слаженно работающего государства по модели Османской империи, которой именно за счет слаженности элиты, абсолютного главенства султана как непререкаемого авторитета, щедрой поддержки достойных и храбрых воинов, духа справедливости и братства среди элиты, что контрастировало, по мнению Пересветова, с коррумпированной, неэффективной, двурушнической системой плутократической и отчужденной от широких масс поздней византийской империи, удалось уничтожить последнюю и создать на ее месте и в ее границах более эффективную в социальном, политическом и военном смыслах государственную систему. В случае Руси, оговаривается Пересветов, к этому надо добавить православную веру как основу самосознания русского народа.
Идеи Пересветова Грозный попытался воплотить в опричнине во второй период своего правления. После отмены опричнины ту же по сути функцию стал выполнять царский двор.
В этом ключе Грозный идет против традиционных привилегий наследственного боярства, ограничивает вотчины и вводит поместья — территории (вместе с крестьянами), передаваемые служилой аристократии на время службы и сохраняемые за потомством лишь в случае их лояльности и верности царю и отечеству.
Так постепенно окончательно складывается специфическая форма московской самодержавной власти, состоящей из следующих главенствующих начал:
– абсолютная власть царя, не зависящая от политической элиты и низводящая эту элиту (в сравнении с собой) к простым слугам;
– верность православию и исполнению православной миссии Третьего Рима;
– включение широких народных масс в общую систему «тяглового государства», где каждое сословие, начиная от царя и заканчивая простым мужиком, соучаствуют в общем государственно-религиозном историческом действии.
Этносоциологически это выражается в том, что лаос/народ, сложившийся в Московской Руси, качественно отличается от того лаоса/народа, который преобладал в Киевской Руси. Великороссы развивают только одну из пяти возможных парадигм социально-политического устройства Древней Руси — восточную, Владимиро-Суздальскую в ущерб Галицкой (западной), Новгородской (северной), степной (южной) и синтетической Киевской (центральной). С западной составляющей Московская Русь имеет дело в лице Литвы, держащей под своей властью западно-русские этносы, которые Московская Русь по мере своего становления будет постепенно отвоевывать и включать в свои владения (возвращая русских в контекст единого государства, где они являлись бы частью народного ядра). С северной парадигмой в лице Новгорода и Пскова Москве пришлось поступить самым жестким образом, подавляя свободолюбивый новгородский вечевой купеческий дух и жестко вгоняя эту Северную Республику в контекст самодержавия и «тяглового государства». Южная составляющая уже в эпоху Грозного даст о себе знать в феномене казачества. А центральный киевский синтез останется данью глубокой старине и сохранится лишь как мифологическая парадигма в циклах киевских богатырских былин.
Политика Москвы в отношении этнических групп
Как и в самые ранние эпохи становления Владимирской Руси, в Московский период и после него русский народ, сохраняя славянский язык, культуру и православную веру, будет включать в свой состав огромные пласты других этнических групп Евразии — финно-угорских, тюркских, индоевропейских, кавказских, монгольских и т. д. Часть этих этносов войдет в став народа и «обрусеет». Другая часть сохранит этническую идентичность и этноцентрум, но в любом случае будет затронута русификацией как разновидностью аккультурации, перенимая у русских культуру, социальные институты, хозяйственные и другие практики.
Русский язык, как и в Киевской Руси, и на первых стадиях Литвы, будет выступать в роли койне для всех этнических групп Московского царства. Государство, религия и сословное представительство будут служить для всех этих этносов горизонтами повышенного дифференциала, активное освоение которого могло привести к более тесной интеграции в народ. Служба (в первую очередь, военная), принятие православия (особенно монашества) и принадлежность к определенному сословию составляли инструменты социализации как включения в народ для большинства этнических групп, принадлежность к которым на Руси никогда не рассматривалась как непреодолимое препятствие или показатель социальной неполноценности. Не только элита Руси была полиэтнической, но и народные массы состояли из различных этнических групп, никак не иерархизированных между собой. Если, под влиянием славян земледелием занимались финны, угры, тюрки или какие-то еще этносы, они записывались в крестьянское сословие, и никакой разницы между этническими славянами и ими не делалось. Лишь в том случае этносы, когда они занимались охотой и собирательством, настаивали на языческих верованиях и прямом шаманизме и уклонялись от более тесной интеграции по своей воле, чаще всего перемещаясь подальше от центра государства, на окраины, они приобретали особый статус «инородцев». Их интеграция оканчивалось регулярной выплатой налога (ясака), но и в этом случае это не было показателем «низшей касты» или «изгойства», как в случае индусских «чандал», «неприкасаемых». Стоило представителям таких архаических групп проявить желание и начать процесс сближения с народом, теоретически для этого не было никаких политических или психологических преград.
Способность к мягкой интеграции разнообразных этнических групп с предоставлением им достаточно широкого выбора моделей поведения была изначально отличительной чертой Руси. Она дала о себе знать уже в ранний период Киевского государства, а в Московской Руси стала основой наступательной политики народа: куда бы ни распространялись русские, они старались проводить интеграцию и аккультурацию мягко и естественно, не насаждая язык, лояльность и веру огнем и мечом, но скорее создавая условия для того, чтобы этот выбор становился само собой разумеющимся. Для тех же, кто выбирал иной путь и верность своей этнической идентичности, это также большой проблемы не составляло и катастрофических последствий не влекло.
Такое отношение к интеграции этносов в народ сохранялось до конца XVII в., т. е. вплоть до конца Московского периода русской истории. Лишь позже при Петре и его наследниках русификация приобрела более жесткие формы, напоминающие европейские тактики колонизации. Но и в этом случае радикализм в отношении автохтонных этнических групп исходил из строгих правительственных инструкций для профессиональных военных или наместников. Сами русские в своих массах и в лице переселенцев никогда не отличались этнической заносчивостью, высокомерием, шовинизмом и резкими контрастными «гетеростереотипами». На уровне бытовых практик мягкого межэтнического диалога и осторожных, гибких стратегий интеграции, ассимиляции и социализации в народ эта особенность сохранилась вплоть до настоящего времени.
Смута и первые Романовы
После смерти Ивана Грозного русская государственность вновь столкнулась с серьезными испытаниями. На убиенном царевиче Димитрии прервалась прямая линия наследования русских царей от Рюрика, а до этого владимирских князей. Это привело к распаду страны, появлению «двойников» (Лжедмитрия I и Лжедмитрия II), резкой деградации всей социальной, политической и экономической системы, что совокупно принято называть «Смутным временем» 1604–1618 гг. (с момента вторжения на Русь Лжедмитрия I до Деулинского перемирия).
В этот период происходит именно то, чего при жизни более всего опасался Иван Грозный — у власти оказываются бояре-аристократы, самозванцы, интервенты, самодержавие находится на грани крушения, Русь почти распалась, то, что веками создавалось народом и княжеской элитой, грозило исчезнуть в одно мгновение. С юга наступали крымские татары, с запада — поляки и гайдуки, с севера — шведы (бывшие вначале союзниками Шуйского). В 1610 г. растерянные московские бояре присягнули на верность польскому царевичу Владиславу, и в скором времени польские войска заняли Москву.
Поведение боярства в этот период поражает узостью горизонта, не прекращающимися даже в критический для страны период внутренними склоками, полным отсутствием государственного исторического самосознания.
Как известно, ситуацию решило ополчение, созванное в разных частях Руси при поддержке Русской православной церкви (патриарх Гермоген). Наиболее успешной деятельность народного ополчения была на востоке Руси (это показательно), где оно было создано нижегородским простолюдином (земским старостой) Никитой Мининым и поддержано князем Пожарским. Именно они решили судьбу Руси. В октябре 1612 года ополчение берет Москву и изгоняет оттуда поляков.
На следующий год Пожарский созывает земский собор, в котором принимали участия все сословия Руси, в том числе и представители крестьян (включая черные волости). На нем был избран царем сын патриарха Филарета Михаил Федорович Романов.
Важно подчеркнуть участие представителей всего народа в этом историческом акте огромного значения. Здесь в новых условиях повторяется сценарий, с которого начинается русская история: народ призывает Рюрика на царство. Но тогда народ только еще формировался, он не мог дать Рюрику никакого наказа или пожелания относительно его княжения: просто «приди и владей нами». Теперь народ избирает царя из своих русских бояр княжеского рода, дает ему поручение «держать веру православную», вернуть «старые законы», снизить налоги и т. д. Выбор оказывается удачным, и династия Романовых правит Россией до 1917 г. В целом Михаилу Романову и Алексею Михайловичу Романову, его сыну, в первую половину его царствования удается восстановить основные социально-политические устои Московской Руси (от Ивана III до Ивана Грозного), ценой немалых усилий отвоевать у оккупантов захваченные ими во время Смуты земли и пойти дальше в воссоединении русского православного населения, находившегося под Польшей — вплоть до отвоевания Беларуси и присоединения Украины к России в 1654 г. (Переяславская Рада). Русское население Беларуси были представителями западной Руси (бывшие Полоцкое и Турово-Пинское княжества), а казаки Запорожья — южной Руси (казацкая военная демократия). Это привело к войне с Польшей, а в 1667 г. было заключено Андрусовское перемирие, по которому Речь Посполитая теряла Смоленск, Чернигов и весь левый берег Днепра. Таким образом, к Московскому царству были присоединены и Северские земли.
К концу XVII в. Московская Русь восстановила в целом основные территории Киевской Руси (за исключением Правобережной Украины, Галичины и Волыни) и реализовала тем самым свое историческое предназначение.
Русский народ и восточнославянские этносы
Московская Русь, восстановив под своим началом большую часть Киевского государства, существенно расширилась к востоку, объединив вокруг Москвы многие земли Золотой Орды (в частности, Поволжье и Прикамье) и двинулась на Урал, и далее в Сибирь — к Тихому океану. Это восточное направление приводило к включению в русский народ новых неславянских этносов, которые частично интегрировались, частично оставались изолированными. Это влияло на этническую структуру великороссов как интегрального народа Московской Руси, ядром которого по-прежнему оставались славяне.
Но в тот момент, когда благодаря военным успехам русских царей к Руси стали присоединяться древние русские земли на Западе, возникла новая этническая ситуация в контексте воссоздаваемого (или создаваемого заново — на сей раз великороссами) единого восточнославянского государства.
Дело в том, что восточные, западные и южные этнические группы русских оказались после монгольских завоеваний в разных исторических и культурных условиях. И когда они снова встретились в едином государстве, созданном на сей раз великороссами (т. е. восточными русскими, выработавшими в эпоху тесных контактов с ордынцами и тюрками свой особый культурный стиль и диалект, московский язык, сегодня называющийся просто «русским» — именно он был койне в Московии), то различие исторических путей стало бросаться в глаза. Конечно, потомки славян и восточной и западной Руси корнями уходили в один народ (именно народ как историческая общность судьбы), — в киевский народ, но позднее исторические судьбы разделились. Когда они снова встретились, то оказались в новых условиях носителями новых этносоциологических свойств.
Великороссы, приходившие вместе с войсками московского царя в земли, где проживали западные русские, исповедующие православие — к западу от Смоленска, будучи именно народом (лаосом), сталкивались с этносами, чей язык имел определенные отличия, чья культура подвергалась влиянию литовцев и поляков, а также других европейских культур (австрийцев и венгров в случае Юго-Западной Украины), оказывались в сложной ситуации. С одной стороны, это были те же русские, восточные славяне с общими историческими корнями. Следовательно, оказавшись снова в одном государстве — причем русскоговорящем и православном, они, казалось бы, должны были автоматически и ускоренным образом интегрироваться в один народ, который при этом переставал бы быть только великорусским, но он становится снова русским, на новом историческом витке восстанавливая общность судьбы, лежащей в основе Киевской государственности. Частично именно это и происходило как в XVII, так и в XVIII, XIX и даже XX вв., когда уже среди восточных славян шел процесс их реинтеграции в единую русскую общность. В этом случае народ, объединенный политически, культурно, религиозно и территориально, переставал быть великорусским и тем более «полоцким», «киевским», «северским», «новгородским», но становился русским. До вторичной интеграции русских Запада «великороссы» было названием народа Московской Руси, но после этой интеграции он получал статус этнического наименования в рамках единого русского народа. И вместе с тем к этому русскому народу относилась и полиэтническая элита и часть наиболее глубоко интегрированных в социокультурные структуры Руси иных, неславянских этносов (в наибольшей степени — татар и финно-угров и т. д.).
Но с другой стороны, эта реинтеграция восточных славян в единый народ — русский народ — наталкивалась на те же самые механизмы сопротивления, которые мы видели при ассимиляции и интеграции великороссами иных, неславянских этносов. Часть этих этносов или некоторые из них спокойно и гармонично вливались в великороссов, а часть предпочитала сохранять свою этническую самобытность. Точно такие же явления мы видим и у освобожденных из-под западно-католической власти западных русских — белорусов и малороссов, а также у южных русских — казаков (по меньшей мере, украинских). Эти западные и южные русские были этносами, а великороссы — народом. Будучи этносами, они развили и закрепили свои диалектические особенности, свои культурные формы, свой образ жизни в комплексе, составляющем их особую идентичность, существенно отличающуюся от великоросской. Поэтому с этими славянскими этносами повторилась картина ассимиляции великороссами иных, неславянских этносов. Часть из западных и южных русских интегрировалась и создавала тем самым единый русский народ (россов), а часть предпочитала сохранить свою идентичность и сторонилась от великороссов, как ранее от литовцев, поляков, австрийцев, турок или венгров. В этом втором случае этнос выбирал этническую самобытность (в Беларуси это называлось словом «тутэйшие», т. е. западные русские, живущие испокон века на этих местах, «тут»; в Украине «щирые» — «истинные»). В этом случае великороссы воспринимались как этнос, причем как «чужой» этнос, сопоставимый с теми, кто ранее пытался навязать западнорусским этноцентрумам чуждую для них социальную систему.
Так появились распространенные сегодня понятия «беларус», «малоросс», «украинец».
По поводу происхождения этих названий Г.В. Вернадский пишет: «Малая Русь (позже использовалось в форме МалоРусь), судя по всему, появилась в конце тринадцатого или начале четырнадцатого века. Когда в 1303 константинопольский патриарх по настоянию короля Юрия I согласился учредить в Галиче митрополичью кафедру, новый прелат получил титул Митрополита Малой Руси (по-гречески — Μικρα Ρωσια, по-латыни — Russia Minor). Кроме Галича, ему подчинялись следующие епархии: Владимир-Волынский, Холм, Перемышль, Луцк и Туров. Таким образом, Малой Русью в то время называли Галицкую, Волынскую и Туровскую земли»715. Позже это понятие было расширено на всю Правобережную Украину.
Происхождение понятия «Белая Русь» вообще не ясно. В документах оно встречается наряду с «Черной Русью», район под этим названием был занят литовцами на начальной стадии формирования Великого княжества Литовского. Черная Русь находится в бассейне верхнего Немана, а Белая Русь — в бассейне Двины и верхнего Днепра.
«Название "Великая Русь" (позже — Великороссия) впервые появляется в указе византийского императора Иоанна Кантакузина князю Любарту Волынскому в 1347 году, подтверждающем упразднение митрополичьей кафедры в Галиче. Император повелел "по всей Руси — Великой и Малой — быть одному митрополиту, Киевскому". Можно добавить, что в середине семнадцатого века царь московский, Алексей (второй царь династии Романовых), сделал официальными все три названия Руси, включив их в свой титул: "Царь Всея Великой и Малой и Белой Руси" (1654)»716.
При всей условности этих названий мы имеем три термина для обозначения не только географических, но и этнических явлений. «Белая Русь» — славяне, жители Полоцкого княжества (потомки дреговичей, кривичей и частично радимичей), давно оказавшиеся под Литвой и проживающие в северо-западном регионе восточнославянских земель. «Малая Русь» — зона юго-восточной Руси, волынско-галицкой, расширительно всего Правобережья. «Великая Русь» включает в себя земли Владимирского княжества, а позже Московского царства. Еще одной зоной является Южная Русь (иногда называемая Новороссией), куда относятся территории, населяемые казаками и их потомками. Показательно, что вопрос об идентичности сегодня встает не только среди белорусов и украинцев, но и среди казаков.
Этносоциология раскола: этнос и старообрядчество
В середине XVII в. в правление Алексея Михайловича Романова происходит важное для русской истории событие — церковный раскол, в результате которого все население России поделилось на новообрядцев, сторонников патриарха Никона, и старообрядцев, сохранивших церковные устои древних дониконовских времен. Не входя в сложные догматические детали раскола, его исторические и политические причины, дадим лишь краткий этносоциологический анализ этого явления.
Раскол приходится на исторический момент упадка традиционного общества в России, в которой нарастают западные влияния. В этот период в Европе как раз происходит фундаментальный переход от народа к нации, от Средневековья к Новому времени, от религиозного общества к секулярному, от сословных феодальных монархий к буржуазным режимам. В Европе идут процессы трансформации первой производной от этноса во вторую производную. Возникают национальные государства, построенные по иному принципу, нежели традиционные. Все это касается России только косвенно, но и отдаленных влияний столь фундаментальных этносоциологических процессов довольно для того, чтобы поколебать устои Московской Руси. Тем более, что в своем стремлении присоединить западные земли и защитить свои границы на севере и на юге Россия постоянно сталкивается с европейскими государствами и обществами.
Хотя реформы Никона трудно назвать модернизацией, но в его реформаторской деятельности есть ряд черт, которые насторожили старообрядцев — Никон берет для книжной справы (т. е. исправления всех церковных книг по единому образцу) издания Киево-Могилянской духовной академии, куда проникли католические и европейские влияния. Евангелия же сверяются по греческим книгам, напечатанным в Венеции. Никон ставит перед собой и политическую цель: подстроить церковный устав и правила под единый образец, который стал бы общим для великороссов, белорусов и малороссов. В области церковного православного обихода у восточных и западных русских также накопились некоторые отличия, которые препятствовали полной интеграции всех русских православных.
Никон, по сути, стремится сделать единый русский народ из восточных и западных русских, объединив всех в области церковного обихода. Но поступая так, он берет за образец именно западнорусские обычаи (трехперстное крестное знамение, хождение вокруг алтаря противосолонь, обливательное крещение, лингвистическую форму киевского извода священных текстов и т. д.), а кое-что заново переводит с греческого. При этом он жестко настаивает на непогрешимости своих действий (в духе Римских Пап).
Старообрядцы воспринимают эти нововведения как влияние Запада, и, следовательно, ересь и даже как знак приближения прихода антихриста. Они смотрят на мир глазами Московской Руси, в полном соответствии с учением о Третьем Риме, не доверяют даже западно-русским христианам (слишком долго находившимся под властью «еретиков»), клеймят Брестскую унию — одним словом, проявляют все основные черты традиционного великорусского народа. Но этот великорусский народ, как мы видели ранее, сам стоит в этот момент перед серьезной трансформацией — перед лицом воссоединенных западных русских он должен либо перейти к русскому народу, т. е. преодолеть себя, либо отшатнуться, закрыться, замкнутся в себе и превратиться в этнос. Точно также как белорусы и малороссы со своей стороны.
Никон и новообрядцы делают ставку на создание нового народа — русского (на основе населения всех трех составляющих Руси — Великой, Белой и Малой). Старообрядцы и их вожди, в частности, протопоп Аввакум, защищают старый порядок, устои Московской Руси, т. е. возглавляют великоросскую «партию». Но в данном случае великороссов надо понимать уже не как народ, а как этнос.
Показательно, что за Никоном следует политическая элита, царь, боярство, а также черное духовенство и подавляющее большинство епископов, элита церкви. Аввакум же находит поддержку в народных низах, в среде белого духовенства, в деревнях. Новообрядчество приобретает официально-политический оттенок, старообрядчество — этнический. Показательно, что огромное количество старообрядцев мы встречаем среди финно-угорского населения русского севера и северо-востока. Верность старине легко перетолковывается в духе этноцентрума как отказ от нового, «события», «другого». Наряду с линейным временем, текущим вниз, к приходу антихриста, в старообрядчестве — не как в эсхатологической и религиозной теории, но как в бытовой практике — мы видим «вечное возвращение», упорное стремление сохранить быт предков вплоть до мельчайших деталей.
Поэтому старообрядчество в этносоциологической перспективе можно рассмотреть как одно из проявлений превращения великороссов из народа в этнос, которое затронуло далеко не все население и почти не затронуло элиту (случай боярыни Морозовой является исключением), но наряду с другими симптомами (например, зарождением хлыстовского сектантства практически в то же самое время) намечало вектор реверсивности в переходе от первой производной этноса к самому этносу.
Вплоть до настоящего времени старообрядческие поселения и семьи представляют собой самый богатый этнографический материал о культуре, одежде, обычаях и верованиях великорусского этноса.
Среди западных русских этносов старообрядцев не было и не могло быть, кроме тех, кто бежал на запад, как и во все остальные периферийные территории Российской Империи, спасаясь от преследований со стороны власти, принявшей новообрядчество. Так, староверы проникли и на крайний запад, за границу Руси, и к казакам, а заодно, скрываясь от гонений, поучаствовали в освоении Сибири и Дальнего Востока. До сих пор старообрядческие деревни есть даже на Аляске.
§ 7. Петровская Россия и Санкт-Петербургский период
Европеизация и модернизация Петра Первого
Царствование Петра Первого означает новый этап русской истории. Московский период закончен даже символически — Петр строит новый город на Балтике, переносит туда столицу Российского государства. Начинается эпоха Санкт-Петербурской России, которая длится до 1917 г.
Весь Санкт-Петербургский период может быть описан в рамках социологии археомодерна. На одном уровне сохраняется традиционное общество (на периферии в значительном количестве сохраняются этноцентрумы, архаические группы), а на другом идет модернизация и европеизация.
Археомодернистическая структура петровской и постпетровской России требует более сложного этносоциологического подхода, т. к. на разных уровнях одного и того же общества одновременно протекают взаимоисключающие друг друга процессы.
Петр поставил перед собой задачу европеизировать Россию, приблизить ее структуру к европейским государствам Нового времени. К Западу Петр относился как к образцу и объекту для подражания, а к России и ее укладу как к преграде на пути модернизации. Поэтому он поставил перед собой цель максимально приблизить русское общество к европейскому. Эту инициативу можно разделить на несколько составляющих:
– военно-стратегическую;
– экономическую и промышленную;
– культурную;
– элитарную;
– простонародную.
С точки зрения военно-стратегической, петровская модернизация дала серьезные успехи, и Россия существенно расширила свою территорию, ведя постоянные войны на севере, западе и юге. В этом бесспорная заслуга Петра — в военной области он добился колоссальных успехов, вывел русских к Азовскому и Балтийскому морям, повторяя подвиги Святослава, разгромил шведов, закрепил русское влияние на Украине, создал российский флот.
В экономической сфере успехи были более скромные. Модернизация производства, развитие мануфактур, стимуляция торговли и другие направления затронули довольно узкий круг столичных и городских жителей, а в целом страна продолжала оставаться целиком и полностью аграрной, с соответствующей традиционной и этнической культурой. Урбанизация при Петре была незначительной и не могла идти ни в какое сравнение с Европой Нового времени.
В культурной сфере Петру удалось надломить древние устои русского общества, привнести европейские обычаи и привычки, моду и правило говорить среди аристократии на иностранных языках (сначала на голландском и немецком, позднее на французском). Образцом становились западные страны, а в религии протестантизм и католичество. Новообрядческое православие после никоновских реформ подверглось при Петре дальнейшим трансформациям: патриаршество было упразднено, чуть было не запрещено монашество (как в протестантизме), был создан особый орган Священный Синод на правах государственного министерства, возглавляемый светским лицом — обер-прокурором. Боярам и дворянам было запрещено носить бороды и традиционные русские одежды. Всем велено пить экзотический напиток кофе. Для надругательства над православной нравственностью и раскрепощения нравов Петр создает «Всепьянейший Всешутейший и Сумасброднейший» Собор, члены которого принуждались к профанации священных церковных обрядов и таинств, развратным прилюдным действиям, систематическим богохульствам, кощунствам, похабщине и «церемониальному» сквернословию.
Но культурные нововведения в разной мере и по-разному затронули высшие и низшие слои русского общества. На элиту это оказало глубокое воздействие и принудило ее на самом деле европеизироваться, изучать европейские языки, манеры, формы поведения, религиозные и философские теории, светские обычаи и т. д. Элита европеизацию приняла (хотя часто и против своей воли).
Массы же эти процессы почти полностью проигнорировали, лишь старообрядцы увидели в Петре яркое подтверждение своих ожиданий скорого прихода антихриста. В остальном же они продолжали жить в согласии с традиционным укладом — молились в церквях, пахали землю, носили бороды, придерживались обычаев и традиций отцов.
Этносоциология Петровских реформ: археомодерн
Принципиальным моментом в реформах Петра и их социологических последствиях была в целом качественно иная структура русского общества, нежели у обществ европейских стран. В Европе в Новое время происходил переход от феодализма (основательно структурировавшего пространство Европы в Средние века и разделившего все ее земли на вотчины-феоды) к городскому капитализму. Постепенно критическая масса европейского населения перемещалась в города, где концентрировалась в больших масштабах, создавая технические, экономические, политические, культурные и социологические предпосылки для формирования наций и выхода на первый план третьего сословия (буржуа=горожан). Увеличение значения городской буржуазии на заре Нового времени создавало в Европе предпосылки для формирования «буржуазных монархий», когда король в своем противостоянии высшей аристократии, стремившейся ограничить его власть, подчас опирался на третье сословие, способствуя созданию наций и национальных государств сверху.
Когда Петр Первый переносил элементы современной европейской политической и экономической системы на русские условия, он сталкивался с радикально иным этносоциологическим ландшафтом:
1) в России не было феодализма, который подготовил бы ситуацию для становления массового третьего сословия, обслуживающего господ;
2) города в России не были существенным социально-экономическим фактором, даже отдаленно сопоставимым с Европой по количеству населения и по доле в валовом внутреннем продукте.
Поэтому Петровские реформы адресовались чрезвычайно узкой общественной группе — боярству и дворянству, а также незначительной в масштабах России городской купеческой прослойке. Широкие крестьянские массы, составляющие абсолютное большинство жителей Петровской России, не были включены в процесс модернизации или выступали как покорный инструмент, принудительно используемый Петром в его европеизаторских инициативах, остающихся для них невнятными и бессмысленными.
Петр Первый пытался построить в России нацию по европейскому образцу (т. е. перейти от народа к второй производной от этноса), но для этого у него не было ни одного из требуемых исторических условий — ни предшествующего опыта полноценного феодализма, ни достаточной массы городской буржуазии, ни достаточной этнической однородности самого народа, который не только не включил в себя большинство этносов России, но и не стремился это сделать ускоренным и принудительным образом. Петр Первый строил нацию сверху, опираясь на самодержавные традиции и покорность элиты (при полном безразличии масс). Поэтому он не встречал большого сопротивления и добился в ряде направлений определенных результатов. Но его успехи были ограничены этносоциологической структурой российского общества, которая просто не могла быть в одночасье изменена по европейскому образцу. Петр I сделал все, что мог, использовав для этого весь арсенал средств ничем не ограниченной абсолютной монархии. Но он действовал в среде, которая не могла быть быстро трансформирована в глубину даже самой упорной волей с использованием самых жестких принудительных мер. Петр I европеизировал элиты, заставив их смотреть на Россию европейским взглядом и модернизировал отдельные сферы промышленности, в первую очередь военную. Но основная масса населения России — в частности, российское крестьянство, а также множество находившихся в Российской империи малых этносов — продолжали жить в условиях традиционного общества, т. е. остались народом, а не нацией.
Это и породило явление археомодерна, этносоциологическая сущность которого заключается в том, что одна часть общества оценивает это общество в одной парадигме, а другая — в совершенно другой. Образ общества в глазах его же членов раздваивается, что порождает «раскол общественного сознания», («коллективного мышления», по Дюркгейму), расщепление семантического поля.
Многослойная структура Российской империи в XVIII—XIX столетиях
Археомодерн предопределил структуру российского общества на весь период от реформ Петра до 1917 г. и падения Российской Империи. В этот период основные массы населения продолжали жить в традиционном обществе, а элиты считать себя частью европейского мира.
Однако и сами дворянские элиты испытывали влияние традиционного общества на себе. В XVIII в. в силу инерции модернизационной воли самого Петра, передавшейся другим правителям и правительницам России, подавляющее большинство которых были европейцами, элиты строго ориентировались на западное общество и на те процессы, которые в нем проходили. Но к концу XVIII в., напуганная Французской революцией Екатерина Великая стала относиться к Европе и модернизационным тенденциям с подозрением, и если российская монархия и высшие классы продолжали следовать за западными обществами, то только за их консервативным сегментом.
В XIX в. влияние традиционного общества на элиту только возрастает. Города растут относительно медленно, и столь же медленно развивается буржуазный класс. Вместе с тем русское дворянство, особенно начиная с первой четверти XIX в., все более интересуется жизнью простонародных масс, которой начинают посвящаться литературные произведения (С.А. Пушкин), этнографические исследования, а философы-славянофилы (Киреевский, Хомяков, Аксаковы, Самарин и т. д.) возводят образ русского традиционного общества, крестьянский труд, интегральное исповедание православия, сельскую общину в позитивный идеал и идеологическую программу, осуждая реформы Петра и призывая к возврату к Московскому царству. Высшая аристократия, вплоть до русских царей в XIX в., вновь начинает носить бороды, что было невозможно в XVIII в. В богословии наблюдается возврат к собственно православному учению и постепенное очищение от наносных католических и протестантских элементов, преобладавших в XVIII столетии. Проект народного просвещения открывает путь к высшим этажам общества представителям крестьянских масс, что порождает феномен разночинцев и только усиливает в обществе народное (в этносоциологическом смысле) и даже этническое начало. Потомки крестьян и мелкого сельского духовенства — отец и сын Соловьевы — становятся знаменитым историком (С. Соловьев) и знаменитым философом (В. Соловьев).
Таким образом, в XIX в. в Российской империи складывается многослойная этносоциологическая структура.
Преобладает в количественном смысле крестьянское православное население, закрепощенное помещиками, но живущее в условиях сельских общин (мир) с преобладанием этнических (архаических) черт. Оно и является основой народа Российской Империи. Это сословие, освободившееся от крепостного права лишь в 1861 г., при Александре II, проникая через систему образования на высшие этажи общества, с одной стороны модернизируется и европеизируется само, а с другой — привносит в элиты народные и этнические черты. Таким образом, археомодерн подпитывается снизу.
Политические элиты, начиная с эпохи Петра, ориентируются на Запад, но с конца XVIII в. следуют по этому пути довольно осторожно, стараясь держаться крайне консервативных европейских режимов и поддерживая европейскую реакцию (этим Россия и заслужила нелестное название «жандарма Европы»). Европейский консерватизм российских элит, особенно заметный при Павле I, в поздний период царствования Александра I и при Николае I, с одной стороны, мыслит Россию как «консервативную европейскую нацию», а с другой — подвергается влиянию еще более консервативных слоев (славянофилы), стремившихся перетолковать монархию в духе традиционного общества, предлагая вообще отвернуться от Европы и следовать своим собственным путем. Европеизм российских элит, в свою очередь, подвергался влияниям традиционного общества, что укрепляло археомодерн сверху.
Этнос, народ, нация в Российской империи
Такая многослойность ставит вопрос о том, с каким же все-таки обществом мы имеем дело в России в XVIII–XIX вв.?
Во-первых, мы видим в достаточной мере широко представленные этносы. Это и малые этносы Сибири и Севера, оказавшиеся на территории Российской империи и вернувшиеся к статусу этносов, но некогда бывшие народами; тюрки и кавказцы, западнорусское население, казачество, но самое главное — это огромная масса собственно русского или обрусевшего крестьянского населения, живущая общиной и сохраняющая многие архаические устои. Этот архаический пласт России описываемого периода являлся настолько мощным, количественно значительным и хозяйственно определяющим, что это составляло фундаментальное отличие России от европейских стран и затягивало процесс модернизации общества на неопределенный срок.
Во-вторых, мы видим народ как структуру традиционного общества и первую производную от этноса. Начиная с Петра, этот народ уже не является строго великорусским, но включает в себя всех русских — и великороссов, и малороссов, и белорусов, и казаков, которые совокупно именуются «русскими». Именно такой народ стремился создать Никон, и в этом смысле Петр является его продолжателем. Такой народ был создан. Если добавить к общерусскому (восточному, западному и южному) ядру другие этносы, вошедшие в состав России, то мы получаем российский народ, который является социальной базой империи как стратегического целого, в состав которого включены многообразные этнические группы.
И, наконец, начиная с Петра, европеизация элит ориентирована на то, чтобы представить население Российской империи «нацией». Здесь можно выделить:
– искусственные реконструкции русской истории, стремящиеся подчеркнуть единство всех граждан Российской империи;
– закрепление норм русского языка уже не как койне, а как общеобязательного идиома;
– планомерную и искусственную «русификацию» окраин, что в случае народа никогда не является формой продуманной политики, но возникает само собой, в силу неравновесия приходящих в контакт обществ;
– постепенное введение норм государственного образования;
– внешнюю политику, основанную, прежде всего, на экономических интересах.
Все эти явления точно соответствуют методам, которые, по реконструкции Э. Геллнера717 и Б. Андерсона718, используются для искусственного создания «воображаемого сообщества» — нации и, соответственно, национального государства. Это сопровождается признаками национализма: например, притеснениями этносов, противящихся русификации и пытающихся сохранить свои этнические и религиозные обычаи, высокомерие в отношении малых этнических и религиозных групп, и даже практику этнических чисток, что мы часто встречаем в Кавказской политике России (например, в форме принудительной высылки в мусульманскую Турцию целых этнических групп Северного Кавказа и Крыма — мухаджиров, абхазов, черкесов, убыхов, шапсугов, вынужденно переселившихся в Турцию после окончания Кавказской войны, или крымских татар, массово переселившихся в Османскую империю после аннексии Россией Крымского ханства в 1783 г.
Однако в России нация создавалась имитационно, подражательно, на основе абсолютистской монархии и без опоры на развитое и влиятельное третье сословие. В Европе нации создавали буржуа в своих интересах, возводя свое сословие и его структуру в общеобязательный социальный норматив. Нация могла выдвигать или поддерживать монарха или даже императора (Наполеон), но существенная и постоянно растущая доля власти была у городского третьего сословия. В России — стране с чрезвычайно слабым городским третьим сословием и с преобладающим крестьянским населением, живущим в ритме этноцентрума, — нацию создавали цари и европеизированная наследственная аристократия. Очевидно, что различие настолько существенно, что «нацией» результат подобных усилий назвать невозможно.
Как только российское дворянство попыталось сделать резкий шаг в сторону модернизации (восстание декабристов), реакция последовала незамедлительно. «Русская Правда» Пестеля и «Конституция» Муравьева стремились одновременно ограничить самодержавие, расширить полномочия дворянства и продвинуть создание российской нации (это особенно ярко выражено у Пестеля). Но и это было совершенно искусственной и несвоевременной попыткой, для успеха которой не было внутренних условий и которая была легко ликвидирована реакционным режимом.
Такова структура российского общества: в нем преобладает население, живущее по закону этноса; присутствует и достаточно активен народ и структуры традиционного общества, а сверху (со стороны царей-реформаторов и их сподвижников) на этот народ спроецированы искусственные формы имитационной «нации», не укореняющиеся глубоко, но так или иначе влияющие на общество в целом.
Эта структура сохранялась в целом вплоть до 1917 г. Ближе к XX в. и в самом его начале собственно буржуазные преобразования стали нарастать, и объем того, что можно было отнести к нации, увеличивался (росло промышленное производство, укрупнялись города, развивалась торговля, быстро складывались классовые отношения и т. д.) вплоть до Февральской, а затем Октябрьской революции 1917 г. Но Россия даже отдаленно не приблизилась к тем социальным и этносоциологическим условиям, которые абсолютно необходимы для перехода от первой производной этноса (народа) ко второй (нация). Нации в России не было. Пропорции между городской буржуазией и сельским крестьянством, а также укорененность сословных отношений и самодержавных традиций позволяют однозначно утверждать, что и в момент краха Российской Империи мы имели дело преимущественно с традиционным обществом — т. е. с народом (лаосом). Это был российский народ с широкой зоной архаического этнического населения и отдельным элементами нации (привнесенными сверху и только-только приживающимися в низах).
Для буржуазной революции условия были столь же непригодными, как и для успеха восстания декабристов за 100 лет до этого.
Россия номинально просуществовала в форме официально провозглашенной буржуазной нации совсем недолго — с февраля по октябрь 1917 г. (всего полгода). И это было со стороны Временного правительства скорее «декларацией о намерениях», нежели выражением объективно сложившихся буржуазных отношений в российском обществе. Буржуазная нация была провозглашена, но в реальности ее не существовало. Существовал только российский народ, у которого в силу археомодерна была заведомо блокирована сама возможность к полноценному историческому и социальному самосознанию. Славянофилы, народники, русские религиозные философы, первые русские социологи и этнологи, представители классической русской литературы и поэзии, деятели Серебряного века — все они на разные лады пытались выразить насущную проблематику народа, способствовать его самоидентификации, намечали возможные пути исторического становления в новых условиях, перед лицом вызова Нового времени, идущего со стороны Запада. Но этому процессу препятствовал археомодернистский царизм, который довел ситуацию до того, что государство рухнуло и началась новая русская Смута.
В феврале 1917 г. Российская империя действительно рухнула, а нового буржуазного российского национального государства на ее обломках не возникло.
Глава 17
ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ СССР
§ 1. Российское (и советское) общество в первой четверти ХХ века
Российский народ на момент октября 1917 г.
В советской истории следует выделить три основных периода — ранний (от 1917 г. до конца 1920-х гг.), средний (совпадающий с единоличным правлением Сталина — до его смерти в 1953 г.) и поздний (от смерти Сталина до 1991 г. и конца СССР).
В предыдущей главе мы показали, в каком состоянии находилось российское общество накануне Октябрьской революции 1917 г.
Следует особенно подчеркнуть следующие особенности этносоциологической картины данного исторического момента:
1. Россия оставалась аграрной крестьянской страной719, основу внутреннего валового продукта составляло производство сельскохозяйственной продукции — в первую очередь, зерновых культур.
2. Преобладающим социальным типом россиянина был крестьянин, пятьдесят лет существовавший в условиях после освобождения от крепостного права. Российское крестьянство оставалось в контексте этнического бытия, представляя собой «мир», русский этноцентрум.
3. В России сохранялись параметры традиционного общества. Основная масса населения представляла собой православных верующих, тогда как часть этносов в Поволжье, на Кавказе и в Средней Азии исповедывали ислам; монгольские этносы — буддизм, а евреи — иудаизм.
4. Россия все еще была сословным государством, перехода к классовому принципу (иерархии, основанной исключительно на материальном факторе) не произошло.
5. Россия была империей, т. е. традиционным государством, в котором сохранялось этническое своеобразие масс наряду с общим для всех койне и военно-политическим централизмом.
6. Развитие капитализма, урбанизация и увеличение пропорции третьего сословия (буржуазии) шло в России довольно быстрыми темпами, но в силу целого ряда факторов (исторических, географических, климатических, социологических, религиозных, психологических, ментальных, культурных, экономических и т. д.) полноценного капитализма, как ранее феодализма, в России не сложилось.
Эти положения показывают, что к октябрю 1917 г. с этносоциологической точки зрения Россия, российское общество представляло собой народ (лаос), а не что-то иное. В структуре этого народа (лаоса) сохранялись как этнические пласты (аграрный сектор и малые этносы), так и устойчивая сословная иерархия, постепенно открывающая путь представителям низов для занятия тех или иных позиций в элите — это осуществлялось через образование (разночинцы), экономическую деятельность — промышленность, торговлю, развитие культуры и науки и соответствующих институтов.
Разумеется, в русском народе к началу ХХ в. можно было найти и элементы буржуазной нации, которые поспешно были выданы за признаки перехода страны к капитализму и «буржуазной республике». Истинное положение дел в структуре общества (как народа) некорректно оценивалось значительной частью политических элит, стремившейся представить традиционное общество и народ как буржуазную нацию и сложившееся устойчивое капиталистическое общество. В этом были согласны между собой не только представители буржуазных партий, кадеты и октябристы, и часть правых эсеров, но и большевики. Таким образом, вновь мы получили форму археомодерна: традиционное общество с российской спецификой и с элементами, напоминающими западноевропейский буржуазный уклад, было приравнено к полноценному, сложившемуся буржуазному, капиталистическому обществу, по основным параметрам схожему с европейскими странами того времени. Такое расхождение учреждало глубинное противоречие между тем, что имело место в действительности, и тем, как эта действительность была представлена и оценена политическими элитами — на сей раз не царистскими, а буржуазно-республиканскими и большевистскими.
Это противоречие является самым главным фактором для корректного этносоциологического анализа всего советского периода. В 1917 г., к моменту совершения Октябрьской революции, в России существовал народ (первая производная от этноса) со всеми его отличительными признаками:
– традиционное государство;
– религия;
– элементы особой цивилизации и культуры.
При этом не существовало полноценной второй производной от этноса (нации) с соответствующими признаками:
– национального государства (со свойственной ему однородностью демоса/населения);
– буржуазного (урбанизированного) общества с моделью иерархии, основанной на классовом критерии;
– развитой и преобладающей гражданской идентичности;
– ведущей роли промышленного производства в структуре ВВП;
– сформированных институтов парламентской политической и партийной демократии;
– работающей модели разделения властей;
– доминирующего секуляризированного, научного (атеистического, материалистического) подхода к образованию.
Большевики захватили власть в обществе, в котором, следуя их собственной идеологии, захватить ее они не могли даже теоретически. Это и стало основой нового археомодерна советского толка. Чтобы понять его структуру, необходимо сделать краткий экскурс в марксистское учение об обществе и о месте в истории этноса, народа и нации.
Марксистская теория общественного прогресса
Марксистская идеология основана на безусловном принятии тезиса о прогрессе, свойственного Новому времени и особенно важного для гегелевской философии, серьезно повлиявшей на Маркса. В своей философии истории Гегель выстроил модель описания сущности исторического процесса как этапов диалектического развития Абсолютной Идеи. Эта Идея в своей изначальной и полной форме Абсолюта отчуждается от самой себя и становится основой для возникновения мира, который есть нечто отличное от Абсолюта, нечто относительное, т. е. антитезис Абсолютной Идеи. Однако Абсолют не допускает полного отрицания самого себя, поскольку он выше всех отрицаний. Наличие Абсолютного в неабсолютном и порождает историю, которая стремится привести мир к отождествлению с Абсолютной Идеей. Это отождествление мыслится как синтез, и когда он достигнут, история заканчивается. Сам Гегель считал, что венцом истории будет создание просвещенной монархии с опорой на философов и людей науки, культуры и искусств, в которых получит свое субъективное воплощение объективный Дух.
Маркс отбросил гипотезу Абсолютной Идеи и рассмотрел в качестве первоначала материю, но не инертную и пассивную, а несущую в себе потенции жизни и развития (так мы встречаем в ней отголоски гегелевской Абсолютной Идеи). Далее Маркс, еще ближе подходя к Гегелю, утверждает, что материя как всеобщее первоначало несет в себе вектор эволюции и, соответственно, жизни и сознания как высшей формы жизни. Материя в своем развитии имеет определенную цель — достичь высшей точки. Среди природных явлений такой точкой, достигнутой в ходе эволюции материи, является человек, который снимает природу и переводит все процессы в особую сферу — в общество, где преобладают уже не законы природы и инстинктов, но законы сознания. Общество как высшая форма бытия материи, в свою очередь, развивается и проходит стадии развития, этапы общественно-экономических формаций, направленных от низших форм общества к высшим.
В своих теориях относительно древнейших форм общества Маркс и Энгельс основываются на эволюционистских представлениях Моргана, что во многом предопределяет их оценки, заключения и типологию обществ. Начальной стадией общества Маркс считает пещерный коммунизм или первобытнообщинный строй. В нем нет разделения труда и неравенства. Люди с помощью примитивных орудий труда добывают себе жалкое пропитание, живя в условиях недифференцированной общины. Далее, по мере развития орудий производства и роста производительности труда, возникает имущественное и социальное неравенство, начинается этап родоплеменного строя, появляются старейшины, захватывающие в обществе имущество и власть. Постепенно, по мере развития производства, родоплеменной строй переходит в рабовладельческий, когда социальное неравенство и разделение труда приобретает кастовый, строго структурированный характер и возникают первые формы древнейших государств.
Позднее, в эпоху Средневековья, рабовладельческий строй сменяется на феодальный, и вновь, по Марксу, этот процесс связан с экономическими факторами — развитием производительных сил, неэффективностью рабского труда, противоречиями между уровнем развития производительных сил и характером производственных отношений. При феодализме вместо кастового деления начинает преобладать сословное и общество организуется по схеме пирамиды личной преданности вассала сюзерену — от сервов через баронов, графов, князей и вплоть до короля, «первого из равных». Далее, укрупнение городов, развитие ремесел и торговли, а также разложение феодального строя создает предпосылки для буржуазных революций и реформ — начинается эпоха капитализма. Капиталистический строй сменяет собой феодальный, пока, наконец, разложение капиталистического строя и заложенные внутри него противоречия (между трудом и капиталом) не приведут к социалистическим революциям. Социалистические общества сменят собой капиталистические и, сближаясь друг с другом, придут к мировому коммунизму. Государства отомрут, человечество станет разумным и будет жить мирно на основании принципов равенства, свободы и братства, творчески развивая свои возможности.
Эта теория основана на принципе «ортогенеза», т. е. наличия у материи цели, к которой она стремится — от низшего к высшему, от простого к сложному, от несовершенного к совершенному. Поэтому первобытнообщинный строй является низшей, а коммунизм — высшей формой общества.
Исторические факты, известные во время написания Марксом основных трудов, и наиболее распространенные взгляды ученых, историков, биологов, этнологов и антропологов того времени позволяли относительно непротиворечиво осмыслить эпоху буржуазных обществ Европы XVII–XIX вв. как капиталистическую фазу истории, постоянно продуцирующую все новые и новые научные, философские, биологические, социальные и экономические теории, так или иначе подтверждающие картину подобной общественной эволюции.
Маркс и Энгельс в своих трудах дали основные критерии для идентификации каждой из выделенных ими общественно-экономических формаций и построили относительно непротиворечивую модель европейской истории, которая, на первый взгляд, подтверждала «ортогенез» и укладывалась в линейную теорию материальной и биологической эволюции, а далее — социального и исторического прогресса.
Формации и этносоциологическая таксономия
Соотнеся формации Маркса с основными категориями этносоциологии, мы получаем следующие соответствия:
|
Формации в марксизме |
Этносоциология |
|
первобытнообщинный строй |
этнос: этностатика/этнодинамика |
|
родоплеменной строй |
этнокинетика |
|
рабовладельческий строй |
народ (лаос) традиционное общество государство религия цивилизация |
|
феодальный строй |
народ (лаос) персонализация властных отношений |
|
капиталистический строй |
нация гражданское общество |
|
социалистический строй |
гражданское общество? |
|
коммунизм |
глобальное общество? |
Схема 31. Соответствия марксистских формаций
и этносоциологических категорий
Если при рассмотрении схемы вынести социалистическое общество за скобки, получаются довольно четкие соответствия, позволяющие отождествить термины обеих колонок. Главное отличие двух подходов состоит в том, что марксизм убежден в неизбежном прогрессе и «ортогенетическом» переходе одного типа общества в другой, а этносоциология настаивает на «синхроничности», сосуществовании этих типов обществ и их реверсивности (возможности двигаться в обратном направлении — от сложного общества к простому). Правда, есть один нюанс, связанный с эволюционизмом Моргана, заимствованного марксизмом: он состоит в допущении, что племенные общества являются продолжением рода, а иерархия в обществе проистекает из возвышения родовых старейшин. Это опровергается более тщательным историческим анализом, т. к. самые простейшие общества никогда не являются родовыми, а как минимум двухродовыми, и социальной дифференциации в обществе, предоставленном самому себе, не возникает, поскольку для его существования необходимо наложение как минимум двух этнических групп, иерархизированных фактом покорения одной из них другой. Именно этот фактор позже становится основной кастового или сословного различия и социальной стратификации, даже если этнические корни его стираются. В остальном этносоциология с марксистской схемой вполне может согласиться.
Сложнее обстоит дело с социализмом и коммунизмом, т. к. у нас нет исторических примеров их реализации в том виде, в каком их предсказывал Маркс. Маркс считал, что они могут быть построены только после полноценной реализации всего цикла капиталистического общества в развитых буржуазных национальных государствах Европы. Позднее победивший социализм из Европы должен распространиться на все остальные страны, пока он не станет глобальным и не перейдет в коммунизм. Однако в истории этого не произошло. В Европе (шире, на Западе) социальная история развертывалась по сходному сценарию — перехода от национальных обществ (государств-наций) к гражданскому обществу и к элементам процесса глобализации
Это можно зафиксировать на практике, что позволяет корректно проводить этносоциологический анализ. Марксистские же тезисы о социализме и коммунизме остались теоретическими построениями, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
В любом случае сравнительная схема показывает то, до какой степени можно говорить о параллели между марксизмом и этносоциологией и как классический марксизм понимает статус «этноса» и «нации».
Капитализм и Россия: идеологические парадоксы и этносоциологические трудности
Если соотнести теперь марксистское учение о формациях с той этносоциологической картиной России октября 1917 г. (и ранее, в конце XIX — начале XX вв.), мы увидим серьезное противоречие, определяющее многие существенные идеологические особенности русского большевизма и, позднее, советского строя. Согласно классическому марксизму, пролетарская революция и построение социалистического общества возможны только после того, как в стране установится капитализм, т. е., в этносоциологических терминах, когда страна станет нацией, национальным государством, со всеми характерными признаками. Поскольку в России в начале XX в. буржуазной нации и капиталистической экономики построено не было, социалистическая революция в ней (согласно марксизму) невозможна. Именно такой точки зрения придерживался в свое время сам Маркс, отслеживая темпы развития и индустриализации России. То, что Россия была народом и традиционным обществом, а не нацией и не буржуазным обществом, стало центральной темой идеологических дискуссий в русском левом революционном движении конца XIX — начала XX вв. Чтобы настаивать на социалистической революции в России в таких условиях, надо было либо отказаться от марксизма и предложить иную левореволюционную модель, либо отрицать очевидное положение дел.
По первому пути пошли русские народники и социалисты-революционеры (эсеры), которые отвергли марксизм как догму, выдвинули идею крестьянского социализма (т. е. социализма, который может и должен быть построен на основе традиционного аграрного общества, без построения капитализма). Элементы капитализма в России признавались эпизодическими и не принципиальными. Историческую особенность российского общества предлагалось признать и принять как данность и бороться за освобождение именно народа — в первую очередь, народных масс для построения справедливого и бесклассового общества на основе русского крестьянства и всех других этносов империи.
По второму пути пошел Ленин и большевики, вынужденные, вопреки очевидности, утверждать, что «капитализм в России» построен720, что Россия есть буржуазное национальное государство и что «все готово для осуществления социалистической революции». Эсеры принесли в жертву Маркса, большевики — действительное положение дел в России, т. е. саму Россию. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России»721 пытается доказать эту несуразность с помощью разнообразных хитростей. Основным методом для этого служит исключительный учет тех безусловных примеров и статистических данных, которые демонстрировали пропорциональный рост промышленного производства, развитие классовых отношений в городе и начало классового расслоения в деревнях, модернизацию экономики, релятивизацию сословных отношений, повышение влияния буржуазии т. д. Все эти факты действительно имели место, но их можно было принять как данность в случае полного игнорирования всех пропорций и контекстов. В гигантской аграрной стране с традиционным обществом росли и ширились лишь городские и пригородные аггломераты капиталистического буржуазного общества. Концентрация внимания только на них и вынесение всей остальной страны за скобки позволяли поверить в описанную Лениным картину. Но стоило вернуться к реальности, и все возвращалось на свои места: в России существовал народ, а не нация, аграрный строй, а не развитый промышленный капитализм, сельское крестьянство, а не городской пролетариат.
Но Ленин руководствовался волюнтаристским подходом и настаивал на немедленных революционных действиях. Признание объективной картины отодвигало перспективу социалистической революции в России на неопределенное будущее, и правыми оказывались только эсеры. Ленин пошел другим путем, заменив объективную картину идеологически выстроенной догматической репрезентацией. Капитализм в России есть, нация сложилась, пролетариат сформировался, утверждал он. Значит, пришло время пролетарской революции.
В этом состоит специфика большевизма: пытаясь реализовать строгий догматический марксизм там, где для этого не было никаких условий, Ленин решил пожертвовать не марксизмом, а страной, подменив реальное общество выдуманным, сконструированным, его искусственной моделью. Желаемое он принял за действительное, и принялся активно работать с образом так, как если бы это было само изображаемое. Пока большевики не пришли к власти в 1917 г., это можно было бы списать на экстравагантное и безответственное теоретизирование. Но когда Ленин и его сподвижники захватили власть в России, эти установки стали активно внедряться в жизнь, подстраивая реальность под представления правящей политической элиты, провозгласившей диктатуру пролетариата и начавшей менять страну и общество в соответствии со своими догматами.
Ленин отождествил капитализм с коротким периодом власти Временного правительства, посчитал, что в октябре 1917 г. с ним было покончено и началась эпоха социализма.
Иными словами, мы получили глубоко противоречивую и парадоксальную ситуацию: социалистическая революция произошла там, где, согласно Марксу, она не могла произойти, а там, где эта революция, напротив, должна была произойти (в странах Европы или США), ничего подобного до сих пор и не случилось. Для России это означало: большевики построили общество, которое соответствовало их догматическим представлениям о социализме, но в качестве исторического и социального фундамента для этого общества они утвердили некий «мнимый объект», «химеру», чисто теоретическую абстрактную конструкцию русского капитализма, которая не имела никакого смысла, веса или онтологического содержания. Так был создан гибрид общества, состоящий в реализации искусственного проекта. Этот гибрид мы называем «советским археомодерном». Он существенно затрудняет корректный этносоциологический анализ советского общества, т. к. требует на каждом этапе и в каждом конкретном случае отделять действительное от мнимого, социологически достоверное от догматического.
«Национальная проблема» в русском большевизме: расшифровка и происхождение термина «национальность»
Теперь следует рассмотреть термин «нация», который в советское время получил смысловую нагрузку, качественно отличную от той, какой этот термин наделен в европейских языках и западной политической и политологической практике.
Вопреки очевидности, Ленин утверждал, что в России было построено полноценное капиталистическое общество: для Ленина Россия, будучи капиталистической страной, являлась национальным государством, а ее население — нацией. Однако на деле разнородное и преимущественно этничное население России отдаленно не напоминало европейские буржуазные нации. Назвать жителей России «нацией» даже у Ленина, несмотря на его пренебрежение реальностью, не поворачивался язык.
На помощь ему пришел терминологический спор среди германских социал-демократов как раз на эту тему. Спор развертывался между австрийским марксистом Отто Бауэром722 и германским марксистом Карлом Каутским723. В центре спора было значение понятия «национальность» (Nationalität).
Бауэр толковал «национальность» психологически и культурно — как нечто среднее между народом и этносом. Карл Каутский считал, что нация представляет собой современный феномен — результат образования крупных территориальных экономик в условиях капитализма. Согласно его определению, отличительными чертами нации являются общность языка и территории, сложившиеся в условиях процесса капиталистической консолидации экономики. В этом смысле Каутский был близок к классическому определению «нации» как политической конструкции, свойственной современным капиталистическим обществам. Так же, как Каутский, «нацию» и «национальность», понимает подавляющее большинство политологов и юристов. По сути, только так и можно ее понимать. Полнее всего это показывает Э. Геллнер724, обобщая все существующие точки зрения. Иными словами, в этом споре Каутский утверждал очевидные вещи. На каком тогда основании ему возражал Бауэр?
Здесь следует вспомнить, что Каутский был гражданином Германии, типичной буржуазной нации (хотя этнически чехом по матери), а Бауэр — австрийским подданным. Австро-Венгрия была империей, т. е. традиционным государством, в котором присутствовало германское ядро и целый ряд этнических групп (чехи, словаки, хорваты, словенцы, венгры и т. д.). Австро-Венгрия в таком качестве доживала последние дни и, по сути, внутри нее уже почти сформировались отдельные нации — австрийцы (немцы), венгры, чехи, хорваты и т. д. Но все же эти «почти нации» еще не имели своей государственности, а существовали в рамках единого традиционного государства, хотя и распадающегося на глазах. Бауэр не знал, как правильно назвать эти «почти нации», которые все же были не полноценными нациями (у них отсутствовала государственность), и определил их как «национальности». Критерий государственности, общей экономической системы отсутствовал, и ему пришлось обращаться к таким свойствам, как культура и психология, что относится к этносу. Спор, таким образом, определялся положением каждого из оппонентов: Каутский описывал типичную и нормальную ситуацию (национальное государство — нация), а Бауэр пытался зафиксировать момент рассыпающейся империи (традиционное государство — народ).
Чтобы прояснить терминологию, Ленин, включившийся в спор немецких социал-демократов, вводит противопоставление между «национальным государством» (нация в полном смысле слова — то, что имел в виду Каутский) и «государством национальностей» (т. е. рушащаяся империя — то, что имел в виду Бауэр). Ленин, полемизируя в свою очередь с Розой Люксембург, пишет725:
«Каутский: “Национальное государство есть форма государства, наиболее соответствующая современным” (т. е. капиталистическим, цивилизованным, экономически прогрессивным, в отличие от средневековых, докапиталистических и проч.) “условиям, есть та форма, в которой оно всего легче может выполнить свои задачи” (т. е. задачи наиболее свободного, широкого и быстрого развития капитализма). К этому надо добавить еще более точное заключительное замечание Каутского, что пестрые в национальном отношении государства (так наз. государства национальностей (разрядка наша. — А. Д.) в отличие от национальных государств (разрядка наша. — А. Д.)) являются “всегда государствами, внутреннее сложение которых по тем или другим причинам осталось ненормальным или недоразвитым” (отсталым). Само собой разумеется, что Каутский говорит о ненормальности исключительно в смысле несоответствия тому, что наиболее приспособлено к требованиям развивающегося капитализма».
«Государство национальностей» представляет собой традиционное государство, т. е. народ, и «национальность» в этом случае означает не что иное, как «этнос». Но все же, т. к. речь идет о прогрессистской теории, то предполагается, что эти «национальности» не просто этнос в его архаической стадии, но существенно модернизированный этнос, которому суждено стать «нацией» в условиях ускоренного развития капитализма. «Национальность» в таком понимании есть неинтегрированный в нации этнический элемент государства (традиционного общества), которому ускоряющие ход исторического времени марксисты настойчиво желают скорейшего превращения в нацию, т. е. прохождения фазы капиталистического развития.
Ленин также пишет: «Образование национальных государств, наиболее удовлетворяющих этим требованиям современного капитализма, является, поэтому тенденцией (стремлением) всякого национального движения. Самые глубокие экономические факторы толкают к этому, и для всей Западной Европы — более того: для всего цивилизованного мира — типичным, нормальным для капиталистического периода является поэтому национальное государство. (…)
Следовательно, и пример всего передового цивилизованного человечества, и пример Балкан, и пример Азии доказывают, вопреки Розе Люксембург, безусловную правильность положения Каутского: национальное государство есть правило и “норма” капитализма, пестрое в национальном отношении государство — отсталость или исключение. С точки зрения национальных отношений, наилучшие условия для развития капитализма представляет, несомненно, национальное государство»726.
Лев Троцкий, чтобы подчеркнуть, что «национальность» и «нация» не одно и то же, приравнивает «государство национальностей» к «государству национальных осколков». Так он пишет в статье «Нация и хозяйство»727:
«Наряду с государствами национальностей и национальных осколков (разрядка наша. — А. Д.) стоят государства, в которых далеко несовершенное национальное единство дополняется, с одной стороны, союзом с государствами национальностей, а с другой — попранием национальной независимости колоний».
Россия в начале ХХ в. со всех точек зрения представляет собой именно «государство национальностей» или «национальных осколков». Введение понятия «национальность» (в духе Бауэра) наряду с «национальным государством» (в духе Каутского) призвано описать ситуацию в России, которая является империей (традиционным государством с различными этносами), но которой большевики предрекают распад и превращение в несколько буржуазных наций на основе ядра (великороссы, русские в узком смысле) и нескольких этнических групп, имеющих предпосылки (с точки зрения большевиков) для образования буржуазных наций — Финляндия, Польша, этносы Балтии, Южного Кавказа и т. д.
Так появляется термин «национальность», существующий лишь в русском языке и в строго определенном идеологическом (большевистском) контексте. В любом другом языке этот термин никакого другого значения, кроме как «принадлежность к нации», не имеет, а словоупотребление Бауэра не прижилось. В СССР, особенно после победы большевиков, именно этот термин стал использоваться для описания тех обществ, которые не являлись полноценными «нациями», т. к. не имели самостоятельной государственности, но отличались друг от друга рядом этнических черт.
Сталинское определение «нации»
Со Сталиным дело еще больше запутывается, т. к. он предлагает определение «нации», смешивая и политические и этнические признаки в нечто общее. По Сталину, нация отличается четырьмя признаками:728
1) общность языка;
2) общность территории;
3) общность экономической жизни;
4) общность психического склада или национального характера.
Первый пункт может быть отнесен и к этносу, и к народу (если иметь в виду койне), и к нации (если иметь в виду идиом); второй — к народу и нации (и там и там существует государство и его границы). Третий признак характерен только для нации как буржуазного образования. Четвертый свойственен именно этносу как органической общности людей.
В сталинском определении окончательно утрачивается какая бы то ни было логика, и термин «нация» приобретает настолько неопределенный смысл, что его можно использовать в разных ситуациях по-разному, что, видимо, и было целью Сталина, которому предстояло постоянно подстраивать под догматику марксизма сложную полиэтническую и имперскую структуру российского традиционного общества.
Если Ленин был последовательным в том, чтобы предоставить «национальностям» право на самоопределение (что он и сделал в отношении Прибалтики); если Троцкий считал, что необходимо двигаться к «мировой революции» путем полной интернационализации, то Сталин под видом все той же марксистской догматики восстановил российскую империю, а этническим меньшинствам предложил рассматривать себя как этносы, «уже побывавшие нациями» и добровольно решившими строить социализм, сохранив свою особенность в качестве «национальностей». При этом термин «национальность» почти полностью утратил политическое и экономическое измерение, порвал всякую коннотацию с наличием независимого государства и превратился в синоним этноса, обозначая собой нечто вроде «социалистического этноса», «советского этноса», этноса в условиях социалистического государства.
СССР и советский этнопролетариат
Советский Союз был парадоксален со всех точек зрения — и с точки зрения марксизма и западноевропейской истории, и с точки зрения логики самой русской истории. СССР был построен как социалистическое общество, которое должно было следовать за буржуазным периодом и, соответственно, за национальным государством, но ни капитализма, ни национального государства в России толком не сложилось. Поэтому социалистическое общество строилось на базе той реально существующей этносоциологической структуры, которая имелась в наличии — т. е. на основании народа (лаоса), традиционного общества и традиционного государства, империи. Определенные несущие конструкции этого традиционного общества снесли (религию, аграрный уклад большинства населения, сословность и т. д.) большевики. Но другие элементы сохранились несмотря ни на что — общинная психология, интуиция исторической миссии, особенность русского мировосприятия, этнический характер мышления и т. д.
В любом случае социалистический строй основывался не на том историческом фундаменте, на который рассчитывал Маркс.
Здесь можно вспомнить то, что мы говорили о явлении «этнопролетариата».
Этнопролетариат — это этносоциологический термин, призванный подчеркнуть закономерность сохранения этнических особенностей у городского пролетариата как социальной группы, приехавшей в город из деревни и, соответственно, соприкоснувшейся с буржуазной средой позднее других слоев общества. Иными словами, пролетариат, появляющийся не из пустого места, а из деревни, т. е. из этноцентрума, даже в городских условиях сохраняет определенные живые этнические черты, причем в большей степени, чем у более адаптировавшихся к городу буржуа, т. е. представителей третьего сословия. Поэтому всякое обращение к пролетариату со стороны политических сил косвенно несет в себе обращение к этноцентруму и его структурам. Иными словами, в коммунизме, считающем себя наиболее продвинутой фазой социального развития, мы можем распознать многие архаические черты.
Это замечание может быть применено к разным историческим ситуациям, но особое значение приобретает в случае советской истории, в которой городской пролетариат в начале ХХ в. был очень слабо развит и пополнялся за счет выходцев из деревни в первом поколении, а в советское время, и особенно в 1930-е гг., за счет насильственной и массовой пролетаризации, которой подверглись широкие крестьянские массы в ходе запланированной тотальной индустриализации. Сталинские реформы, направленные на смычку города и деревни, приводили к перемещению в города огромных крестьянских масс, становящихся рабочим классом, но не способных быстро трансформировать свое этническое архаическое мировоззрение. Так, советское общество заново сталкивалось с этносом, от которого, согласно марксистским догматам, при социализме не должно было остаться и следа.
Минуя этап постепенной и планомерной урбанизации, медленного роста среднего сословия, расширения буржуазных нормативов на широкие слои населения, естественного развития промышленности, классового расслоения, замещающего бывшие сословные отношения, распространения секулярных научных знаний вместо религиозных учений, большевики создали общество, с одной стороны, действительно модернизированное и индустриализированное, а с другой — всколыхнули глубинные пласты народа и этносов, поднятых ото сна, перемещенных в противоестественные условия и получивших новый горизонт социального бытия. В этом соединении модернизации и архаики и состоит феномен советского археомодерна. Если на первом этапе Ленин и большевики просто описывали Россию как страну капиталистическую, тогда как в ней еще далеко не сложился полноценный капитализм, то, захватив власть и сумев ее удержать, они принялись самыми радикальными мерами подгонять российское общество под догмы, перепрыгивая в этом процессе через целые исторические эпохи. И поэтому вместе со стремительной модернизацией, индустриализацией и урбанизацией, они получили серьезную архаизацию и ресакрализацию общества. Это сделало советское общество уникальным обществом ярко выраженного археомодерна, чрезвычайно трудным для корректного анализа: в нем провозглашалось одно, делалось другое, а на самом деле, реальность была чем-то третьим.
Этническая структура коммунистической партии к моменту революции (новая элита)
Можно рассмотреть советское общество в первые годы его существования с точки зрения этносоциологии элит. Хотя коммунистическая идеология предполагает, что коммунистическая партия выражает интересы рабочего класса, в России, где рабочий класс был весьма ограничен количественно и не отличался ярким классовым самосознанием, партия Ленина была современным аналогом «внешних завоевателей», т. е. «элитой», осознающей себя чуждой тому обществу, которым ей предстояло править.
С социологической точки зрения большевики представляли собой новое издание «варягов», которые организовались на периферии российского общества, структурировались вне его пределов (эмиграция) и вернулись в Россию, чтобы сместить прежнюю элиту и установить свое правление. Если вынести за скобки идеологию и марксистское видение истории, в большевистской революции мы имеем дело с тем, что социолог В. Парето называл «ротацией элит», т. е. сменой одной элитой новой, приходящей на ее место.
Не случайно поэтому, что с этнической точки зрения большевики представляли собой полиэтническую группу, где представители собственно россов (как великороссов, так малороссов и белорусов) были в меньшинстве. Как и бывает в классическом случае создания нового государства, необходимо иметь достаточную дистанцию между элитами и массами, чтобы привести массы в движение и заставить их осуществлять те действия, которые в спокойном состоянии, будучи предоставленными самим себе, они бы совершать не стали. Как первые кочевники получают возможность построить государство, манипулируя населением, оказавшимся в их власти, как со скотом, так и большевики были отчуждены от масс, рассматривая их как статистические единицы, призванные служить инструментами социальных преобразований в целях построения новаторской общественной модели — социалистического общества. Для этого была необходима максимально возможная дистанция между партией и массой.
Эта дистанция в случае большевиков имела ярко выраженный этнический характер. Состав большевиков был полиэтническим с преобладанием пассионарного, эсхатологически ориентированного восточноевропейского еврейства, увидевшего в революции возможность приложения гигантских накопленных сил на практике, что ранее в царской России сдерживалось множеством социальных ограничений, в том числе — чертой оседлости.
Евреи с этносоциологической точки зрения являются народом, сплоченным вокруг религии. Еврейское восприятие коммунизма можно истолковать как светское выражение эсхатологической мистики, составляющей важнейшую черту этой религии. Наступление социализма и коммунизма описывается даже классиками марксизма и социалистами-утопистами как имеющее явно мессианские черты, созвучные ожиданию машиаха у иудеев. И хотя марксизм настаивает на атеизме и отвергает религию (в том числе и иудаизм), нельзя не увидеть здесь прямых структурных параллелей. Процент евреев среди большевиков в первой четверти ХХ в. был чрезвычайно велик729. Они составляли ядро коммунистической партии и основу наиболее важных партийных структур — в частности, ВЧК730.
Еврейский элемент большевиков сочетался со значительным процентом выходцев из этнических групп российских окраин, например с Кавказа, а также с территории Прибалтики или Польши — Сталин (Джугашвили), Камо (Тер-Петросян), Орджоникидзе, Махарадзе, Шаумян, Дзержинский, Меньжинский, не говоря уже о латышских стрелках и т. д. Совокупно они составляли сплоченную группу пассионариев, наделенных волей, энергией, силой и решимостью изменить мир, тогда как при царском режиме усилия этих людей не могли найти себе выхода.
В целом же мы имеем типичный случай «инородческой элиты», которая только и может быть основой для создания государства в том случае, если среди масс отсутствуют или редки пассионарные типы, или старая элита не справляется с требованиями истории.
Новая большевистская элита на корню уничтожила старую, царистскую, и на основании власти над российскими массами принялась творить новый народ, на сей раз советский, и, соответственно, новое государство — СССР.
Советский народ и традиционное общество
Если отвлечься от идеологических деклараций и марксистской идеологии, мы имеем знакомую картину, многократно повторяющуюся в истории. Пассионарные, воинственные и агрессивные элиты (изначально инородческие в отношении масс) получают (узурпируют) контроль над массами (преимущественно находящимися в этническом состоянии) и вызывают к жизни новый народ, создают новую государственность (часто принося с собой новую религию, в нашем случае — идеологию или новую культуру). При этом мы не выходим за пределы традиционного общества, а остаемся внутри него, поскольку новый народ и новое государство не основываются на преодолении буржуазных национальных государств и капиталистической системы, а приходят вместо них. При этом даже в древней истории есть случаи, когда идеология новых элит является эгалитаристской, основанной на призывах к всеобщему равенству и полному перераспределению материальных благ. Таковы, к примеру, даосское движение «желтых повязок» Чжан Цзюэ в Китае (184–205 гг.), движение маздакитов в Сасанидском Иране (V–VI вв.), Фатимидский халифат (909–1171 гг.) или анабаптизм Мюнцера (XVI в.).
Соединяя все эти соображения воедино, мы получаем следующий результат: в первой четверти ХХ в. Россия остается традиционным государством, которое, радикально меняясь после крушения монархии и Октябрьской революции, сохраняет тем не менее основополагающие признаки традиционного общества, т. е., остается народом (лаос). То, что в российской истории так и не сложилось ни полноценного феодализма, ни полноценного капитализма, предопределяет социологическую сущность советского общества — это общество не переходит к нации, второй производной от этноса, и все его трансформации не выходят за рамки народа. Претензии большевиков на то, что капитализм (еще не построенный) и национальное государство (так и не возникшее) уже преодолены в социалистическом обществе, следует признать проявлениями археомодерна и ложных репрезентаций. Тот социализм, который сложился в СССР, нельзя рассматривать как историческое воплощение классической теории Маркса о посткапиталистическом обществе. По сути, этот волюнтаристски созданный социализм более соответствовал эсеровским теориям о построении социализма в аграрной стране, нежели собственно коммунистической марксистской ортодоксии. Но сами большевики упорно придерживались марксистской и жестко пролетарской версии революции и отказывались смотреть на общество трезвым и корректным с этносоциологической точки зрения взглядом эсеров, предпочитая усугублять археомодерн и подстраивать реальность под свои представления. Впрочем, это свойство является весьма характерным для большинства пассионарных элит.
«Национальное» устройство СССР
Двусмысленность в определении «нации» отразилась и в государственном устройстве Союза Советских Социалистических Республик. Сами эти Республики считались «национальными», но имели социологические и этнические особенности, обозначенные неопределенными терминами «национальное», «национальность». Эти Республики в окончательном виде731 таковы:
В составе РСФСР были также следующие автономные республики или автономные области, которые считались по рангу менее значимыми, нежели Союзные Республики, но также в своих названиях имели «национальные» атрибуты:
– Еврейская автономная область
– Карачаево-Черкесская автономная область
– Коми АССР
– Марийская АССР
– Татарская АССР
– Хакасская автономная область
Неопределенность понятия «национальность» в административном устройстве СССР сказывалась на многих уровнях. Во-первых, наличие в названиях Союзных Республик и Автономных Республик самого термина «республика» позволяло предположить, что речь идет о самостоятельном государстве. В этом случае определение «национальный» можно было бы понять как вполне корректное употребление этого термина применительно к особым государственным образованиям (республикам и областям), все граждане которых являлись бы членами «нации» — соответственно, азербайджанской, армянской, белорусской или адыгейской, башкирской, бурятской и т. д. Но этому противоречило два обстоятельства:
1) все союзные и автономные республики и округа не имели атрибутов независимой государственности и полностью подчинялись партийному руководству СССР, которое не оставляла республиканскому руководству ни малейшей степени самостоятельности в решении сколько-нибудь значительных политических, экономических или стратегических вопросов (на практике СССР было строго централизованным унитарным государством);
2) понятие «национальность» (фиксировавшееся в советском паспорте в специальной графе) относилось не к факту прописки в той или иной республике (как предполагалось бы при политическом понимании «национальности»), но к этнической принадлежности советского гражданина.
Неотъемлемым свойством нации является наличие государственности и, следовательно, обладание политическим суверенитетом. Советские и автономные республики не обладали этими признаками. Если же понимать под «национальностью» только и исключительно этничность, не понятно, почему «национальными» назывались такие административные образования как Республики или автономные округа.
Поэтому термин «национальность» в советской практике не попадал ни под одно из рациональных определений и являлся ярким выражением археомодернистского конфликта между реальностью и репрезентацией.
Союзные и автономные Республики в составе СССР были «национальными» в том смысле, что они «символизировали» собой «прогресс» отдельных этнических групп бывшей Российской Империи, якобы построивших буржуазные нации, но позднее совершивших социалистические революции и добровольно объединившихся в единое социалистическое государство. Это нужно было Сталину для того, чтобы доказать: СССР не просто одна страна, Россия, где большевикам почти случайно удалось захватить власть, но это совокупность стран, где синхронно произошли социалистические революции, что делало советский режим не «национальным», но «интернациональным» явлением. Очевидно, на практике это было не так, и большевики установили над окраинами империи жесткий силовой контроль, как только для этого им представилась возможность, отнюдь не ожидая, пока «освобожденные от гнета царизма» этносы построят капитализм, организуются в нации, а затем осуществят пролетарские революции. Этого они могли бы никогда не дождаться, как в случае прибалтийских государств (Литва, Латвия, Эстония), независимость которых признал Ленин, и которые Сталину пришлось оккупировать в 1940 г., чтобы установить там советскую власть силой. Поэтому статус «национальной» в случае Республик в составе СССР был запутанной идеологической метафорой, имеющей смысл только внутри хитросплетений советского археомодерна, постоянно пытавшегося преодолеть пропасть между марксистской ортодоксией и конкретными историческими и социальными реальностями России.
Пока в СССР сохранялась политическая диктатура Коммунистической Партии, у руководства страны было достаточно сил, чтобы контролировать эти запутанные и парадоксальные формулировки, сводить на «нет» декларируемые официально правовые полномочия Республик и манипулировать с понятием «национальность», «де факто» придавая ему разный смысл в зависимости от ситуации. А попытки Республик или даже отдельных представителей воспользоваться статусом «национальный» в собственном значении этого понятия, немедленно блокировались как «буржуазный национализм», и те, кто давал основания для такого обвинения, подвергались репрессиям.
§ 2. Сталин и модернизация
Социализм в одной стране: Троцкий и Сталин
На втором этапе советской истории, прочно связанном с именем и деятельностью Иосифа Сталина, мы имеем дело с еще более сложным этносоциологическим явлением. Сталин, восполняя отсутствие в России развитого капитализма, стремится довести советское общество до такого уровня индустриализации, модернизации и урбанизации, чтобы общая картина пришла бы в соответствие с нормативами классического марксизма и отвечала бы догматическим установкам этой идеологии. Сталин создает тоталитарную систему, призванную ускоренным образом осуществить радикальное изменение глубинной структуры всего российского (советского) народа. Задача этой системы — выйти за границы традиционного общества, стремительно превратиться в мощную индустриальную державу, сопоставимую с современными капиталистическими странами.
Если Ленин доказал, что возможно осуществить социалистическую революцию в отдельно взятой стране (что значительно контрастировало с классическим марксизмом), Сталин, начиная с 1924 г.732, принялся утверждать, что в отдельно взятой стране социализм можно построить. В этом он разошелся с Троцким, убежденным в том, что социализм не может быть основан на государстве, даже социалистическом, и предполагает интернациональный альянс нескольких государств, которые должны стать ядром мировой революции.
Это расхождение Троцкого и Сталина имеет огромное значение для этносоциологического анализа советского периода. Троцкий пытался оставаться в контексте классического марксизма и считал, что если против него пришлось погрешить, совершая революцию в неразвитой и не состоявшейся как капиталистическая нация стране, то далее необходимо вернуться к классической схеме и осуществить пролетарскую революцию хотя бы еще в одной или нескольких странах (причем европейских), чтобы придать всему процессу исторический характер. Троцкий опасался, что строительство социализма в одной стране, и тем более в России как аграрной стране с преобладанием традиционного общества, приведет к противоположному результату. Следовательно, и революция, в которой он принимал самое деятельное участие, обнаружится не как закономерное историческое явление, а как оппортунистский переворот. В своей полемике со Сталиным Троцкий упрекал его в том, что Сталин согласился с функцией новой элиты в старом обществе и строил социализм с опорой на государственную бюрократию, в новых условиях восстанавливая российскую империю. Позднее к этому добавились упреки в тоталитаризме и «культе личности», т. е. в том, что Сталин превратился функционально в царя.
Совершенно очевидно, что Троцкий был ближе к истине, если рассматривать объективное положение дел и соотносить его с классическим марксизмом. Точно так же эсеры были ближе к истине, чем большевики, когда они настаивали на необходимости социалистической революции без вступления в фазу капитализма. Однако в обоих случаях близость к истине оказалась менее значимой, чем близость к власти и способность эту власть сосредоточить и удержать в своих руках.
Сталин осуществил именно то, в чем его упрекал Троцкий: он решил опереться на структуры традиционного общества и построить на его основании социалистическую систему, не заботясь о мировой революции и ограничиваясь пределами того государства, которое находилось в его руках. Объективно описал эти процессы, причем с позитивной оценкой, русский политолог и публицист Николай Устрялов, дав этому явлению название «национал-большевизм»733.
Троцкий был изгнан из страны, а затем убит в Мексике. Его сторонники, а также все те, кто имел к нему отношение и разделял его взгляды, были жестоко репрессированы. Сталин установил диктаторский тоталитарный режим, в котором марксизм был провозглашен «абсолютной догмой», не допускающей сомнений, но который при этом все дальше отступал от классической марксистской ортодоксии. Зазор между реальным положением дел и его искаженной до неузнаваемости репрезентацией в виде правящей идеологии нарастал.
Сталинская модернизация и ее парадоксы
Сталин не просто воспользовался захватом власти в традиционном обществе со стороны новой — большевистской — элиты. Он, действительно, принялся модернизировать советское общество, подстраивая его под марксистские представления. Он не соглашался быть правителем империи в традиционном понимании, он всерьез и самыми жесткими методами строил социализм.
Для этой цели он предпринял беспрецедентную модернизацию российского общества, не имеющую аналогов ни по своим масштабам, ни по своей жестокости, ни по своим эффективным последствиям. Сталину, начиная с 1929 г., удалось в кратчайшие сроки осуществить коллективизацию и урбанизацию (пролетаризацию) большей части крестьянских хозяйств, а также построить экономику, в которой доминировало промышленное производство. При этом тоталитарные методы, репрессии и моря пролитой крови сопровождались организацией общества на основе материального равенства — политическая элита большевиков не превратилась в имущий класс; ее превосходство над массами исчерпывалось чистой стихией власти. При этом Сталин регулярно обрушивал чистки и репрессии на голову самой этой элиты, воспроизводя архетип «народного царя», глубоко укорененный в русском обществе.
Сталин превращал традиционное общество (с необходимой крестьянской доминантой и этническим мышлением) в индустриальное и социалистическое, основанное на рациональном научном мировоззрении, гражданской идентификации и формально безупречной, с точки зрения критериев модерна, Конституции, предусматривающей основные права и обязанности, присущие гражданскому обществу. Но поскольку это гражданское индустриальное общество строилось не на исторической основе, научный рационализм оказался под контролем почти религиозной марксистской догмы, классовое коллективное самосознание (новое издание этнического холизма) подавляло индивидуализм, а правовые нормы были «де факто» (но не «де юре») подчинены абсолютному произволу партийных властей.
Нет сомнений, что Сталин искренне занимался модернизацией СССР и выкорчевыванием домодернистских установок. Нет сомнений, что он хотел построить общество, которое соответствовало бы представлениям марксистов о социализме, а не удовлетворялся компромиссом и личной властью (которую проще было бы основывать на сохранении основных структур прежней социальной системы). Нет сомнений, что он сделал все возможное, чтобы Россия стала не аграрной, а индустриальной, не крестьянской, а городской, не религиозной, а атеистической страной. Но при всем примененном насилии и немыслимом количестве жертв, принесенных на алтарь модернизации, ему, и никому иному, было не под силу трансформировать глубинные социологические пласты русского самосознания, которое вновь и вновь перетолковывало модернизационные инициативы в привычных структурах «вечного возвращения», «миролюбивого покоя», «гармонии» и «баланса». Этноцентрум переваривал любые удары, наносимые по нему Сталиным: подчиняясь, умудрялся лишить остроты модернизационный импульс, уклонялся от принятия внутрь себя травматизма индивидуальной идентичности.
Здесь мы имеем дело с феноменом этнопролетариата. В социализме и коммунизме вырванные из деревни и брошенные в механику модернизации и индустриализации россияне идентифицировали все тот же привычный для них этноцентрум — холистское, коллективистское, эгалитаристское мировоззрение, только перенесенное на новый — более обобщающий и более высокий — уровень. Стремясь превратить всю страну в город и уничтожив традиционное крестьянство и древние деревенские поселения почти под корень, Сталин добился того, что превратил бурно растущие пролетарские советские города в огромные села, а их жителей в «переодетых» крестьян.
Сталинские наборы в партию представителей социальных низов, народных масс несли с собой в элиту этнические элементы, контрастирующие с острым и травматическим, болезненным и пассионарным сознанием первых большевистских элит — «Ленинской гвардии» и троцкистов (которых Сталин постепенно вывел). В коммунистическую партию массовым образом вступали простые люди. Поток деревенских жителей пополнял ряды рабочего класса. В результате экстремальной насильственной модернизации формы традиционного общества стремительно менялись, но психологические структуры, то, что С.М. Широкогоров называет «психо-ментальным комплексом», оставались неизменными и проникали на все этажи советского общества.
Троцкий, обвинявший Сталина в том, что он русифицировал коммунизм, был совершенно прав. Русский этноцентрум, допущенный в элиту, не приобретал элитарных травматических свойств, но ловко имитировал их.
Археомодерн, сопровождавший Россию, начиная с Петровских реформ, при Сталине достиг своего апогея. Социологическая реальность и ее идеологическая репрезентация перемешались между собой самым причудливым образом. Чем более индустриальной и пролетарской, современной и секулярной, городской и рациональной становилась страна по форме, тем больше на все ее уровни проникали крестьянское этническое сознание, смутный материалистический мистицизм, холизм, космизм и коллективная идентификация. Резкая модернизация влекла за собой параллельную и столь же резкую архаизацию общества.
Советский народ, но не советская нация
Общество, построенное в результате такой стратегии, оставалось нерасчленимым народом или даже укрупненным, масштабированным этносом, хотя по форме оно репрезентировало себя как совокупность гражданских индивидуумов, сознательно объединившихся в особый тип общежития.
В такой ситуации советское общество не могло быть названо «нацией», особенно в политическом смысле, «советской нацией». Русский язык, формально представленный как «идиом», выполнял функцию койне, т. к. многие этнические группы продолжали толковать его как искусственный инструмент межэтнического общения, и легко вернулись к своим языкам после распада СССР.
Советский народ был именно народом, сохранившим внутри себя этнические группы, которые представляли собой либо этносы, никогда не переходившие к фазе народа (лаоса), либо тех, кто ранее являлся народом (как исторической общностью), но утратил возможности самостоятельного участия в истории. Если бы мы имели дело с «советской нацией», то эта этничность должна была бы быть качественно преодолена и стерта.
Сталинская национальная политика
Чрезвычайная запутанность проблемы определения «национальности» не мешало сталинскому режиму вести прагматичную политику в отношении этносов. В основе этой практической политики лежал принцип укрепления политического и территориального единства СССР, несмотря на декларируемые «права наций». Сталин был заинтересован в том, чтобы СССР были унитарным, по сути, государством, а для этого ни одна этническая группа не должна была иметь возможности превратиться в «народ» и поставить своей целью создание самостоятельной суверенной государственности. Для этой цели Сталин стремился включить в административные территории Республик зоны с этническим населением, отличным от основной его массы. В некоторых случаях он сознательно разделял близкие этнические группы по разным административным единицам. Так были созданы Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, обе населенные и тюрками (балкарцы и карачаевцы), и адыгами (черкесы и кабардинцы) в обратных пропорциях: в первом случае численно преобладали кабардинцы, во втором — тюрки-карачаевцы. В состав Грузии входили этнически отличные от грузин абхазцы (адыгская группа) и осетины (иранская группа, индоевропейцы). В Казахстан были включены значительные области, населенные этническими русскими. Территории Узбекистана и Таджикистана были разграничены вообще произвольно. Все границы в СССР имели относительное значение, поскольку в условиях фактической унитарности они были лишь административными конвенциями.
При этом в Республиках и, особенно, в республиканских комитетах Коммунистической партии высокие посты чаще всего занимали этнически русские, рассматривавшиеся Сталиным как естественные носители центростремительных тенденций. Проводилась политика интенсивной русификации, а там, где создавались «национальные» формы письменности, советская власть старалась по возможности вводить кириллицу.
Тем самым создавались предпосылки для интеграции советского народа в однородное социалистическое общество.
Те тенденции, которые способствовали росту этой однородности, Сталин поощрял; те, которые препятствовали, вырывал с корнем. При этом Сталин, будучи кавказцем, очень внимательно относился к этническому фактору, стараясь сочетать репрессии против всех проявлений национализма с серией политико-административных шагов, которые вызывали бы одобрение этнических групп. Так, в СССР поддерживалось развитие этнических культур, фольклорных коллективов, этнических театров, этнографических музеев, призванных поддержать этнические чувства, но в контексте марксистского и советского взгляда на историю, общество, культуру, мораль и т. д.
Особо следует оговорить практику этнических чисток, к которой Сталин прибегал с конца 1930-х гг., накануне Великой Отечественной войны. Усомнившись в лояльности советской власти ингерманландцев (финский этнос), живших на российско-финской границе, он организовал их массовое выселение на север и в Таджикистан. Из пограничных зон Украины в Среднюю Азию позднее выселили практически всех поляков. В августе 1937 г. 180 тысяч корейцев из Приморья, которые, по мысли Сталина, нуждались в интенсивной русификации, были отправлены эшелонами в Казахстан и Узбекистан.
В ходе и после окончания Великой Отечественной войны этнические чистки еще более усилились. На территориях, которые оказались под нацистской оккупацией, представители различных этнических групп проявляли себя по-разному с точки зрения лояльности к советской власти и отношений к оккупантам. В Белоруссии примеров сотрудничества с нацистами практически не было, партизанское движение там было самым сильным и активным, и жертвы среди белорусского населения были огромными. В Западной Украине или в странах Балтии, напротив, было достаточно примеров сотрудничества с немцами — и часто сознательного и основанного на антисоветской и антироссийской почве. Случаи коллаборационизма отмечались среди крымских татар, чеченцев, ингушей, турок-месхетинцев, кабардинцев, карачаевцев, калмыков и т. д. Ответ Сталина был направлен не против отдельных лиц, замешанных в этих деяниях, а против целых этносов, подвергшихся насильственной депортации — подчас в условиях, которые можно было назвать сознательным геноцидом.
В этом отношении к этносам мы видим пример классического переноса индивидуальной вины на весь этнос, характерного для традиционных государств и империй: точно так же поступали воины Чингисхана, уничтожавшие целые этносы из-за проступков их отдельных представителей, чаще всего вождей; так же тюрки Тюркютского каганата вырезали жужаней. Сталин под эгидой «социализма» воспроизводит нормативы традиционного общества (народа/лаоса), что позволяет определить реальное содержание его «национальной политики» — ее целью являлось укрепление государства, подчинение различных этносов единой интегральной стратегической цели и государственной элите, не терпящей ни возражений, ни предательства. При этом на практике Сталин руководствуется стратегией, свойственной любой империи, жестко отстаивающей свои интересы и манипулирующей с этносами в том формате, в котором это отвечает данным интересам.
Чистки элиты и «антисемитизм» Сталина
К «национальной политике» часто относят и этническую подоплеку устраиваемых Сталиным чисток внутри коммунистической партии, т. е. политической элиты большевиков. Здесь следует разделять два периода: 1937 г., который стал переломным для большевистской элиты первого призыва (ленинской гвардии) и эпоха 1947–1953 гг., когда было создано государство Израиль, что повлияло на отношение Сталина к евреям.
В период 1937 г. сталинские чистки были направлены против первого поколения большевиков, которые стали в СССР ядром правящего класса. Эту группу можно уподобить «варяжской дружине» первых русских князей, которые соучаствовали в построении нового государства и обладали в силу этого определенными элитными привилегиями — как в Древней Руси, так и в СССР. Сталин избавляется от зависимости от «старых большевиков», чтобы основать единоличную модель монархического типа правления. Приблизительно так же поступали неоднократно Киевские князья. Более того, независимость от боярского влияния приходилось отстаивать московским царям еще и в XV–XVI вв. В чистках, направленных на «ленинскую гвардию», Сталин осуществляет социологическую задачу ротации элит, с одной стороны, и установления единоличной власти, с другой. Никакого специфически этнического момента здесь не прослеживается. Другое дело, что значительный процент элиты «старых большевиков» состоял из евреев, что автоматически влекло за собой высокий процент евреев среди жертв сталинских чисток партийной верхушки. Евреи составляли ядро большевиков на первом этапе, были остовом коммунистической элиты, и когда Сталин обрушил на эту элиту репрессии, именно евреи стали первыми и основными ее жертвами. Однако едва ли со стороны Сталина это было проявлением осознанного «антисемитизма». Уничтожая одних евреев из когорты «старых большевиков», он сплошь и рядом делал это руками других евреев, остававшихся ему верными: пример тому — карьера Лазаря Моисеевича Кагановича (1893–1991).
Второй этап чисток, известный по «делу врачей», начатому Сталиным незадолго до своей кончины, имел более выраженный этнический характер. Созданное в 1947 г. на Ближнем Востоке государство Израиль как зримое выражение религиозных чаяний еврейского народа, рассеянного по разным странам мира, по возвращению на «землю обетованную», заставило многих евреев, в том числе и советских, делать выбор между лояльностью этому новому мессианскому образованию и тем секулярным формам «эсхатологии» (коммунистической или либеральной), которым они были преданы в прежних условиях, когда восстановление Израиля было исторически проблематичным. Это коснулось и советских евреев, что стало наглядно очевидно после визита премьер-министра Израиля Голды Меир в СССР (кстати, первую страну, признавшую Израиль официально). Подозрительный Сталин разглядел в энтузиазме советских евреев в отношении Израиля признак нелояльности и стал предпринимать в отношении них репрессивные меры, повторяющие те, которые ранее применялись против других этносов, заподозренных в недостаточной верности государству. Сталин составил план насильственного переселения евреев в Биробиджан, специально выделенную под это область на Дальнем Востоке, для создания там «национально-территориальной автономии», предназначенной для этнических евреев. В полной мере эти инициативы не осуществились из-за кончины Сталина.
Если суммировать «национальную политику» Сталина, то мы видим, что она не имеет ничего общего ни с буржуазным представлением о нации (где речь идет об индивидуальном гражданстве), ни с социализмом, где индивидуальная идентичность сочетается с классовым признаком. Сталин организовывал, сортировал, репрессировал, перемещал, «наказывал» и даже истреблял этносы в духе стратегии классических империй, заинтересованных в обеспечении своей безопасности, не утруждая себя соответствием тем или иным идеологическим или гуманистическим нормам. Сталин поступал с этносами (и в элите, и в массах) так, как это было выгодно государственной безопасности и укреплению территориального единства, в его понимании. Это еще раз подтверждает, что в случае СССР мы имели дело именно с традиционным обществом, упорно желающим при этом выдать себя за что-то, чем оно не являлось даже в самом общем приближении. Этнические чистки, переселения этносов, и даже этноцид, не назывались своими именами, но описывались с помощью искусственных и не соответствующих реальному положению дел репрезентаций.
Мировая социалистическая система и этносы
После окончания Великой Отечественной войны оккупированные советскими войсками территории оказались (часто помимо воли населения) интегрированными в структуру «социалистического лагеря». С точки зрения марксистской ортодоксии Сталин получил дополнительный «аргумент», подтверждающий, что пролетарская революция в России была не изолированным феноменом, но первым аккордом всеобщей исторической тенденции. Присоединение стран Восточной Европы к «советскому блоку» было представлено в качестве доказательства.
В этих странах установился номинальный социализм, и общество организовалось по советскому образцу с опорой на экономическую, военную и политическую мощь СССР. Таким образом к СССР добавились новые социалистические страны, в которых многие этносоциологические особенности советского археомодерна повторились в новом контексте.
При этом в мире сложились два идеологических лагеря, разделяющих пространство Европы и имеющих определенные этнические характеристики. Восточный блок строился вокруг славянского ядра — СССР и славянских стран Восточной Европы. Западный блок — вокруг англосаксонских народов (США, Англия, Канада). При этом оба блока распространяли свое влияние и на иные этносы, перенося идеологическое противостояние на Дальний Восток (Корейская и Вьетнамская войны), в Центральную Азию (Афганистан), Африку (Ангола, Мозамбик), Латинскую Америку (Куба, Никарагуа) и т. д.
§ 3. Этносоциологические особенности последнего советского периода (1953–1991 гг.)
Археомодерн в последний период советской истории
Третий советский период, после смерти Сталина и вплоть до распада СССР, характеризовался прежде всего прекращением сталинской практики ротации элит и радикальных методов проведения политики в отношении этносов. Сталинская модель общества сворачивается. Силы государства отныне бросаются не на реализацию далеко идущих планов и преобразований, но на сохранение «статус кво». Позднее этот период получит довольно точное название «застоя». Все тенденции, сложившиеся в эпоху Сталина, замораживаются в том состоянии, в котором они были при нем. Ничто не отменяется, но ничто и не развивается по намеченному сценарию.
В целом этносоциологическая структура советского общества остается прежней, хотя при этом запущенные Сталиным механизмы модернизации, индустриализации и урбанизации продолжают действовать, что приводит к постепенному изменению этнического, социального и экономического баланса в пользу городов и городского населения. Так, на протяжении 60–80-х гг. в СССР постепенно формируется «средний класс», включающий в себя все больший процент городских жителей и начинающий играть важную социальную роль. Только теперь и с использованием столь радикальных средств в России начинают складываться первые предпосылки для формирования буржуазного демократического общества и гражданской идентичности, которые отсутствовали на предыдущих этапах. Однако реалистическому осознанию такого положения дел препятствуют марксистские догмы, отрицающие, что в СССР только начинает складываться нация и городское третье сословие, и настаивающие, что все это «давно позади» и все живут «на пороге коммунизма» (Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев предрекает в 1961 г. на XXII съезде КПСС наступление коммунизма «через двадцать лет», т. е. в 1980-е гг.).
Здесь мы снова сталкиваемся с качественным зазором между социальной реальностью и идеологической презентацией, составляющим сущность советского археомодерна.
В этот третий период в СССР на основании советского народа начинает формироваться «советская нация», но ее развитие и становление блокируются идеологическими догматами и «уверенностью» в том, что в СССР уже построено полноценное (посткапиталистическое) социалистическое общество.
Это несоответствие определяет содержание эпохи «застоя». В СССР формируется класс горожан (т. е. «буржуазия»), идет полным ходом индустриализация, укрепляется индивидуальная идентичность (подпитываемая лозунгами брежневской эпохи типа: «все для человека, все во имя человека» и т. д.), распространяются научные материалистические представления, расширяется сфера образования, преобладают атеизм и материализм.
Вместе с тем в «национальных» образованиях (республиках разного уровня и областях) формируется некое подобие «наций»: растут города и пропорции городского населения, распространяется грамотность, светское образование, происходит развитие техники и инфраструктуры, индустриализация и ускоренное формирование индивидуальной гражданской идентичности.
Параллельно этому идет процесс «русификации партийного аппарата», т. е. все большего проникновения в политическую элиту выходцев из низших слоев общества — в первую очередь, крестьянства. В ходе этого происходит модернизация психологии русского народа и других этносов через их массовое вовлечение в процессы управления, требующие элитных навыков, и привитие совершенно не свойственной крестьянскому образу жизни индивидуальной идентичности, характерной для элиты гражданского общества.
Начатая Лениным и Сталиным модернизация традиционного общества продолжается, но в замедленном темпе.
Однако эта модернизация несет в себе и прямо противоположные тенденции, о которых уже шла речь раньше. Урбанизация не только делает вчерашних крестьян «горожанами», но и привносит «этнические» элементы в социальную среду города. «Национальные» образования не просто впитывают «интернациональную» культуру, технологию и соответствующие им социальные практики, но и укрепляют свою этническую идентичность, получающую возможность более осознанного и дифференцированного проявления. Этнические русские не просто модернизируются, массово вовлекаясь в элитные структуры партийной бюрократии, но и архаизируют идеологию, подстраивают ее под этнические модели мышления, сглаживают острые драматические моменты, характерные для конфликтологической системы марксизма. Иными словами, процессы плавной модернизации советского общества в течение третьего периода советской истории сопровождаются процессами столь же плавной его архаизации.
Структура археомодерна меняет свои параметры: объем социальных явлений, затронутых модернизаций, неуклонно растет, но параллельно этому усиливаются и компенсаторные архаизирующие тенденции.
Этносоциологическая подоплека распада СССР
К середине 80-х гг. ХХ в. все накопившиеся за годы советской власти противоречия дали о себе знать в полной мере. Догматическая марксистская идеология настолько оторвалась от социальных реальностей, что не справлялась с ответом ни на один существенный вопрос. Прекращение чисток в среде партийной элиты с эпохи Сталина привело к постепенному формированию наследственных властных кланов. В «национальных» образованиях этот процесс был окрашен в этнические тона, а кое-где возрождал и структуры досоветской региональной аристократии.
При этом партийная вертикаль власти, обеспечивающая СССР унитарный и централистский характер, постепенно ослабевала, что вело к росту центробежных процессов, осторожному подъему «националистических» настроений в союзных и автономных республиках и областях. Обнажались противоречия между интегрирующей функцией самого русского народа как основы государственной системы и категорическим запретом на акцентирование его этнической самобытности.
При этом рост городского населения и советского среднего класса способствовал усилению индивидуалистических тенденций, усилению в этой среде гражданской идентификации в отрыве от коллективных общин, интересу к западным буржуазным ценностям и западному образу жизни.
Советский «средний класс» городской технической и гуманитарной интеллигенции представлял собой этносоциологический аналог европейской буржуазии начала Нового времени, повторяя на новом витке явление разночинцев, свойственное XIX в. Только на этот раз масштаб урбанизации и модернизации был несопоставимо большим, затрагивающим действительно весомый пласт общества: в 1980-е гг. в СССР доля городского населения составляла около 70 %. Конечно, значительная часть горожан относилась к пролетариату или, точнее, к этнопролетариату, но пропорции «городской интеллигенции», людей среднего достатка, получивших высшее образование, неуклонно возрастали.
Еще одним важным этносоциологическим явлением стало массовое разочарование в коммунизме и советском обществе (особенно в свете сталинской политики последних лет) советских евреев, которые с огромной энергией и пассионарностью (после столетий поражения в правах и существования в «черте оседлости») включились в построение нового общества, основанного на столь близкой их религиозному стилю мессианской теории734, и заняли после 1917 г. важные позиции в большевистской элите. После создания государства Израиль и серьезных трений с высшим партийным руководством СССР (тенденции подозрительности к этнической самобытности евреев и критика сионизма продолжились и после Сталина, в эпоху Хрущева, при котором произошла переориентация СССР от Израиля на арабские страны, и при Брежневе) значительная часть советских евреев, сохранивших серьезное влияние на область советской культуры, искусства, науки, литературы и идеологии, разочаровалась в секулярной коммунистической версии мессианства. Эта часть стала склоняться либо к сионизму и выезду в Израиль, либо к западным либерально-демократическим ценностям, которые, по ее мнению, более соответствовали укреплению и возрождению еврейской идентичности, нежели условия советского социализма и свойственного ему догматического интернационализма, за которым можно было легко различить определенные имперские тенденции, традиционно свойственные русским. Яснее всего эту критику сформулировали западные троцкисты, отождествившие Советский Союз с новым изданием «российской империи». Авторы по-разному оценивают меру влияния этого фактора (кто-то считает его решающим, кто-то ничтожным), но следует учесть, что и советский марксизм, и политическая власть большевиков в значительной мере питались энергией еврейской политической и интеллектуальной элиты, оптимально подходящей для того, чтобы играть роль (наряду с иными меньшинствами) «руководящего этноса» в формировании советского народа. Когда этот блок интеллектуальной, политической и культурной элиты дистанцировался (в большей или меньшей степени, добровольно или принудительно) от поддержания идеологической ортодоксии советского марксизма, русификация коммунистической партии обнаружила свои отрицательные стороны. Оказалось, что русские массы, попав на высшие этажи бюрократии, не обладали должным дифференциалом по отношению к близким к ним этнически низшим слоям народа: они не успели выработать достаточной степени отчуждения от остального населения, необходимой для осуществления механики рациональной и всегда в той или иной мере насильственной власти. В результате коммунистические партийные элиты утратили идеологическую энергию, веру в будущее, волю к власти, погрязли в решении бытовых проблем, связанных с сохранением «статус кво». Советские элиты, предоставленные сами себе и полностью запутавшиеся в противоречиях археомодерна, утратили наступательность, перешли к обороне.
Все эти тенденции, вместе взятые, способствовали падению советского режима и распаду СССР. Ослабление партийного централизма и перерождение коммунистических элит; рост сепаратистских тенденций и национализма в республиках СССР; увеличение пропорций городского «среднего класса» и интеллигенции с индивидуальной идентификацией и стремлением к свободе и демократии; дистанцирование от советской идеологии евреев, бывших некогда существенным элементов советской элиты, и переход их к критическому или ироничному отношению к социалистическому строю; катастрофические противоречия между модерном и архаикой, между социальной реальностью и ее официальной репрезентацией — все это стало фундаментальными этносоциологическими факторами, которые привели к падению коммунистической системы и распаду СССР на отдельные национальные государства.
Так общество, которое осмысляло себя как «социалистическое» и исторически следующее за необратимо преодоленным капиталистическим строем, оказалось, на самом деле, лишь этапом насильственной и крайне жестокой модернизации, индустриализации и урбанизации, подготовившим с помощью чрезвычайных мер и тоталитарного насилия нечто отдаленно напоминающее капитализм и национальное государство в классическом европейском понимании. Коммунисты считали, что капитализм в России в прошлом, но, как оказалось, он был будущим, тем, чему только еще предстояло возникнуть на руинах Советского Союза.
В 1991 г. Советский Союз прекратил свое существование и был распущен президентами трех основных Союзных Республик (РСФСР, УССР и БССР) Б. Ельциным, Л. Кравчуком, С. Шушкевичем. Остальные республики были поставлены перед фактом и принялись строить свои национальные государства, предпосылки которых (экономика, технико-промышленная, транспортная и социальная инфраструктура, границы, политико-административные системы и т. д.) были созданы в условиях социалистической модернизации. Все эти новые национальные государства (как и любые нации) были созданы искусственно, на основании механически сконструированных «мифов», возводящих их к вымышленным историческим, государственным и этническим истокам. Впрочем, эта особенность характерна для всех исторических наций, что обстоятельно показано этносоциологами конструктивистского направления. Правящей элитой во всех этих новых государствах стала национальная буржуазия, сформированная на основе переродившейся партийной элиты и советского среднего класса. Единственным исключением стала Российская Федерация, этносоциологической анализ которой мы предпримем в следующей главе.
Глава 18
ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
§ 1. Этносоциологическая структура современного российского общества
Социально-политическая панорама России 90-х гг. ХХ в.
Предшествующие главы позволяют в общих чертах проследить процессы формирования этносоциологической картины современного российского общества. Мы неоднократно сталкивались с противоречиями в этой картине, связанными с археомодерном и с существенным зазором между реальными социологическими и этносоциологическими структурами и их осознанием на уровне официальной идеологии политических элит. Все это усложняет поставленную задачу.
Мы видели, что к концу советского периода расхождение между описанием общества в свете советской идеологии и реальным положением дел достигло критической величины, что привело к краху СССР и мгновенному краху марксизма. К началу 90-х гг. ХХ в. советский строй и официальные догматы об обществе рухнули, и на некоторое время воцарился хаос. Вакуум, создавшийся после падения коммунистической идеологии, однако, быстро заполнился имитацией либерально-демократических режимов контемпоральных западных обществ. Вместе с Борисом Ельциным к власти пришли либерал-реформаторы, ориентирующиеся целиком и полностью на Запад и, в первую очередь, на США. Как и для западников XIX в., для либерал-реформаторов 1990-х было очевидно, что единственный путь России — это встраивание в исторический ход развития европейских обществ. И поскольку страны Запада жили в условиях либеральной демократии, рыночного общества и капитализма, было принято стратегическое решение полностью воспроизвести эту же модель в самой России, признав советский период «тоталитарным недоразумением» и «отклонением от естественного пути развития». Либерал-реформаторы принялись уничтожать общественно-политические, экономические, правовые и административные основы советского социализма и строить новый российский капитализм, основанный на приватизации общенародной собственности, парламентской демократии и внедрении в обществе либеральных идеологических догматов.
Особенности археомодерна в новой России
Но новый идеологический курс политической элиты, подобно большевикам в 1917 г., вообще не учитывал исторических особенностей России, ее становления, ее сложной и противоречивой этносоциологической структуры. Реформаторы стремились разрушить существующие советские институты и ценностные системы и построить на обломках новое общество, прямо копирующее страны Запада и США. Поэтому стремительно сложилась новая форма археомодерна, когда элиты мыслили новое российское общество одним образом, массы — по-другому, а репрезентации и тех и других разительно противоречили социологической реальности. На развалинах одной противоречивой идеологической системы сложилась другая, еще более противоречивая.
Основной парадигмой реформаторов стало представление о России как о чрезвычайно отсталой европейской стране, отягощенной непросвещенными народными массами, тоталитарными и авторитарными традициями, слабостью гражданского общества, «рабской покорностью» населения, привычками во всем повиноваться власти и перекладывать ответственность на государство. Эти свойства общества требовалось изменить, и этими изменениями и занялись либералы в 1990-е гг.
На первых порах перемены вызывали определенный энтузиазм среди разных слоев населения, особенно у горожан, интеллигенции, советского среднего класса и молодежи. Однако либеральные реформы — переход к рынку, монетаризация экономики, тотальная приватизация, шоковая терапия и т. д. — вызвали отторжение у населения, т. к. в обществе, привыкшем к материальному равенству и социальной защите, переход к классовому расслоению, демонтажу социальных гарантий и перекладыванию ответственности на индивидуума был слишком внезапным, стремительным и неподготовленным. В результате произошло чрезвычайно важное для этносоциологического анализа современного российского общества явление — обнищание и «люмпенизация» значительных сегментов советского среднего класса, маргинализация интеллигенции и сопутствующая этому реверсивность в той модернизации, которую так или иначе проводили коммунисты на всем протяжении советского периода. Специфика советского строя и всевластие чиновничества и бюрократии в СССР привели к тому, что успеха в рыночной деятельности можно было достичь лишь через коррупционные отношения с властными инстанциями или с всесильными силовиками, что выдвинуло на первый план криминал, авантюристов и мошенников. Наиболее успешные из них составили ядро «олигархической прослойки», сосредоточившей в своих руках к середине 1990-х гг. огромную экономическую и политическую власть. Именно вокруг олигархата и сложились новые российские элиты, представлявшие собой симбиоз коррумпированной бюрократии, экономических магнатов с откровенно криминальными методами ведения бизнеса и обслуживающей их прослойки — политиков, журналистов, политтехнологов, людей искусства и т. д.
Стремясь немедленно создать в России либерально-демократическое общество западного образца и искусственно способствовать появлению класса собственников (приватизации), реформаторы на практике спровоцировали резкую пауперизацию советского среднего класса, отбросив далеко назад те модернизационные тенденции, которые развертывались в течение всего советского периода. Желая «ускорить прогресс», они создали предпосылки для массовой «архаизации» общества. В результате сложилась специфическая деформированная общественная система, которая не может быть описана однозначно. В ней мы видим одновременно несколько пластов:
– инерциальные социальные тенденции, уходящие корнями в дореволюционные эпохи (общинность, авторитарность, государственность, религиозность);
– советские черты (привычка к социальным гарантиям, коллективизм, доверие патерналистскому государству, страх перед властью, неприязнь к частной собственности и материальному неравенству);
– буржуазные аспекты (рыночная экономика, буржуазно-демократический парламент, выборность властей, классовое расслоение);
– явления чистого археомодерна (монополизм, тотальная коррупция, доминация политических технологий над политикой, антагонизм элит и масс и т. д.).
Учитывая эти противоречия, мы приступаем непосредственно к этносоциологическому анализу контемпорального российского общества.
Россияне: несостоявшаяся нация
Реформы 1990-х гг. номинально имели открыто капиталистический характер, поэтому было бы логично предположить, что мы присутствуем при окончательном появлении буржуазной «российской нации», нового «воображаемого сообщества», которого не сложилось ни в дореволюционной России, ни — по идеологическим причинам — в Советском Союзе. Но т. к. советская модернизация на самом деле сделала мощный рывок в модернизации, индустриализации и урбанизации российского общества, способствовав появлению широкой и даже преобладающей группы городского населения с довольно высоким уровнем образования и технической компетенции, можно было предполагать, что в 1990-е гг. Россия начнет позиционировать свое общество именно как нацию, завершив то, что ранее сделать не удавалось.
Согласно Э. Геллнеру, нация складывается через теорию и практику национализма, модерируемого и управляемого буржуазными элитами735. Именно это и произошло во всех Союзных республиках бывшего СССР, где образовались националистические режимы, консолидировавшие на этом основании свои общества — в ущерб этническим меньшинствам (как это всегда бывает в подобных случаях).
Однако в России этот процесс не состоялся. В 1990-е гг. «российской нации» создано не было; более того, национализм как необходимый инструмент ее создания был поставлен практически вне закона и стал достоянием политической оппозиции и отдельных маргинальных групп. Новая российская буржуазия не стала строить нацию и не обратилась для этого к национализму вопреки тому, что сделали буржуазные элиты всех остальных постсоветских государств. Это еще одно противоречие, которое наряду с сокращением среднего класса описывает специфику именно российских реформ.
Причин, по которым формирование «российской нации» не состоялось, а «российский национализм» был отвергнут и поставлен «вне закона», было несколько.
1. Полиэтнический состав населения России. Хотя русских (в этническом смысле — великороссов, белорусов, малороссов и казаков) — в Российской Федерации подавляющее большинство, и, теоретически, можно было бы на их основании построить «воображаемую общность» («российскую нацию»), путь интенсивной русификации был отвергнут, возможно, из-за страха роста сепаратистских тенденций в бывших автономных республиках и областях, ставших в контексте Российской Федерации после распада СССР «национальными».
2. Русофобский настрой новых российских реформаторов-западников, убежденных в том, что именно русская идентичность и является основным историческим препятствием на пути «прогресса» и «развития» гражданского общества.
3. Страх политической элиты 1990-х стать первыми жертвами национализма в силу своих этнических особенностей (большинство представителей этой олигархической элиты были этнически не русскими).
4. Стремление политических элит 1990-х во всем подражать контемпоральным обществам Запада, где полным ходом шел отказ от ранних форм национального государства в пользу гражданского общества и глобализации. Россия только вступала в капитализм, что требовало национального государства, а страны Запада переходили уже к следующей глобальной фазе, напротив, демонтируя национальные государства (например, Евросоюз).
5. Воздействие на российскую элиту западных (в первую очередь, американских) центров влияния, опасающихся, что сильная национальная Россия может стать серьезным конкурентом и препятствием в интеграции мира под эгидой США и однополярного мира.
6. Чрезвычайная слабость и противоречивость зарождающегося национального движения, где собственно национально-буржуазные тенденции соседствовали с народными, традиционалистскими, национал-коммунистическими и религиозными, что с трудом укладывалось в необходимые олигархической элите рамки.
7. Укорененность в обществе интернационалистических представлений и стереотипов, утвердившихся в процессе советского образования.
Трудно сказать, какой именно фактор оказался решающим, но в целом их совокупность повлияла на то, что в отличие от всех остальных стран СНГ, в России новые политические элиты к созданию буржуазной нации не приступили и национализм на вооружение не взяли. Это обстоятельство является чрезвычайно важным, т. к. вновь, в очередной раз, фиксирует противоречие между реальными социальными процессами в России и их презентацией со стороны правящих элит.
По всем параметрам российское общество в 1990-е гг. находилось в ситуации, когда единственным логическим шагом для сторонников его модернизации и вестернизации должен был быть переход к формированию буржуазной нации: предпосылки для этого были налицо. Вместо этого политические элиты перепрыгивают этот этап и провозглашают курс на ускоренное формирование гражданского общества и полноценное включение в глобализацию. Тем самым снова нарушается логическая последовательность социальных трансформаций, выдерживаемая неизменно в странах Запада, а в остальном мире замещающаяся «колонизацией» и «постколониальными» социально-политическими и экономическими практиками. Россия же не является ни Западом, ни колонизированной страной и не попадает ни под одну из привычных классификаций. Вместо того чтобы признать эту особенность и приступить к последовательному движению по траектории, в целом воспроизводящей этапы модернизации западных обществ, российская политическая элита1990-х форсирует ситуацию и провозглашает вместо «национализма» курс на следующую (третью) производную от этноса — на гражданское общество и интеграцию в глобальное общество, при этом еще и существенно сокращая средний класс.
Этносоциологические слои современного российского общества
Рассмотрим этносоциологические слои российского общества после 1991 г.
В России и в этот период сохраняются этносы. Это, в первую очередь, архаические общества, проживающие на крайнем Севере, в Сибири, а также, отчасти, на Северном Кавказе.
Этносы частично сохранились также в социальных группах крестьянства стремительно деградирующей российской деревни, чей образ жизни и быт необратимо нарушился с эпохи коллективизации и индустриализации села, но все еще содержит в себе некоторые этнические черты.
Наконец, этнический момент еще сохраняется в среде приехавших в города сравнительно недавно вчерашних жителей села. Это явление мы назвали «этнопролетариатом». Причем этническая идентичность горожан является тем более долговременной, чем ниже их социальный статус и уровень образования, т. е. чем ближе они к пролетариату. Эта идентичность вполне может быть достаточно проявленной даже у образованных горожан из высших слоев в течение трех-четырех поколений. Позднее на ее основе можно сконструировать искусственную идентичность второй производной этноса — нации.
Преобладающей идентификацией в современной России, как и в СССР, а ранее в Российской Империи, остается народ (лаос). Идентификация себя с народом как с первой производной этноса свойственна подавляющему большинству россиян, которые обладают социальным самосознанием более дифференцированным и сложным, нежели в случае этноса, но качественно иным, нежели нация (тем более что, как мы видели, создание нации было блокировано политическими элитами 1990-х).
Народ включает в себя этническое ядро как собственно русских, так и представителей других этносов. Для народа характерны традиционное (сословно или кастово дифференцированное) общество и традиционное (полиэтническое, а не мононациональное) государство, а также чаще всего религия. Этот уровень идентификации более всего подходит для описания общего понимания общества в современной России. Об этом свидетельствуют:
– сохраняющаяся полиэтничность;
– нарастающая религиозность;
– возникновение новых «сословий» на основе бюрократии и экономической элиты;
– авторитарные (почти «династические») черты высшей власти, передаваемой «преемникам».
Это означает, что современная Россия в глазах большинства населения остается «империей», т. е. традиционным государством, населенным различными этническими группами с сильной вертикалью власти и религиозной компонентой.
На месте «нации» мы имеем лакуну, т. к. ее создание есть дело буржуазных элит, а элиты в современной России, напротив, всячески препятствуют этому. Тем не менее определенные проявления нации можно заметить:
– общероссийский патриотизм, связанный с реакцией на спортивные победы, военные достижения (война с Грузией в августе 2008 г.);
– бытовой национализм, особенно распространенный в городах с большим количеством этнических мигрантов;
– учет интересов национальных частных и государственных корпораций при проведении международной политики (особенно в области энергетики).
Можно найти и проявления третьей производной от этноса — гражданского общества. Они заключаются:
– в самосознании политических элит, все более интегрирующихся в западные общества, посылающих своих детей учиться за границу, проводящие время отдыха вне России, размещающие на Западе свои счета;
– в искусственном внедрении правозащитного движения и организации гражданских инициатив;
– в пропаганде толерантности, космополитизма, либерализма и «мультикультурализма» через СМИ и систему образования;
– в распространении глобальных информационных систем, в частности, сети Интернет;
– во включении российского общества в общемировые (западные/глобальные) тенденции в области мод, брендов, торговых сетей, трендов в искусстве и культуре.
И, наконец, в сфере искусства, культуры, литературы, театра, кино, а также некоторых политических технологий, используемых как властью, так и оппозицией, можно распознать первые признаки четвертой производной от этноса — постобщества, соответствующего критериям постмодерна. Для этого слоя, пока распространяющегося преимущественно на молодежные среды, характерна эксцентричность, составляющая сущность социальной идентичности постмодерна.
Эти пласты можно свести к одной обобщающей схеме (см. схему 32).
|
Структура идентичности |
Этносоциологическое содержание |
Социо-антропологический тип |
|
Эксцентрум |
элементы постмодернистской культуры (В. Сорокин, В. Пелевин, М. Гельман и т. д.) |
постлюди, перверты, freaks, постмодернистская богема, блоггеры |
|
Глобализация (глобальное гражданское общество) |
самосознание и космополитический стиль жизни политических и экономических элит |
индивидуумы (идиотес), олигархи и их обслуга, политтехнологи, сотрудники глянцевых журналов, правозащитники, космополиты, либералы |
|
элементы нации (гражданин/горожанин, эгоцентрум) |
городское население среднего достатка, чиновничество, рационализация национальных интересов, маргинальные слои националистов |
российский демос, «россияне», классы (высшие и низшие) |
|
лаос (традиционное общество/империя) |
современное российское общество в целом (сельское и городское) |
русский народ (лаос), фактические «сословия» чиновников, властные династии |
|
Этноцентрум |
малые этносы, крестьянское население, этнопролетариат, «недавние» горожане |
этнос |
Схема 32. Сводная таблица структуры идентичности, социальной антропологии и типа общества в современной России
На схеме 32 видно, что преобладающим пластом является народ (лаос), составляющий основу современной этносоциологической идентификации российского общества. При этом самосознание элит и нормативный образ, транслируемый СМИ и образованием по заказу этих элит репрезентирует это общество совершенно иначе — как гражданское либерально-демократическое общество с (негативными) элементами «национализма» и авангардными вкраплениями постмодернизма. В очередной раз в российской истории мы имеем дело с масштабным расхождением между этносоциологической реальностью и ее глубоко искаженной репрезентацией, не позволяющей не только решать, но даже адекватно формулировать острые социальные, политические и экономические проблемы. Снова российское общество глубоко ошибается относительно своей собственной этносоциологической природы.
§ 2. Этнос, его производные и политическая система современной России
Статус «нации» в Российской Конституции
Рассмотрим, как современное российское общество классифицирует этническую проблематику. Здесь мы должны выделить два уровня: правовой и фактический. Первый запечатлен в правовых документах, в Конституции, законах, административном устройстве государства и нормативных актах. Второй мы можем наблюдать с помощью социологических исследований, прямых наблюдений, контент-анализа прессы, литературы и с помощью других методов, составляющих прерогативу собственно социологии.
Начнем с первого уровня и проанализируем то, как трактуют этносоциологические понятия законы Российской Федерации.
Пункт 1 статьи 3 Основных положений Конституции гласит:
«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный (разрядка моя. — А. Д.) народ».
Здесь мы сталкиваемся с выражением «многонациональный народ». Термин «национальный» используется здесь в том смысле, который был присущ советскому обществу и является прямым наследием большевистских операций, произведенных с этим понятием (эту тему мы разбирали в предыдущей главе). Если освободить это понятие от советской предыстории и множества парадоксальных и подчас весьма изобретательных ленинских, и особенно сталинских, трактовок, связанных с марксистской ортодоксией, то оно должно было бы означать «политические нации», т. е. отдельные государства. В этом случае «многонациональное» государство означает состоящее из нескольких суверенных национальных государств. Таким государством является конфедерация. Именно в таком ключе и старались перетолковать Конституцию некоторые Республики в 1990-е гг. (Татарстан, Башкортостан, Коми, Якутия (Саха), Калмыкия, Мари-Эл, Адыгея, Бурятия, Чечня, Ингушетия, Карелия, Тува и т. д.), заявившие о своем суверенитете. Они признали (Татарстан и Чечня не сразу и с оговорками) приоритет Федерального Закона над республиканским законодательством, но настаивали на том, что они являются, несмотря на это, суверенными государствами — принцип суверенитета тождественен принципу независимой государственности.
Пункт 2 статьи 68 Конституции РФ, говоря о языке, дает такую формулировку:
«Республики вправе устанавливать свои государственные (разрядка моя. — А. Д.) языки».
Здесь следует обратить внимание, что определение «государственный» применяется здесь к республике в составе Российской Федерации, т. е. за Республикой прямо признается свойство «суверенного государства».
Таким образом, номинально, с точки зрения формального права мы имеем в Конституции Российской Федерации закрепление за республиками в составе РФ статуса суверенных национальных государств. В этом смысле выражение «многонациональный народ» приобретает значение: «все население конфедеративного государства, включающего в себя ряд независимых конфедеративных суверенных национальных государств».
Эти положения отражают обещания Бориса Ельцина, бывшего президента РФ, при котором и была принята в 1993 г. ныне действующая Конституция, данные им в период его «предвыборной кампании» (на встрече с общественностью Казани 8 августа 1990 г.): «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». Конституция 1993 г. выполняет это обещание: всем субъектам Федерации приписывается статус национальных государств.
Но с термином «национальное» в очередной раз повторяется та же самая история, как и при большевиках. Обещая на словах этносам России право на строительство буржуазной нации по тем или иным исключительно идеологическим и прагматическим причинам, центральная власть быстро спохватывается и начинает перетолковывать свои обещания (даже закрепленные в Конституции). Толкование «нации» как населения политически независимого государства начинает всячески затемняться, релятивизироваться, перетолковываться — с конкретной целью не допустить возможности выхода административного образования из состава единого государства. Так, вновь становится актуальным обращение к определению «нации» Сталиным, куда включаются и политические и этнические признаки, чтобы лишить это понятие однозначной юридической ясности.
Особенно это проявляется в 2000-е гг. при президенте В.В. Путине. Он последовательно проводит линию на лишение субъектов Федерации признаков государственности, настаивает на снятии положения о «суверенитете» в региональном законодательстве, настаивает на «этническом» толковании понятия «национальный» (сам термин «этнос» в Конституции не употребляется, его замещают другие).
Наличие в Конституции обращения к «многонациональному народу» могло бы быть непротиворечиво истолковано как раз в том случае, если бы под «национальностью» понимали этничность. В этом случае никакого противоречия не возникало бы. Однако в силу либеральных и «антиимперских» идей российской элиты 1990-х в Конституцию оказались вновь введены двусмысленности, которые дорого стоили России. На основании обещаний Ельцина Чечня в 1991 г. захотела «проглотить» весь возможный суверенитет, провозгласив себя полноценным и самостоятельным «национальным государством», коль скоро понятие «нации» применительно к республикам внутри РФ уже было заложено в Конституции. Пока субъекты Российской Федерации признаются государствами и к ним применяется понятие «национальный», они сохраняют политико-юридическую возможность претендовать на полный суверенитет, хотя после Путина прямые апелляции к «суверенитету» были из официальных документов субъектов Федерации изъяты.
Статус «народа» в Российской Конституции
Со смыслом термина «народ» в Конституции ясности не больше, чем с понятием «нации». Мы уже встречались с «многонациональным народом». Если строго закрепить за выражением «многонациональный» значение «многоэтнический», «полиэтнический», то в этом случае мы имели бы в статье 3, пункте 1 самую точную этносоциологическую констатацию положения дел в современной России. Действительно, мы имеем дело с полиэтническим народом/лаосом, которому соответствует «традиционное общество». Такой полиэтнический российский народ и есть ядро того общества и, соответственно, того государства, в котором мы живем сегодня.
Однако мы встречаем понятие «народ» в Конституции и в другом значении. В уже приводившейся статье 68 в пункте 3 читаем: «Российская Федерация гарантирует всем ее народам (разрядка моя. — А. Д.) право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития». Из этого следует, что в Российской Федерации есть не один («многонациональный», т. е. полиэтнический) народ, но много народов. Народ (в этносоциологическом смысле) является основой государства, следовательно, наличие нескольких народов эквивалентно наличию нескольких (традиционных) государств. Это ставит такие же проблемы, как и в случае «многонациональности», понятой в политическом смысле. Однако следующая статья — 69 — гласит: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов (разрядка моя — А.Д.) в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации». Раз к народам относятся и «коренные малочисленные», то тут уж точно мы имеем дело с этносами. Поэтому и в случае немалочисленных народов речь идет о крупных этносах.
Как видим, и понятие «народ» используется в Конституции неточно и допускает самые различные толкования.
И под «народом», и под «национальностью» в правовом конституционном пространстве понимаются в разных местах разные этносоциологические реальности. Отсутствие строгой ясности в Конституции порождает еще более запутанную картину в других правовых документах и законах, не говоря уже о конкретной практической политике, где словоупотребление бывает совершенно произвольным.
Поэтому для устранения противоречий и неясностей в целях однозначного толкования конституционных норм необходимо привлекать экспертов в этносоциологии, либо в установленном порядке менять текст Конституции, чтобы исключить саму возможность произвольного толкования ее основополагающих принципов.
Типы субъектов Федерации и их этносоциологическая специфика
Теперь обратимся к структуре субъектов Федерации и их этносоциологической структуре.
Все субъекты с точки зрения Конституции равноправны и имеют одинаковый политический, административный и правовой статус. При этом они делятся на несколько категорий (Конституция РФ. Глава 3, статья 65) —
1) Республики (Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика — Чувашия;
2) края (Алтайский край, Забайкальский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край) и области (Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Читинская область, Ярославская область);
3) города Федерального значения (Москва, Санкт-Петербург)
4) автономная область (одна единственная — Еврейская);
5) автономные округа (Ненецкий автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Юрга, Чукотский автономный округ, Эвенкийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ).
Каждая из этих групп имеет этносоциологические особенности.
К первой группе (республики) относятся субъекты Федерации с ярко выраженной политической самостоятельностью, с определенными признаками «нации» и «государственности» — именно они более всего настаивали на суверенитете. Именно к ним прилагается то упоминание о «государственности», с которым мы встретились в пункте 2 статьи 68 Конституции РФ. С этими субъектами федеральный центр в 1990-е гг. заключал особые договора, регламентирующие обоюдные полномочия — с предоставлением республикам значительно больших автономных прав, чем остальным субъектам Федерации. Тем самым существенно корректировался пункт о равноправии всех субъектов Федерации, зафиксированный в пункте 1 статьи 5 (Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов — равноправных (разрядка моя. — А. Д.) субъектов Российской Федерации).
Ко второй группе краев и областей относятся субъекты Федерации с преобладающим русским населением, и в данном случае административные границы представляют собой чисто условные территориальные деления однородного этнического и этносоциального пространства.
Третья группа включает гигантские мегаполисы со специфической этносоциологической структурой, вынесенные в отдельную категорию в силу особенностей их административной, политической, социальной и экономической организации. Так как речь идет о столицах, очевиден их полиэтнический состав.
Четвертую и пятую группу можно объединить (автономная область, край и автономные округа) в одну категорию. Здесь мы имеем дело, как правило, с северными или труднодоступными и слабозаселенными районами, где традиционно проживали древние евразийские этносы, упоминания о которых включены в названия соответствующих областей. Исключением является искусственно созданная Еврейская автономная область (Биробиджан), созданная в СССР для «спатиализации» еврейского этноса, но так и не выполнившая своей функции. Чаще всего в автономных округах проживают преимущественно русские, а название отражает исторические реалии.
Итак, края и области можно считать частью полностью унитарного политического пространства. Автономные округа (и автономная область) также населены преимущественно русскими, города федерального значения вообще следует вынести для отдельного рассмотрения, а вот Республики представляют для нас особый интерес.
Республики: виртуальная государственность
Республики в составе Российской Федерации представляют собой наибольшую проблему с точки зрения их корректного этносоциологического анализа. Мы имеем в их случае очень сходную ситуацию с Союзными Республиками в эпоху СССР. Эти образования, Союзные Республики СССР в советский период и Республики Российской Федерации в наше время, представляли собой смесь социологических реальностей (наличие в них этносов с довольно дифференцированной социальной системой и имеющих историческую память о том, что некогда они были народами/лаосами и обладали реальной или воображаемой автономной государственностью), идеологических установок (коммунистических — в первом случае и либеральных — -во втором) и конкретных политических условий, отражающих баланс сил в каждый конкретный момент времени. Эти Республики считались «виртуальными» государствами, чей реальный суверенитет был блокирован силовым потенциалом центральной власти, и релятизировался не столько де-юре, сколько де-факто. Поэтому применение к ним определения «национальный» на практике имело смысл «этнический», но при ослаблении центральной власти (централизаторская власть КПСС в СССР или федерального центра в РФ в период Ельцина) могло приобрести и полноценный, политический и государственный смысл. Если центральная власть сильна, то «виртуальная» государственность сохранялась в таком качестве. Но стоило ей ослабеть, и государственность из виртуальности переходила в реальность. Так произошло в конце 90-х гг. ХХ в. с Союзными Республиками СССР, объявившими о полном разрыве с Союзным Государством. Те же процессы стали бурно развиваться и в середине 90-х гг. внутри Российской Федерации, что ярче всего вылилось в первой чеченской компании и противостоянии Москвы и Казани при заключении союзного договора.
Этносоциологическая структура республик внутри Российской Федерации представляет собой:
– ядерный этнос, так или иначе претендующий на статус народа или нации;
– другие этнические миноритарные группы, отличные от ядерного этноса;
– русское население, обеспечивающее непрерывность этносоциальной структуры с остальными регионами России;
– интегрированность общества Республик в общероссийский социологический контекст (экономический, политический, культурный, правовой, информационный, инфраструктурный, транспортный и т. д.).
Эта структура представляет собой макет суверенного национального государства. При этом для некоторых республик (Башкирия, Адыгея и т. д.) этническое ядро представляет собой количественное меньшинство. Более того, сплошь и рядом на территории республики проживают далеко не все представители этноса, составляющего этническое ядро. Так, в Татарстане живет только 1/3 всех татар Российской Федерации. Но при этом придание республикам статуса «государственности» позволяет им на практике проводить «националистическую» политику в отношении «этнических меньшинств» в республике, включая принудительное внедрение «национального языка», понуждение к записи этнических меньшинств как «ядерного этноса» и т. д.
В 90-х гг. ХХ в. процессы, протекавшие в республиках Российской Федерации, в целом представляли собой подготовку к последующей сецессии — по прямой аналогии с демаршем Союзных республик в конце 1980-х гг. Республики провозгласили суверенитет и, по сути, осмысляли себя в ближайшем будущем независимыми государствами: налаживали прямые международные связи, пытались проводить национальную политику в культуре, образовании, вещании и прессе. В Республике Саха (Якутия) было законодательно закреплено создание самостоятельных вооруженных сил и был введен закон (на практике никогда не работавший) о необходимости для других граждан России получать визу для посещения территории этой республики. Президенты этих республик обладали почти безраздельной властью, избирались на республиканских выборах и могли полноценно «торговаться» с центром относительно экономических, политических и иных форм взаимодействия, используя лоббистский институт Совета Федерации, комплектовавшийся из глав субъектов Федерации.
Республики наблюдали за тем, чем окончится прямое столкновение Чечни (Ичкерии) с федеральным центром, и в случае успеха ичкерийского сепаратизма, по пути сецессии, безусловно, последовали бы и остальные. При этом большинство уже отработало и апробировало националистические концепты, которые были приготовлены в качестве будущей идеологии. В разных республиках «воображаемые сообщества», «нации» имели свои отличительные черты, но чаще всего в них преобладали формы жесткого национализма, сопряженного с религиозными чертами (исламскими на Северном Кавказе или в Поволжье или буддистскими в Калмыкии и Бурятии). В большинстве случаев этнические чистки против будущих «этнических меньшинств» и отчасти против русского населения были бы неизбежны — как это имело место в Чечне, где русские в эпоху Дудаева и Масхадова подверглись массовому геноциду по этническому принципу.
После прихода к власти Владимира Путина произошло усиление федерального центра, и государственность республик снова вошла в стадию «виртуальности». Понятие «нации» в их случае стало толковаться в смысле «этноса». Решающей была победа федеральных сил, одержанная над ичкерийскими сепаратистами, дополнившими свою идеологию апелляциям к радикальному исламскому фундаментализму. Справившись с Чечней, Путин принялся за суверенитет республик, настаивая на изъятии этого пункта из республиканских законов. Для этой цели были образованы Федеральные округа. После трагедии с захватом заложников в школе Беслана исламскими террористами Путин отменил выборность глав субъектов Федерации, сделав их назначаемыми из центра чиновниками. Таким образом, в республиках были ликвидированы основные моменты «государственности» и на правовом уровне.
Однако двусмысленность статуса республик, зафиксированная в Конституции, никуда не исчезла, как не исчезли «государственные языки» в пределах Республик, на которых принуждаются говорить все ее граждане, даже если они составляют большинство, не имеющее отношение к ядерному республиканскому этносу. Государственность в случае сильного центра и жесткой политики, направленной на территориальное единство России, остается виртуальной, но стоит центру ослабеть или войти в полосу политического кризиса, ситуация в любой момент может измениться, и все снова вернется к конфликтности и противоречиям.
Именно поэтому в 2010 г. ряд глав республик Российской Федерации (Кадыров от Чечни, Эбзеев от Карачаево-Черкесии и т. д.), угадывая стратегию Кремля, выступили с инициативой упразднения поста Президента для обозначения своей должности. Также раздались голоса о необходимости отказа от применения к республикам понятия «национальный» во внутриреспубликанских законодательствах. Все эти шаги направлены на то, чтобы лишить республики даже виртуальной государственности. Последним шагом централизаторских реформ должно стать изменение текста Конституции и изъятие из него любых намеков на государственный статус республик.
Автономная область и автономные округа: этнос и сепаратизм
В случае автономной области и автономных округов никаких намеков на наличие признаков даже виртуальной государственности ни в Конституции, ни в законодательных документах самих субъектов Федерации нет, поэтому к ним понятие «национальный» в политическом смысле неприменимо. В данном случае использование в названии этих субъектов Федерации тех или иных этнонимов имеет не политическое, но символическое значение, призванное подчеркнуть тот факт, что эти этносы исторически издревле населяли эти территории, вошедшие в состав России в разные исторические периоды. Представители этих этносов и не имеют чаще всего даже чисто теоретической программы формирования «нации» и представляют собой этносы с архаическим типом общества.
Однако, если предположить развитие политической ситуации по аналогии с судьбой СССР, сохранявшего государственное единство, когда центральная власть была сильна, и утратившего его, как только эта власть качественно ослабла и идеологически растерялась, то вполне можно представить себе ситуацию, когда сегодняшние республики в составе Российской Федерации усилятся и выйдут из ее состава, а автономные округа, в свою очередь, повысят свой статус и станут территориями, где искусственным образом будут сформированы «виртуальные нации» и «виртуальные государства». Это тем более вероятно, что и сами республики сплошь и рядом имеют в качестве кандидата на «нацию» именно этническое меньшинство, к претензии которого на то, чтобы быть основой общества, сложно относиться серьезно. Но исторический опыт показывает, что можно искусственно организовать любое «воображаемое сообщество» в том случае, если центральная власть достаточно ослабнет, а интеграционные стратегии несовершенны, неэффективны или вообще отсутствуют.
§ 3. Этническая карта России
Славяне в современной России
Рассмотрим теперь этническую карту контемпоральной России не в административно-территориальном аспекте, но как социологическую данность.
Славянские этносы в России можно разделить по нескольким критериям.
Большинство этнических славян в РФ являются великороссами, т. е. потомками основного населения восточной и северной Руси, которое стало основой народа Московского царства. Мы видели, что после присоединения к Московскому царству западнорусских территорий, и особенно после реформ Петра Первого, великоросский народ как этническое ядро народа Московской Руси в целом (номинально) слился с западнорусскими этносами, образовав новый народ — русский в широком смысле слова, или российский. В этом новом народе, создавшем Российскую Империю, великороссы стали этнической группой, одной наряду с другими, но вместе с тем доминирующей, т. к. воссоздание государственного единства началось именно с восточной Руси. Иными словами, среди всех русских великороссы в Российской Империи и Советском Союзе были этническим ядром.
Это этническое ядро, в свою очередь, складывалось из нескольких внутриэтнических групп — субэтносов, а те состояли из еще более мелких единиц. На основе диалектов великороссов можно разделить на три субэтнические составляющие — северорусские (окающие), центральнорусские (акающие) и южнорусские (фрикативное «г»). В качестве койне для всего государства использовался центральнорусский диалект. К этому следует добавить отдельные этнические группы — поморов на севере и казаков на юге. Казачество представляет собой продолжение особого этносоциологического явления, уходящего корнями в смешанное население лесостепной зоны периода Киевской Руси.
Двумя другими этническими группами славян были славяне Западной Руси, обобщенно называемые «белорусами» и «малороссами» (или украинцами). Совокупно они-то и составляли русских как народ Российской империи и СССР.
Белорусы сложились на основе северо-западных этнических групп восточных славян (дреговичи, кривичи, радимичи) и составляли ядро населения Полоцкого княжества — с продолжением этнического расселения к северу и востоку, в новгородские земли и в область Смоленска. На определенном историческом этапе они были включены в состав Великого Княжества Литовского и составляли вместе с литовским этносами его ядро. После унии белорусы в большинстве своем оказались в роли православного населения католической Речи Посполитой.
На основании диалектов этой северо-западной группы этносов сложился современный белорусский язык. На его формирование оказывали влияние политические факторы, в том числе и искусственные. Так, поляки проводили политику «полонизации» белорусского языка, стремясь в лингвистической и культурной сфере закрепить отличия белорусов от великороссов, что сопровождалось также распространением среди белорусов католичества и униатства. Белорусский язык складывался как нечто единое с тем, чтобы на каком-то этапе белорусы могли объявить себя народом или нацией, т. е. в любом случае стать основой самостоятельного государства, не зависимого от России. Очевидно, что политические элиты России и СССР не поощряли такого обособления, и напротив, всячески старались интегрировать белорусов в общерусское языковое, культурное, религиозное (позже идеологическое) и политическое пространство.
Однако в момент распада СССР Белорусская Советская Социалистическая Республика объявила о создании собственного государства, заявив о себе как о самостоятельном народе (нации). Вопрос о том, является ли современная Беларусь традиционным государством (а белорусы, соответственно, народом) или искусственно созданной буржуазной нацией, является открытым, т. к. сложившийся в этой стране в период правления президента А.Г. Лукашенко политический строй требует особого рассмотрения.
В отношении малороссов мы имеем отчасти сходную картину. К малороссам принято относить западные и юго-западные этнические группы восточнославянских этносов, составлявших основу населения правобережной Украины — Галицко-Волынского княжества и западной части собственно Киевского княжества, потомков белых хорватов, древлян и полян. Восток и юг Украины (Левобережье Днепра) заселен различными этническими группами, где преобладают южнорусский тип казачества, потомки северян и западная часть великороссов (относящаяся к группе южнорусских диалектов). Исторически разные зоны Украины входили в состав разных государств — Великого Княжества Литовского, Польши, Венгрии, Австро-Венгрии, Османской империи. Эти группы были обособлены и с точки зрения языка, и с точки зрения культуры. В западных областях (собственно Малороссия) распространились католические и униатские влияния, полонизация была довольно глубокой, хотя сохранились островки с ярко выраженной православной идентичностью. Этносоциологический тип, преобладающий на востоке Украины, не отличается от южного населения Великороссии. А южные земли населены казачеством, полностью идентичным в культурном смысле с казаками Дона, Кубани и Терека.
Современный украинский язык был создан искусственно, путем нарочитой полонизации ряда малороссийских диалектов. В этом случае политическая цель обособления украинцев от великороссов была еще более очевидной и лежащей на поверхности, нежели в случае белорусского языка.
После Переяславской рады в XVII в. значительная часть Украины была присоединена к России, хотя отвоевывание украинских земель с православным русским населением началось еще раньше.
В создаваемом с конца XVII в. общерусском народе малороссы и другие этнические группы украинцев стали значительной составной частью, второй по значимости после великороссов.
Однако после распада СССР и Украина заявила о создании собственной государственности, провозгласив тем самым украинскую нацию. В случае Украины (и в отличие от Беларуси, в этом нет никаких сомнений) мы имеем дело с буржуазным, искусственно созданным национальным государством — со всеми типичными признаками (национализм, рынок, действенные политические партии, ярко выраженные экономические интересы, идиом, политический класс на основе крупных собственников и т. д.).
Таким образом, после распада СССР из единого русского народа, составлявшего основу народа Российской Империи и СССР, снова выделились три народа (нации) — белорусы (население Беларуси), украинцы (малороссы и другие этнические группы, совокупно составляющие население Украины) и великороссы (как этническое ядро русских, т. е. славян Российской Федерации).
Однако границы трех восточнославянских государств СНГ (РФ, Украины и Беларуси) далеко не совпадают с зоной расселения трех восточнославянских этнических групп. Интеграционные процессы, проходившие в течение более чем 300 лет, оставили глубокий след и среди славянского населения РФ. По переписи 2002 г. украинцами себя считает 2 % населения России, а тех украинцев, которые считают себя (с полным на то основанием) русскими (т. е. продолжают осознавать себя частью единого народа), намного больше (об этом свидетельствуют чрезвычайно распространенные украинские фамилии, часто оканчивающиеся на «о»). Так, выходцами из Украины заселены значительные зоны русского Приморья. Сходную картину мы имеем и в случае белорусов. Потомки Донских, Кубанских и Терских казаков представляют собой единое социально-этническое поле с украинским Запорожским казачеством, по своим корням они отличны и от великороссов, и от малороссов.
Поэтому номинально славянские этносы Российской Федерации состоят из великороссов, украинцев и белорусов (включая другие субэтнические группы) и формируют подавляющее большинство — свыше 81% населения всей страны по переписи 2002 г.
В этот процент входят собственно великороссы; те украинцы и белорусы, которые отождествляют себя с русскими; те украинцы и белорусы, которые подчеркивают свое этническое отличие от великороссов; казаки и поморы; значительный процент русифицированных этносов, отождествляющих себя с русскими по культурному признаку; дети от смешанных браков. В этом смысле «русскими» и «славянами РФ» можно считать всех тех, кто считает русский язык родным, а русскую культуру — своей культурой.
Это преобладающее численно население Российской Федерации может рассматриваться одновременно как носители славянского этнического начала (элементы собственно этноса), как ядро народа или даже сам народ (Лаос с исторической общностью судьбы), как возможная основа для формирования нации (если такой проект социально и исторически сложится).
Тюрки в РФ
В Российской империи с XIX в. и в СССР тюркские этносы составляли второй по значимости этнический компонент населения. Особенно многочисленно было тюркское население Средней Азии (Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Туркменистан) и Южного Кавказа (Азербайджан). Значительным тюркское население является в Поволжье и Прикамье (татары, башкиры, чуваши), а также в Сибири (алтайцы, якуты, тувинцы, шорцы и т. д.). Есть тюрки и на Северном Кавказе (карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы и т. д.) Мы видели, что тюрки соседствовали и пересекались с восточными славянами на всем протяжении известной нам истории, составляя важную часть этносов Великой Степи. В Золотой Орде они составляли, скорее всего, этническое большинство. Такое соседство тюрок со славянами и долгие периоды существования в общем государстве привели к массовому смешению. В Киевской Руси и в более поздние периоды, с конца XV в., славяне в межэтнических отношениях преобладали, что приводило чаще всего к русификации тюркских этносов и их вхождению в состав русского народа. Эту тему подробно рассматривали русские евразийцы и Лев Гумилев.
Согласно Гумилеву, у восточных славян и тюрок существует «этническая комплиментарность»736, т. е. этнокультурная совместимость, что позволяет этим этническим группам как органично сосуществовать друг с другом, так и свободно смешиваться. Поэтому значительное число тюрок было ассимилировано и сегодня является органичной частью русского народа (это характерно в большей степени для юго-восточных и восточных русских). Вместе с тем значительный процент тюрок сохранил свою этническую идентичность и особые языковые, культурные и конфессиональные черты (большинство тюрок — кроме чувашей, якутов, алтайцев, тувинцев, шорцев, тафаларов и других тюрок Сибири) — мусульмане.
После распада СССР ряд союзных республик с преобладающим тюркским населением создал свои национальные государства — Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Азербайджан, Туркменистан. В них установились националистические режимы.
В составе Российской Федерации оказались сибирские тюрки (наиболее консолидированными являются якуты, попытавшиеся в 1990-е гг. построить автономную государственность и провозгласившие суверенитет), а также татары, являющиеся вторым по численности этносом России — 5% населения по переписи 2002 г., башкиры, и тюрки Северного Кавказа (карачаевцы, балкарцы, ногайцы, кумыки, турки-месхетинцы).
Показательно, что далеко не все татары имеют волжско-камское происхождение: ряд тюркских этнических групп, исконно проживающих в Сибири, записались «татарами» в силу близости языка и культуры. До 1917 г. азербайджанцев также называли «кавказскими татарами». Особый случай составляют крымские татары, смешанный этнос, состоящий из целого ряда степных тюркских племен. В любом случае, 2/3 татар Российской Федерации проживают за пределами Татарстана, а половину населения Татарстана составляют этнические группы, отличные от татар. Нечто подобное мы имеем и в случае другой тюркской республики — Башкирии, где башкир еще меньше. Это показывает условный характер «этнической» природы соответствующих республик. Большинство татар и башкир, сохраняя свою этническую особенность, живут на всем пространстве Российской Федерации и составляют органичную и совершенно лояльную часть российского народа, наряду со славянами и всеми остальными этносами.
О татарском и башкирском национализме следует говорить отдельно. Но в целом надо заметить, что татарский и башкирский этнос отличается высокой дифференцированностью, социальной стратификацией, развитой самобытной культурой, обладает историческим прецедентом существования в качестве исторического народа (Волжская Булгария, Казанское и Астраханское ханства), давним опытом существования в условиях развитой государственности с внешним центром (Золотая Орда, Московская Русь, Российская Империя, СССР). Это делает теоретически возможным — при резком ослаблении федерального центра — искусственное формирование на этой этнической основе независимого национального образования.
Тюркские этносы Сибири, как правило, более архаичны и продолжают жить в структуре чисто этнического общества. При желании их представители легко и беспрепятственно интегрируются в городские культуры и политические и экономические элиты. Но массовой миграции этих этносов в европейскую часть России не наблюдается.
Особый случай представляет собой Якутия (Саха), обладающая огромной территорией, где находятся месторождения алмазов. Эта особенность, а также достаточная дифференцированность самобытного якутского общества создает предпосылки для формирования в Якутии автономного политического образования с признаками «нации». В период ослабления Федеральной власти в 1990-е гг. в Якутии протекали именно такие процессы.
Тюрки Кавказа отличаются относительно архаичными общественными структурами. Но социальная ситуация, свойственная Северному Кавказу в целом — высокая демография и слабая экономическая развитость региона, способствует высокому уровню миграции северокавказских тюрок на территорию других областей России и в столичные регионы.
Следует особо выделить наличие в центральных областях значительной массы тюркского населения — выходцев из Азербайджана, которые в силу экономических причин представляют собой большой пласт в среде трудовых мигрантов в российские города — как легальных, так и нелегальных. В силу этого обстоятельства точный учет количества тюрок-азербайджанцев в России существенно затруднен, но согласно предварительным расчетам, они составляют уже значительный процент населения ряда русских городов — в частности, Москвы. По результатам всероссийской переписи населения 2002 г., в России проживало 621 840 азербайджанцев, значительная часть которых локализовалось в Москве и Дагестане, а также Ростовской, Саратовской, Свердловской и Самарской областях, Красноярском и Ставропольском крае и т. д. Многие оспаривают эти данные, утверждая, что с учетом нелегальных мигрантов общее количество азербайджанцев в несколько раз выше.
В последние годы резко возросло количество мигрантов и из других тюркских стран СНГ — в первую очередь, из относительно бедного и густо заселенного Узбекистана.
Показательно, что тюркские этносы в России, включая мигрантов из стран СНГ, не проявляют общеэтнической солидарности друг с другом, идеи «пантюркизма» не имеют никакого хождения. Ислам для тюрок-мусульман, напротив, чаще всего имеет большое значение и является важной составляющей их самоидентичности.
Финно-угры в РФ
Финно-угры представляют собой древнейшее население северо-восточных территорий Русской равнины, поселившееся в этих местах задолго до прихода кочевников и славян. Поэтому значительные группы финно-угров вошли в состав собственно восточнославянского населения. Особенно велик был их процент на севере и востоке Киевской Руси, а Ростовско-Суздальское княжество (позже Владимиро-Суздальское и Московское) создавалось позднее других регионов Киевской Руси в преобладающей финно-угорской среде. Ростов Великий считался городом финского племени меря.
Финно-угры стали важным пластом восточно-русской идентичности, и особенно высок их процент среди великороссов.
Но значительная часть финно-угорских этносов сохранила свою идентичность, постепенно отступая под давлением славян в труднодоступные зоны севера и востока, смещаясь все дальше в зону тундры, Уральских гор и Западной Сибири.
В настоящее время в Российской Федерации сохранилось несколько финно-угорских этносов, имеющих административные образования.
Из финских этносов на территории России проживают карелы, вепсы, ижорцы и крохотный этнос водь (всего 73 человека по переписи 2002 г.). К волжско-пермской подгруппе финнов относятся мордва (Республика Мордовия), удмурты (Удмуртия), марийцы (Марий-Эл), коми (Республика Коми и Коми-Пермяцкий автономный округ), а также бесермяне. Есть небольшие группы эстонцев и саамов.
Из угров на территории России проживают этносы ханты и манси — большая часть в Ханты-Мансийском автономном округе, а ненцы, селькупы, нганасаны — в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.
Кавказцы: этносоциологический анализ
В современной России на Северном Кавказе проживают кавкасионы — несколько этнических групп различного происхождения.
Представители нахско-дагестанской группы живут на территории Республики Дагестан (аварцы, даргинцы, табасараны, лакцы, лезгины, хиналуги и т. д.), Чечни и Ингушетии (вайнахи — чеченцы, ингуши).
Отдельной этнической группой являются адыги. Часть адыгов живет в Республике Адыгея, где они составляют этническое меньшинство наряду с русским большинством, но в течение 1990-х гг. и в 2000-х гг. политическое руководство республики стремилось искусственно придать республике «национальный» характер. К адыгам относятся черкесы (меньшинство в Карачаево-Черкесии), кабардинцы (большинство в Кабардино-Балкарии), а также убыхи, абазины, шапсуги. Этнически и лингвистически близки к адыгам абхазцы (большинство в независимом государстве Абхазия).
Древнейшими кавказскими этносами являются также преобладающие на Южном Кавказе картвелы, менгрелы, хевсуры, тушины, имеретийцы, сваны (Грузия) и индоевропейцы армяне (Армения). Представители этих этносов живут и на территории Северного Кавказа. В России же, в целом, грузин и армян проживает значительное количество не только на Кавказе, но и на юге России, и в крупных городах.
В силу социально-экономических и этнокультурных особенностей Северного Кавказа, выделенного в 2009 г. в самостоятельный 8-ой Федеральный округ, среди нахско-дагестанских народов наблюдаются высокие показатели демографического роста и низкий уровень развития экономики. Это порождает ряд проблем, включая рост межэтнической напряженности между самими этносами, повышенный уровень миграции населения в другие области России в поисках трудоустройства.
Часто слабообразованные и социально маргинальные слои городского населения в России и в других областях, не делают различий между «кавказцами» ни с этнической, ни с конфессиональной, ни даже с государственной точки зрения, что породило штамп «лицо кавказской национальности». На самом деле, не существует «кавказской национальности» — кавказские этносы чрезвычайно разнообразны.
Для корректной классификации в каждом конкретном случае при столкновении с «кавказцем» необходимо установить, в первую очередь, является ли он:
– гражданином Российской Федерации;
– выходцем с Северного Кавказа или Южного (грузины, азербайджанцы и армяне могут быть гражданами России, хотя существуют национальные государства с преобладанием этих этносов — Грузия, Армения, Азербайджан, Абхазия, Южная Осетия).
Если мы имеем дело с выходцем с Северного Кавказа, требуется выяснить:
– его отношение к субъекту Федерации (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и т. д.);
– его этническую принадлежность (он может относиться к тюркской, нахско-дагестанской, иранской — осетины, адыгской этническим группам);
– его конфессиональную принадлежность (большинство этносов Северного Кавказа — мусульмане, хотя между разными этническими группами есть различия и в религиозной сфере, а осетины — в большинстве своем христиане, кроме мусульман-дигорцев).
Только после такого тщательного выяснения можно понять приблизительный этносоциологический портрет «кавказца», на основании которого можно сформировать самое общее представление о его идентичности.
Монголоиды РФ
К монгольской группе этносов в современной России относятся калмыки, проживающие преимущественно в Республике Калмыкия, и буряты, живущие в Республике Бурятия, а также в Иркутской области по берегам озера Байкал.
И калмыки, и буряты родственны монголам и исповедуют буддизм.
Этническими монголоидами, исповедующими буддизм, являются и тувинцы, хотя с лингвистической точки зрения они относятся к тюркам.
В 1990-е гг. Республика Калмыкия пыталась укрепить свой суверенитет и придать этно-конфессиональным особенностям своего населения характер «нации». Но по мере укрепления властной вертикали эти тенденции сошли на «нет» и в настоящее время не представляют заметной политической и социальной тенденции.
Палеоазиаты и тунгусо-манчжуры РФ
К палеоазиатским этносам принято относить малые северные этносы чукчей, коряков, ительменов, юкагиров, нивхов, эскимосов и т. д. Они живут в чисто этнических коллективах и в целом до сих пор сохраняют структуры этноцентрума.
С социологической точки зрения к ним вплотную примыкают этносы тунгусо-манчжурской группы: эвенки, эвены, нанайцы, ульчи, удэгейцы (тазы), орочи, негидальцы, ороки, общая численность которых по переписи 2002 года составляет всего 72058 человек. Это тоже архаические этнические группы со слабой социальной дифференциацией и традиционным укладом жизни, неизмененным в течение тысячелетий.
Малые северные и сибирские этносы оказываются в зоне риска по мере модернизации и индустриализации российских территорий, т. к. зазор между современным высокотехнологическим обществом и урбанистической культурой и архаическими формами жизни огромен и легко может привести к исчезновению малых этнических групп. Оказываясь в зоне интенсивного промышленного производства или энергодобычи, соприкасаясь напрямую с обществом совершенного иного уклада и порядка, малые этносы сталкиваются с угрозой исчезновения — ассимиляции, утраты этнической идентичности, сопряженной с продолжением многовекового хозяйственного уклада, аккультурации. Негативное воздействие оказывает внедрение чуждых этнических установок и особенно широкого распространения алкогольной зависимости при отсутствии культурного и биологического иммунитета к алкоголю.
В советское время коммунисты стремились «модернизировать» эти этносы, пытались искусственно создать «письменность», познакомить с достижениями «прогресса», внедрить новые технологии производства. При этом был нанесен колоссальный удар по этнической структуре, что привело к расстройству многих этнических систем. После конца СССР Российская Федерация закрепила права малых этносов в Конституции (статья 69 гласит: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации»), но этот пункт не получил развернутого толкования. По крайней мере, принудительная модернизация и аккультурация, которую практиковали коммунисты, прекратилась, и этим этносам предоставили возможность жить в соответствии со своими принципами.
Динамика изменений этнического состава населения в Республиках РФ
Рассмотрим динамику изменения этнического состава по результатам переписи 1989 и 2002 годов в сводной таблице.
|
название Республики |
столица |
титульный этнос (название и процент% от всего населения) |
русские (в% от всего населения) |
значимые этносы (название и% от всего населения) |
|||||
|
название и этническая группа |
1989 |
2002 |
1989 |
2002 |
название и этническая группа |
1989 |
2002 |
||
|
Майкоп |
адыги/ |
22,1 |
24,1 |
68,0 |
64,4 |
||||
|
алтайцы/ |
31,0 |
33,4 |
60,4 |
57,4 |
казахи/ тюркская языковая группа |
5,6 |
5,9 |
||
|
башкиры/ |
21,9 |
29,7 |
40,3 |
39,2 |
татары/ тюркская языковая группа |
28,4 |
24,1 |
||
|
буряты/ |
24,0 |
27,8 |
69,9 |
67,8 |
|||||
|
агулы, аварцы, даргинцы, лакцы, лезгины, рутульцы, табасаранцы, цахуры/ нахско-дагестанская языковая группа — кумыки, ногайцы тюркская языковая группа |
86,0 |
86.6 |
9,2 |
4,6 |
|||||
|
Ингушетия |
ингуши/ вайнахская языковая группа |
- |
77,2 |
1,1 |
|||||
|
кабардинцы / адыгская языковая группа |
52,2 |
55.3% |
балкарцы/ тюркская языковая группа |
9,4 |
11,6 |
||||
|
Республика Калмыкия |
калмыки / монгольская языковая группа |
45,3 |
53,3 |
37,6 |
33,5 |
||||
|
карачаевцы/ тюркская языковая группа |
31,2 |
38,5 |
42,4 |
33,6 |
черкесы/ адыгская языковая группа |
9,7 |
11,2 |
||
|
карелы/ финно-угорская языковая группа |
10,0 |
9,2 |
73,6 |
76,6 |
|||||
|
коми/ финно-угорская языковая группа |
23,3 |
25,1 |
57,7 |
59,5 |
|||||
|
марийцы/ финно-угорская языковая группа |
43,3 |
42,8 |
47,4 |
47,4 |
|||||
|
мордвины/ финно-угорская языковая группа |
32,5 |
31,9 |
60,8 |
60,8 |
|||||
|
якуты/ тюркская языковая группа |
33,4 |
45,5 |
50,3 |
41,1 |
|||||
|
осетины/ иранская языковая группа |
52,9 |
62,7 |
29,9 |
23,1 |
|||||
|
татары/ тюркская языковая группа |
48,4 |
52,9 |
43,2 |
39,4 |
|||||
|
тувинцы/ тюркская языковая группа |
64,3 |
77,0 |
32,0 |
20,1 |
|||||
|
удмурты/ финно-угорская языковая группа |
30,9 |
29,3 |
58,3 |
60,1 |
|||||
|
хакасы/ тюркская языковая группа |
11,1 |
11,9 |
79,4 |
80,2 |
|||||
|
чеченцы/ вайнахская языковая группа |
– |
93,4 |
- |
3,6 |
|||||
|
Чебоксары |
чуваши/ тюркская языковая группа |
67,7 |
67,6 |
26,6 |
26,5 |
||||
Схема 33. Результаты переписи населения 1989 и 2002 гг.
Следует сделать пояснение, что в 1989 г. существовала одна республика — Чечено-Ингушская — с вайнахским населением. В ней ингуши составляли 12,9 %, чеченцы 57,8 %, а русские — 23,1 %. На 2002 г. в Ингушетии оставалось 1,1 % русских, а в Чечне — 3,6 %, т.е на территории бывшей Чечено-Ингушской Республики вместо 23,1% русских на 1989 г. осталось 4,7 %. Это самый большой показатель изменения этнического баланса на Северном Кавказе, и связано это как с войной, так и с систематическими этническими чистками, направленными против русского населения.
Анализ таблицы показывает, что сокращение русского населения в республиках проходило там, где более всего преобладали «национальные» и «националистические» настроения, связанные с акцентированием суверенитета. Больше всего отток русских был из Республик Северного Кавказа.
Исключительным случаем является Тыва, откуда в начале 1990-х гг. наблюдалось массовое бегство русского населения (с 32,0 % в 1989 до 20,1 % в 2002 г.). Возможно, это связано с тем, что, хотя Тыва с 1914 г. находилась под протекторатом России (числилась Урянхайским краем в составе Енисейской губернии), она вошла в состав СССР только в 1944 г., а до этого она, как и Монголия, была независимым государством (Народная Республика Тыва), хотя и просоветским. Наличие исторического и относительно недавнего опыта независимости стало причиной быстрого перехода руководства Тывы на националистические позиции в начале 1990-х гг., когда ослабела центральная власть.
При этом этнический баланс между «титульным» этносом и русским населением сохранился совершенно неизменным в финно-угорских субъектах Федерации.
Изменение этнического баланса коснулось и тех случаев, когда в субъекте Федерации сосуществуют два довольно сильных этноса. Это можно связать с тем, что в ходе этнических трений формируются националистические тенденции, которые либо открыто проявляются, либо, напротив, подавляются. Так, в 2002 г. приводились многочисленные случаи давления на татар, живущих в Башкирии, с тем, чтобы они писали в графе «национальность» «башкир». А рост процента тюрок-балкарцев в Кабардино-Балкарии, где преобладают кабардинцы (адыги), компенсировался симметричным ростом черкесов (адыгов) в Карачаево-Черкесии, где преобладают тюрки-карачаевцы. Едва ли речь в этих случаях шла о переселении существенных пластов населения — процентные изменения свидетельствовали о росте этнической идентификации и национализма как со стороны титульного этноса, так и со стороны меньшинств.
Этносы России и конфессии
Можно в общих чертах описать отношение основных российских этносов к традиционным конфессиям.
Преобладающей конфессией России является Православие, которое исповедует подавляющее большинство россиян. Для русских (великороссов, украинцев и белорусов) Православие является исторической традицией, и после краха советской атеистической идеологии, культурная и мировоззренческая идентификация русских все больше стала склоняться в сторону Православия. При этом догматически разбирается в вопросах христианства и живет полноценной церковной жизнью (регулярное посещение служб, посты, молитвы, строгое соблюдение православной морали т. д.) лишь незначительное меньшинство всех русских, но в вопросе самоидентификации причисление себя к Православию имеет важнейшее значение.
Особую группу представляют собой русские старообрядцы, разделенные на различные толки (согласы) и имеющие свои отличные друг от друга традиции и формы самоорганизации. Замкнутая жизнь старообрядческих обществ, отвергающих официальную Русскую Православную Церковь и с недоверием относящихся к светскому обществу, сделало русских староверов своеобразным этно-конфессиональным явлением. В значительной степени старообрядцам удалось сохранить многие чисто этнические черты древнерусского общества.
Кроме русских, православными являются в большинстве своем осетины (за исключением мусульман-дигорцев), чуваши, коми, якуты, марийцы, мордвины, удмурты и карелы). При этом сплошь и рядом христианство совмещается с элементами древних архаических дохристианских верований. В последние годы часто можно встретить попытки возродить языческие традиции — в частности, шаманизм.
Ислам исповедуют все северокавказские этносы за исключением осетин. При этом среди дагестанцев, чеченцев и ингушей чрезвычайно развиты суфийские братства, которые представляют собой специфические религиозные и мистические институты.
Татары и башкиры в большинстве своем также конфессионально относятся к исламской традиции. Как и в случае христианства, полноценно соблюдает исламские предписания, совершает регулярные молитвы и изучает «Коран» лишь очень ограниченный процент всех тех, кто считает себя мусульманами. Но принадлежность к исламу и здесь служит фундаментальной чертой при определении собственной идентичности.
Начиная с 90-х гг. ХХ в. в среду российских мусульман с Ближнего Востока и из Афганистана стали проникать различные версии радикального исламского фундаментализма (ваххабизм, салафизм и т. д.). Эти реформаторские течения призывали «очистить» ислам от этнических особенностей, отбросить любые формы идентификации, кроме религиозной, двигаться к созданию единого мирового исламского государства и начинать «священную войну» (джихад) против «неверных» (гяуры), включая вооруженную борьбу и террористические действия, призванные свергнуть государственный строй. Эти идеи получили распространение в Чечне в период первой и второй чеченских компаний, а также на Северном Кавказе (Дагестан, Кабардино-Балкария). Носители подобных взглядов дали о себе знать и среди татар и башкир. В некоторых случаях исламский радикализм ваххабитского толка сочетался с националистическими тенденциями, направленными против российского государства, русских и православной веры.
Буддизм среди этносов России исповедуют калмыки и буряты. Для них эта форма религиозной конфессии является историческим наследием и также составляет форму современной самоидентификации.
Часть этнических евреев России, проживающих, как правило, в городах, исповедует иудаизм как традиционную конфессию.
Малые этносы Севера и Сибири часто сохраняют свои древние архаические формы религиозности, шаманские культы, магические представления, связанные со структурами этноцентрума. При отсутствии давления со стороны официальной идеологии — православной (в период Российской Империи) или атеистической (во время СССР) — архаические культуры стали в этой этнической среде возрождаться. Среди относительно крупных этносов шаманизм и древнее язычество достаточно широко распространены у алтайцев, бурятов, хакасов, тувинцев и марийцев. Делаются попытки искусственно возродить языческие обряды и культы и среди русских, а также среди кавказцев (осетины, черкесы, адыги), татар (тэнгрианство) и финно-угров.
Среди привнесенных религиозных течений можно выделить широкое распространение протестантов среди всех этнических групп россиян. Более локально распространение кришнаизма, упрощенно имитирующего сложную систему индуизма. Определенная паства есть и у различных новых сект, большинство которых имеют свои центры за пределами Российской Федерации и заинтересованы в увеличении числа адептов во всем мире. Некоторые из этих сект могут причинить их членам психологический, моральный и физический вред. Эта разновидность названа «тоталитарными сектами».
§ 4. Типы национализма в современной России
Просвещенный консерватизм и его критики
Теперь рассмотрим типы национализма, которые можно зафиксировать в контемпоральной России.
Напомним, что в отличие от большинства стран СНГ, в Российской Федерации буржуазный национализм не стал определяющей идеологией в период открытого перехода к капитализму в начале 1990-х гг., и вместо него политические элиты номинально скопировали либерально-демократические образцы гражданского общества и постарались активно включить Россию в процессы глобализации. Вместо государственного национализма на государственном уровне поощряется умеренный патриотизм, выражающийся в праздновании памятных дат (исторических побед — праздник 4 ноября в честь победы над поляками народного ополчения в 1612 г., День Победы 9 мая и т. д.), в массовом чествовании успехов российских спортсменов и т. д.
Смягченной версией национализма является «просвещенный консерватизм», примером которого может служить манифест кинорежиссера Никиты Михалкова «Право и правда», выпущенный осенью 2010 года737. Идеи этого манифеста сочетают в себе евразийство, представление о России как об особой цивилизации и либерально-консервативные идеи русских философов начала ХХ в. (Н. Бердяев, П. Струве, И. Ильин и т. д.).
«Просвещенный консерватизм» понимает «нацию» в широком смысле — не только как буржуазное образование, но и как традиционную преемственность культурной и социальной основы общества, что в этносоциологической терминологии более соответствует «народу», т. к. относится преимущественно именно к традиционному обществу и государственности имперского типа, при которой сохраняется этническое многообразие, большое внимание уделяется религиозной идентичности, преемственности народных традиций и т. д. Такой подход был характерен для евразийского мировоззрения и оптимально соответствует актуальному состоянию российского общества, адекватно отражая его структуру. Вместе с тем обращение к ряду консервативных либералов в этом же контексте позволяет применить «просвещенный консерватизм» и для стимуляции постепенного эволюционного создания на основе полиэтнического российского народа искусственной конструкции буржуазной «российской нации». Такой подход удобен тем, что применим:
– для корректного описания существующей социологической ситуации в обществе (констатации, что наше общество находится преимущественно в стадии народа и является традиционным);
– для сохранения, укрепления и возрождения традиционной идентичности;
– но и для постепенной и эволюционной модернизации общества в буржуазно-капиталистическом ключе без риска вызвать резкое отторжение у населения.
Показательно, что озвученный Н.С. Михалковым «манифест просвещенного консерватизма» вызвал в либеральном сегменте российской политической и журналистской среды резкое неприятие, т. к. требовал существенной коррекции ее представлений о необходимости незамедлительной либерализации российского общества, его модернизации по западному образцу и ускоренному насаждению в нем социальных парадигм гражданского общества и глобализации.
|
Тип национализма |
Политическое содержание |
Политический Проект |
|
Национализм этносов |
Радикальный сепаратизм — суверенитет |
Конфедерация — в пределе выход из состава РФ |
|
Умеренный сепаратизм повышение автономии от Центра |
Укрепление федерализма |
|
|
Этноконфессиональное движение |
Религиозная самостоятельность |
|
|
Новые национальные образования на этнической основе |
Создание моноэтнических наций (ирредентизм малых разделенных этносов) |
|
|
Русский национализм |
Продолжение русификации - деэтнизация |
Отмена национальных республик — введение губерний |
|
Режим политических привилегий на этнической основе |
||
|
Создание на основе россов (этнические великороссы) нации |
Республика Русь — русский сепаратизм |
|
|
Русский империализм |
Ирредентизм в пространстве СНГ |
|
|
Этатизм |
Патриотизм |
Мобилизация этносов для укрепления державы |
|
Экономический национализм |
Требование проведения внешней политики в интересах национальной экономики |
Экономическая экспансия |
|
Православный национализм |
Соединение Церкви с Государством |
Россия как оплот мирового Православия |
|
Общеевразийский национализм |
Полиэтнизм – традиционализм – империализм стиля постмодерн |
Интеграция постсоветского пространства |
Схема 34. Типы национализма в современной России
В любом случае, идеи «просвещенного консерватизма» имеют свое место в современной властной идеологии, где они конкурируют с радикально западническими и ультралиберальными представлениями и теориями. «Просвещенный консерватизм» представляет контемпоральное российское общество как первую производную от этноса (народ), которую либо следует признать и укрепить в качестве таковой, либо мягко и постепенно переводить во вторую производную (буржуазную нацию), стараясь не разрушить ее структуры. Современные российские либералы, в свою очередь, считают нормативом лишь третью производную от этноса — гражданское общество и глобализацию, и категорически отвергают любые компромиссы не только с народом и традиционным обществом, но и с нацией. Это идеологическое противоречие имеет очень глубокий характер и предопределяет целый ряд существенных политических, социальных, культурных и даже экономических процессов, определяющих властные стратегии российских элит.
Русский национализм: имперский, буржуазный, социальный, этнический
На периферии контемпорального российского общества мы встречаем и иные формы национализма, отличного по основным своим чертам от «просвещенного консерватизма», в той или иной степени приемлемого для властных элит. В силу того, что в 1990-е и 2000-е гг. политическое руководство России всячески избегало обращения к национализму и не только не старалось построить «российскую нацию», но всячески противостояло всем формам национализма, националистические тенденции оказались достоянием маргинальных и экстремистских групп и приобрели радикальный оттенок. Официальная политика относится к проявлениям национализма крайне отрицательно и причисляет националистический дискурс к неприемлемым, а некоторые его формы приравнивает к уголовно наказуемым деяниям (статья 282 УК РФ, признающая преступлением «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», где пункт 1 поясняет, что к этому относятся «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации»).
В таких условиях русский национализм (национализм этнического ядра российского народа) приобрел специфические черты. В нем можно выделить несколько направлений:
1) имперский национализм, державность, государственничество;
2) радикальный национализм, настаивающий на усиленной русификации, монокультурности (в самом экстремальном случае — на поражении в правах этнических меньшинств и введении против них дискриминационных законов, расизм и национал-социализм);
3) русский этнический сепаратизм, предлагающий создать моноэтническое русское государство (Республика Русь);
4) национал-коммунизм, призывающий вернуться к советским временам (для него характерен культ Сталина).
Все эти направления имеют как умеренные, так и ультрарадикальные формы.
Для первой версии имперского «национализма» характерны акцентирование государства как высшей ценности, терпимое отношение к этническим меньшинствам, чаще всего обращение к церковным православным ценностям, острое неприятие Запада, отвержение либерализма и глобализации, почтительное отношение к традиции. По сути, под «нацией» в данном случае понимается «народ», при этом предлагается защищать «традиционное общество» и «историческую идентичность». В умеренном случае «имперский национализм» почти полностью совпадает с «просвещенным консерватизмом» и евразийством. Маргинальный характер этому направлению придает лишь упорное сопротивление западно-либеральной политической элиты, не готовой на компромисс с представителями консервативных кругов даже в том случае, если их идеи не несут в себе никаких признаков экстремизма.
В радикальном варианте националистический набор ценностей сочетается с религиозной нетерпимостью к иным конфессиям (ислам, иудаизм), ксенофобией в отношении европейских и азиатских обществ, в некоторых случаях с «теорией заговора» и «антисемитизмом» (в «евреях», игравших значительную роль в этническом составе советских и российских элит в ХХ и XXI вв., видят «врагов народа»).
Вторая версия национализма в умеренной форме может сочетаться с либерализмом и призывом к построению гражданской российской нации на буржуазно-демократической основе. В основу гражданской нации кладется «российская культура», русский язык как государственный идиом. Национальные интересы высчитываются на основе материальных показателей, связанных с развитием промышленности, торговли, с учетом конкуренции с соседними странами.
Доведенный до крайности, такой подход выливается в экстремистские формы расизма, дискриминации, призывам к подавлению этнических меньшинств, трудовых мигрантов из иноэтнических областей России или стран СНГ и т. д. Представители радикальных националистических организаций копируют символику Гитлера или английских «скинхэдов» конца 1960-х гг. В социальных бедах и экономических проблемах эти движения обвиняют «инородцев», «кавказцев», реже евреев. Эта идейная среда предрасполагает к созданию территорических групп, осуществляющих нападения на представителей этнических меньшинств. Типичный лозунг таких кругов: «Россия для русских!»
|
тип национализма |
принципы |
умеренная версия |
|
радикальная версия |
||
|
имперский национализм |
империя державность государство цивилизация традиция православие |
просвещенный консерватизм; евразийство |
|
ксенофобия антизападничество антисемитизм |
||
|
радикальный национализм |
национальное государство русификация |
буржуазная российская нация |
|
ксенофобия, шовинизм, расизм, экстремизм, нацизм, фашизм скинхэды |
||
|
русский этнический сепаратизм |
Республика Русь моноэтническое государство язычество |
– |
|
расизм шовинизм терроризм гитлеризм скинхэды |
||
|
национал-коммунизм |
СССР социализм антикапитализм антиамериканизм |
восстановление СССР построение социализма свертывание либеральных реформ |
|
революционная борьба с буржуазией антисемитизм теория заговора |
Схема 35. Разновидности национализма этнического ядра (русских)
Третья версия русского национализма, связанная с этносом имеет только радикальный характер и тесно смыкается с радикальным национализмом. Здесь под «нацией» понимается только этнос, причем чаще всего осмысливаемый в расовом ключе. «Русскими» считаются лишь славяне, а расовая принадлежность измеряется на основании фенотипических и антропометрических признаков.
Для представителей этого направления характерно обращение к язычеству. В этой среде процветают наивный расизм, антисемитизм, гитлеризм, шовинизм, радикальная ксенофобия. Идея «Республики Русь» состоит в том, чтобы создать моноэтническое государство (чего никогда не существовало в русской истории) и депортировать из него всех представителей этнических меньшинств. Как и в предыдущей разновидности национализма, мы имеем дело с группами, для которых свойственны обращение к террору, насилие против иноэтнических элементов и другие сопутствующие формы преступной практики.
Четвертая разновидность представляет собой сочетание националистических и просоветских тенденций. В умеренной версии мы имеем дело с продолжением советского патриотизма, верой в коммунистические идеалы и верностью советскому обществу. При этом буржуазные реформы 1990-х гг. рассматриваются однозначно отрицательно как «предательство государственных интересов», «заговор», «переворот», «буржуазная контрреволюция», спровоцированная Западом. Умеренная форма национал-коммунизма составляет основу идеологии такой политической партии, как КПРФ. В начале и середине 1990-х гг. молодежная авангардно-эстетическая версия той же идеологии составляла основу мировоззрения НБ (национал-большевистской партии).
В радикальном выражении к этому добавляется «антисемитизм» и призывы к революционной деятельности против «буржуазного правительства». Такие настроения были характерны в 1990-е гг. для крайних коммунистических движений и организаций — таких, как «Трудовая Россия», «Союз Офицеров», РКРП и т. д.
Национал-сепаратизм
Рассмотрим формы национализма, которые мы встречаем в контемпоральном российском обществе среди этнических меньшинств. Здесь следует различать принципиально две формы: этническую и политическую.
Этническая форма, строго говоря, не должна называться «национализмом», т. к. сводится к призывам возрождения этнической культуры, обычаев, обрядов, устоев и традиций, сохранению языка, отстаиванию возможности жить так же, как это делали из поколения в поколения предки. Пока эти требования не приобретают политической формы, они не имеют прямого отношения к «нации» и, соответственно, к требованиям каких-то особых политических прав. Стремление сохранить устои этнического бытия совершенно естественны для этноса, и поэтому сами по себе они не могут считаться чем-то «неприемлемым». Однако, если речь идет о стремлении этнических меньшинств сохранить свою идентичность, это может входить в противоречие с программой формирования единой «нации», т. е. с «национализмом». В этом случае этничность становится преградой и подвергается давлению. В советское время этничность считалась в целом признаком отсталости и недостаточной «сознательности» населения, и поэтому не приветствовалась как мешающая формированию социалистического общества.
После краха коммунистической идеологии многие российские этносы стали настаивать на этническом возрождении, а т. к. постсоветская государственность не встала на путь «национализма», то эти этнические тенденции в целом воспринимались нейтрально.
Совершенно иной случай представляет собой подлинный национализм, выстраиваемый на основании этносов. Если мы имеем дело с таким национализмом (в подлинном смысле слова), это означает, что формулируется программа организации на основе того или иного этноса или субъекта Федерации (республики) особого политического образования — национального государства, нации. В этом случае национализм приобретает ярко выраженные политические черты и предполагает такое развитие событий, в результате которого будут достигнуты конкретные политические цели. Есть несколько версий такого национализма на основе этнических меньшинств.
1) увеличение полномочий в вопросе самоуправления, автономии, политических привилегий в пользу субъекта Федерации за счет федерального центра;
2) изменение территориальной структуры субъекта Федерации за счет другого субъекта и проведение на территории данного субъекта специфической этнической политики;
3) придание субъекту Федерации (республике) некоторых признаков суверенного государства для проведения относительно самостоятельной от центра политики (включая прямые внешнеэкономические связи);
4) реорганизация одного или нескольких субъектов Федерации на основании этнических групп в новое образование с признаками нации и государственности;
5) провозглашение полной независимости субъекта Федерации от федерального центра, выход из состава Федерации и объявление себя независимым государством (сепаратизм, сецессионизм);
6) провозглашение отдельного политического субъекта на основании религиозной идентичности.
Со всеми этими формами национализма Россия сталкивалась в 1990-е — 2000-е гг. и продолжает сталкиваться сегодня.
Первая версия национализма — самая умеренная. Здесь речь идет о стремлении субъекта Федерации увеличить объем самоуправления, включая сбор налогов, проведение региональной и муниципальной политики, реорганизации трансформатной структуры и т. д. Эти требования могут быть одинаковыми и для республики, и для области или края, поэтому о «национализме» речь может идти только тогда, когда эти требования расширения полномочий сопровождаются ссылками на особый этнический контекст. Такой умеренный национализм прямой угрозы для территориальной целостности не представляет и является допустимым. В настоящее время такая позиция характерна для большинства республик, и самый яркий и успешной пример проведения такой политики при полной лояльности федеральному центру являет собой Чечня при президенте Рамзане Кадырове.
Второй случай более опасен, т. к. предполагает наличие политических границ в пределах единого государства, которое по определению должно единолично распоряжаться всей территорией, в чем и заключается государственный суверенитет России как государства. Примером такого национализма могут служить осетино-ингушские трения вокруг Пригородного района Владикавказа, когда в 1992 г. межэтнические столкновения между ингушами и осетинами изменили сложившийся стихийно этнический баланс и привели к конфликту между двумя субъектами Федерации — Республикой Северная Осетия и Республикой Ингушетия. В результате встала проблема демаркации границ. Этот пример показывает, что и осетины, и ингуши вкладывают в границу политическое измерение, а этнические границы воспринимают как национальные, что ложится в основу обоюдного национализма. Обе стороны конфликта ожидают, что федеральная власть встанет на их сторону, а если этого не происходит, то протестные чувства выливаются уже не только на соседний этнос, но и на федеральную власть. Таким образом, формируются предпосылки перехода этнической идентичности к национальной и восприятие субъекта Федерации как самостоятельного национального государства. Отсюда открываются пути к последующим формам национализма, гораздо более радикальным.
Третья форма национализма ярко проиллюстрирована парадом суверенитетов 1990 г., когда несколько субъектов Российской Федерации (в то время Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, РСФСР) провозгласили суверенитет и стали пытаться выстраивать самостоятельную и независимую от центра политику, включая вопросы этноса. Ярким примером этого могут выступать Башкирия и Татарстан 1990-х гг. при президентах Рахимове и Шаймиеве. В Башкирии этнические башкиры составляют меньшинство, а большинство состоит из татар, русских, чувашей и других этнических групп. При этом провозглашение суверенитета Башкирией сопровождалось стремлением искусственно насаждать башкирский язык, приписывать к башкирам не только смешанные случаи, но и просто татар, назначать на руководящие посты этнических башкир и т. д. вплоть до дискриминационной политики в отношении не-башкир.
В Татарстане этнические татары составляют около половины населения. Там также сложилась особая политическая ситуация с национальной политикой, направленной на распространение языка, продвижение этнических татар во власть, давлений на остальные этнические группы, а также активными попытками устанавливать прямые экономические связи с другими странами в обход федерального центра.
По сути, республики, провозгласившие суверенитет, взяли курс на строительство независимых буржуазных государств с националистической идеологией, используемой для построения нации, что напрямую сказывалось на положении этнических меньшинств в пределах субъекта Федерации.
Четвертый вариант характерен для республик Северного Кавказа. В частности, есть тенденции пересмотреть устройство некоторых административных образований, в которых оказались разные этнические группы. Речь идет, в первую очередь, о Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где сосуществуют тюркские (балкарцы и карачаевцы) и адыгские (черкесы и кабардинцы) этносы. При этом в Карачаево-Черкесии тюрки являются большинством, а адыги — меньшинством; а в Кабардино-Балкарии — наоборот. Когда административная единица в составе в целом централизованного государства (СССР) оказалась в положении «национальной» республики, преобладающий этнос (карачаевцы в одном случае, кабардинцы — в другом) оказались перед искушением придать этническому фактору национальное и националистическое содержание (естественно, за счет второй миноритарной этнической группы). В ответ на это возник проект объединения тюрок (карачаевцев и балкарцев) в новом образовании, равно как и адыгов. Черкесы и кабардинцы этнически близки к адыгам Адыгеи и абхазам Абхазии, что подтолкнуло их к проекту создания «Великой Черкесии». В этом случае мы видим, что этносы начинают мыслить себя потенциально «нациями» и, следовательно, придают объединению в рамках нового административного образования значение государственности со всеми ее атрибутами — территорией, границей, политическим самоуправлением и т. д. В этом случаем мы имеем дело с полноценным национализмом, искусственно создающим «нацию».
Пятый случай есть самая законченная и радикальная форма национализма, предполагающая выход административного образования из состава России и провозглашение полной независимости (сепаратизм, сецессионизм). В новейшей российской истории примером этого были две чеченские кампании, в которых решался вопрос о полной независимости Чечни (Ичкерии). Если первая кампания велась с переменным успехом, то в ходе второй победа оказалась на стороне федеральных сил, и сепаратизм был подавлен силой. Здесь мы имеем дело с полноценным и последовательным национализмом. Теоретиком такого национализма в правительстве Дудаева выступал начальник военной разведки Ичкерии Х.А. Нухаев, позже пересмотревший свои взгляды.
Шестая версия предполагает создание государства на религиозной основе. Религиозные проекты создания конфессионального политического образования (например, исламского государства на Северном Кавказе — т. н. «Имарат Кавказ») могут быть рассмотрены как разновидность национализма, поскольку они предполагают искусственное формирование особой социальной общности на основе религии. В этом случае мы имеем дело с особым религиозным пониманием нации — как «уммы», т. е. «нации верующих», объединяющей мусульман не на этнической, но на религиозной основе. Это проект формирования новой нации — например, «кавказских мусульман».
Политическая практика национализма этнических меньшинств может сопровождаться вспышками насилия и террористическими актами. Провозглашение открытого сепаратизма сплошь и рядом ведет к полномасштабной войне. Различные формы религиозного экстремизма приводят к аналогичным последствиям.
|
Тип национализма этнических меньшинств |
Принципы |
Примеры |
|
увеличение полномочий в вопросе самоуправления |
расширение автономии в рамках федерализма, субсидиарность |
Чечня в настоящее время, большинство субъектов Федерации |
|
требование изменения территориальной структуры субъекта Федерации |
придание этническому фактору значения национального, восприятие территории Республики как «национальной» |
Северная Осетия, Ингушетия |
|
придание субъекту Федерации (Республике) признаков суверенного государства |
построение нации подготовка к полной государственной независимости |
Татарстан, Башкирия, Саха (Якутия), остальные Республики, провозгласившие в 90-е суверенитет |
|
реорганизация одного или нескольких субъектов Федерации на основании этнических групп |
создание нации на этнической основе с признаками государства (единство территории) |
проект «Великой Черкесии» |
|
провозглашение полной независимости субъекта Федерации от федерального центра |
создание нового независимого государства |
Ичкерия (1994–2000) |
|
религиозный сепаратизм |
создание государства на религиозной основе |
план создания Северокавказского государства «Имарат Кавказ» |
Схема 36. Разновидности национализма на основании этнических и религиозных меньшинств
§ 5. Этнические и национальные конфликты в современной России
Конфликты на почве национализма: нация/этнос
Уточнив этносоциологическое содержание различных видов «национализма» в контемпоральной России, можно бегло рассмотреть примеры конфликтов, в которых задействованы этнические факторы или различные производные от этноса.
Весьма распространенными случаями в российских городах становятся вспышки насилия со стороны русских националистов, направленные против этнических меньшинств. Это сопряжено с интенсивной миграцией жителей окраин в города и промышленные центры исключительно по экономическим причинам. К этому добавляются потоки мигрантов из стран СНГ и дальнего зарубежья (Китай). В этом случае мы имеем дело с агрессией представителей ядерного этноса народа, присвоивших себе (без согласия официальной политики государства) статус представителей «нации». Иными словами, здесь мы имеем конфликт по линии нация/этнос, но при этом свойство «нации» является произвольно утверждаемым «русскими националистами» вопреки официальной политике и правовым установкам государства (нормативно считающего себя гражданским обществом).
Симметричным является и обратная ситуация, столь же, увы, частая в настоящее время: репрессии со стороны преобладающего этноса в субъекте Федерации против русских, оказавшихся в позиции этнического меньшинства. И в этом случае мы имеем дело с конфликтом по оси нация/этнос, а свойство «нации» также произвольно присвоено жителями «национальной» республики вопреки официальной нормативной правовой установке, согласно которой мы имеем дело во всех случаях только с конфликтом гражданина и гражданина. В данном случае сплошь и рядом чрезвычайно трудно точно квалифицировать структуру конфликта, поскольку этнос не имеет никакого правового статуса, а смысл понятия «нации» и «национальности» является расплывчатым даже в Конституции, Основном Законе, и поэтому распространяется на все остальные правовые документы, в том числе и на Уголовный Кодекс. Именно поэтому часто конфликт с откровенной этнической подоплекой квалифицируется следствием и судом как обычный конфликт между гражданами.
Лишь в том случае, когда налицо ярко выраженный политический национализм радикального типа (символика, принадлежность к экстремистским организациям, наличие расистской литературы и т. п.), «националистическая» подоплека может быть включена в классификацию дела.
Примеров таких национальных конфликтов множество, их число неуклонно растет, причем, как в русских городах, так и на территории Республик.
Нация/нация: сецессионистские войны
Примером конфликта, в котором сторонами выступают нации, могут служить столкновения двух государств или одного международного признанного государства с другим, непризнанным.
В новейшей российской истории имелось два случая таких конфликтов.
Первый случай конфликта нация/нация мы имеем в двух чеченских кампаниях. Россия номинально представляет собой национальное государство. Другим самостоятельным национальным государством объявила себя в начале 90-х гг. ХХ в. Чечня (Ичкерия). Москва не согласилась признать независимость самопровозглашенной Республики Ичкерия и, следовательно, отказала ей в праве считаться нацией и самостоятельным национальным государством. Однако руководители Ичкерии — Джохар Дудаев, а позднее Аслан Масхадов — продолжали настаивать на своем, считать себя «нацией» и независимым государством, а конфликт с Россией — столкновением двух наций. Со стороны России квалификация конфликта была качественно иной. Москва считала чеченских сепаратистов «бандитами», т. е. гражданами России, нарушившими закон и закономерно подлежащими наказанию со стороны единственно легитимной, легальной, правомочной и суверенной власти. Для России это была операция по разгрому незаконных бандформирований, т. е. организованных «преступных элементов». Для Чечни — национальная война одной нации с другой.
Второй случай — российско-грузинская шестидневная война в августе 2008 г. Здесь имело место столкновение двух национальных государств, признанных международными инстанциями. Но в основе вновь лежала определенная двусмысленность. Южная Осетия и Абхазия провозгласили себя независимыми государствами, т. е. нациями, но Грузия, в состав которой они входили, такими их не признавала. Южная Осетия и Абхазия за счет этнической близости к этносам, проживающим в Российской Федерации (осетины в одном случае, а в другом случае несколько адыгских этносов, родственных абхазам– черкесы, адыги, кабардинцы и т. д.) и установления дружеских отношений с Россией обратились к Москве за помощью после того, как грузинские войска подвергли столицу Южной Осетии Цхинвал обстрелу и вторглись в город. Российские вооруженные силы вошли на территорию Южной Осетии и Абхазии, отбили грузинские войска, а затем признали независимость Южной Осетии и Абхазии. На территории этих государств были осуществлены «этнические чистки», этнические грузины были депортированы на территорию Грузии. Грузины считали и считают Южную Осетию и Абхазию грузинской территорией (частью национального государства Грузия), а осетин и абхазов — этническими меньшинствами и гражданами Грузии. Жители Южной Осетии и Абхазии, а также Россия считают Южную Осетию и Абхазию суверенными национальными государствами, с которыми у России заключены межнациональные договора.
Так в двух случаях мы имели дело с конфликтами по линии нация/нация, и в обоих случаях в основе конфликтов лежало стремление к сецессии, т. е. к созданию на территории единого государства новых суверенных политических образований, новых национальных государств.
Межэтнические конфликты: этнос/этнос
По линии этнос/этнос конфликты развертываются в том случае, если ни одна из сторон не является нацией, т. е. политически организованным суверенным государственным образованием с фиксированными границами.
Примером такого конфликта может служить осетино-ингушский конфликт 1992 г. В этом случае имело место столкновение двух этносов, ни один из которых не был ядром нации. Другим примером могут служить напряженные отношения башкир и татар в Башкирии. Обе стороны конфликта являются этносами для нормативной структуры российского общества. Сами участники аналогичных ситуаций склонны воспринимать себя как «нации», а свои субъекты Федерации (соответственно, Северная Осетия, Ингушетия, Башкирия) как малые «национальные государства». Это несоответствие в субъективной оценке своей коллективной идентификации и ее квалификации со стороны нормативных представлений государства, при том, что сами определения крайне неточны, создает сложности не только для разрешения конфликтных ситуаций, но и для ясного понимания их структуры и, соответственно, для корректного анализа.
Межконфессиональные конфликты: исламский экстремизм
Межконфессиональные конфликты могут быть отнесены к разновидностям этнических, но с учетом того обстоятельства, что религия, как правило, является свойством народа (лаоса), а не этноса (если речь не идет о магических архаических культах и шаманизме). Там, где есть организация общества вокруг религиозной идеи, существуют все признаки создания социальной системы, качественно более сложной, чем структура этноса. Межконфессиональные конфликты, которые развертывались, начиная с 1990-х гг. и продолжают развертываться на Северном Кавказе, полностью соответствуют этому определению.
В основе этого типа конфликтов лежит политическая теория и практика некоторых радикальных исламских кругов, строящих на основе исламской конфессии политическую программу создания независимого исламского государства. Это государство, по мысли исламских фундаменталистов, должно быть основано на сверхэтническом принципе и объединять людей на основе веры и религиозной организации (сеть религиозных общин — джамаатов). По сути, речь идет о противопоставлении реально существующему российскому государству, номинально светскому, но с преобладанием православного населения, альтернативного политического проекта, потенциально исламского государства, которое исламские радикалы стремятся создать на Северном Кавказе на основе этносов, исповедующих ислам.
Практика строительства такого государства основана на вооруженной борьбе, осуществлении террористических актов, захвате заложников и других насильственных методах. Исламские экстремисты на Северном Кавказе мыслят самих себя гражданами будущего «исламского государства» («Имарат Кавказ» Доку Умарова), от имени которого они ведут борьбу с «неверными». Образцом служат политические проекты имама Шамиля, пытавшегося объединить горских мусульман для борьбы против Российской Империи в XIX в.
§ 6. Этнодемография, этномиграция, смешанные браки
Этнические особенности миграции великороссов
Структура миграции этносов на территории современной России имеет совершенно оригинальную структуру, связанную с этническими, географическими, историческими, социальными, экономическими и иными факторами. В долгосрочной перспективе основные тенденции в миграционных особенностях тех или иных этносов качественно меняются.
Для собственно славянского населения традиционно была характерна оседлость в сочетании с повышенной мобильностью, в значительной мере предопределенной естественными условиями земледельческой экономики. Во-первых, периодически истощались пахотные почвы, и крестьяне были вынуждены осваивать новые территории, вырубая или выжигая леса, выискивая новые пригодные для земледелия пространства и т. д. Во-вторых, подчас неурожаи заставляли целые деревни сниматься с места и искать лучших условий. В-третьих, рост населения заставлял излишки деревенских жителей искать своей судьбы вне привычных поселений.
Эта динамика славянских земледельцев изначально имела хаотический характер: славяне двигались вдоль рек Русской равнины, затем углублялись в леса, вырубая их по ходу дела, а иногда осушая болота (в основном, на севере и западе). Эта модель хаотического распространения крестьян по логике наименьшего сопротивления и в привязке к поиску пригодных для пахоты земель лежала в основе славянской экспансии по территории современной России.
По мере укрепления политической структуры государства и повышения роли городов как столиц удельных княжеств (включая столицу всей России), города становились центром притяжения для свободных элементов славянского населения, снимавшихся с привычной территории и отправлявшихся на поиск новых мест обитания. Это обеспечивало постоянный приток городского населения. Можно назвать этот вектор устойчивой миграции славянского земледельческого населения центростремительным, ведущим из деревни в город.
Так как этническое ядро населения Руси было славянским и, соответственно, крестьянским, то этот центростремительный вектор выступал как фактор постоянного притока славян в города и способствовал поддержке и укреплению их языковой, культурной и обрядовой идентичности. Избыток русского сельского населения притягивался к полюсам русских городов.
Но при этом с самого начала можно зафиксировать и обратную тенденцию — постоянный отток городского населения в сторону периферии, сельской местности, малоизведанных земель. Миграции городских славян проходили через непрерывные военные походы, которые организовывали князья; через религиозные паломничества, торговые купеческие экспедиции, массовое бегство от хозяйских притеснений, уход в монастыри, возврат к крестьянскому труду при первой открывшейся возможности и т. д. Миграционная психология славян сохранилась и в эпоху укрепления и роста городов: но теперь вместо общей хаотичности крестьян-колонистов мы имели дело с более структурированным процессом — симметрией центростремительных и центробежных тенденций; славяне концентрировались в городах и одновременно рассеивались из них в самых разных направлениях. При этом рост городов проходил чрезвычайно постепенно и медленно, а обилие свободных земель оставляло открытой возможность в любой момент отправиться из города «куда глаза глядят» (в компактной Европе это было бы попросту невозможно — «глаза» упирались немедленно в земли ближайшего феодала, т. е. в «феод»). Еще в XIX в. Россия жила в постоянном движении: повсюду шли группы «калик-перехожих», богомольцев, беглых или освободившихся крестьян, погорельцев, паломников, бродячих торговцев (офеней) и самых разнообразных «ходоков», «скитальцев», русских «зачарованных странников» (Н. Лесков). Они шли в город, но и сквозь город, периодически оседая в странноприимных домах и снова продолжая движение в неопределенном направлении.
Эта же этномиграционная тенденция продолжалась и в советское время. Крестьянские массы двигались в промышленные города, но и из этих городов отправлялись на всесоюзные стройки, на освоение новых земель, специалисты делегировались в самые отдаленные уголки СССР — для индустриализации, строительства магистралей, налаживания системы образования, социальной защиты, интеграции всех этносов в единый советский народ. И русское население было основной средой этого процесса: русские крестьяне пополняли советские города, и русские же «специалисты» отправлялись по всему СССР с миссией «советизации», «модернизации» и «индустриализации» всех территорий, включая те, что были населены иными этносами.
Славянская миграция на всех этапах истории русского государства была объединяющим социальным фактором, связывающим воедино различные территории, каждая из которых имела свой этнический, географический, климатический, экономический, культурный и социальный профиль. Интенсивность славянской миграции — как хаотической, так и центростремительной/центробежной — была важнейшим показателем интеграции всего общества, главным фактором живого единства народа и государства.
Надлом этномиграционных процессов среди русского населения СССР и современной России
В советское время, однако, при сохранении общей направленности славянской миграции в город и из города, на периферию, в силу ориентации государственной политики на индустриализацию и урбанизацию, концентрация населения в городах, особенно в крупных мегаполисах, стала превалировать над миграцией из городов, в обратном направлении. Это привело к упадку села и диспропорциональному росту городских агломератов. Но если в Европе аналогичные процессы проходили по естественным причинам — дефицит сельских угодий, то в Советской России то же явление было следствием насильственной политики: деградировали и распадались даже те села, которые находились в центре довольно плодородных и дающих стабильные урожаи земель. Урбанизация была не следствием естественной хозяйственной необходимости и демографического избытка дополнительного населения, которое не могло прокормиться с ограниченной возделываемой территории, но навязанной сверху насильственной программой, направленной на «пролетаризацию» населения. Советские люди перемещались в город даже в том случае, если имели экономическую и социальную возможность спокойно оставаться в деревне. Постепенно миграция в город превратилась из идеологической установки в психологическую и социальную тенденцию, ассоциируясь с повышением престижности, социального статуса, комфорта, легкости доступа к образованию, карьере, другим возможностям жителя города по сравнению с жителем села.
Таким образом, в СССР впервые в русской истории центростремительные тенденции для собственно русского населения возобладали над центробежными. Это привело к повышению концентрации русских в мегаполисах и одновременно к упадку и вырождению села.
В современной России мы имеем дело с продолжением этномиграционных процессов, начатых в советское время, но с существенными поправками. Во-первых, приток населения из русских сел в города только еще более увеличился, а вырождение села ускорилось. Во-вторых, полностью прекратился отток из городов на периферию самой Российской Федерации. Правда, частично этот процесс сохранился, но лишь в сторону эмиграции из страны за рубеж, в первую очередь в Европу и США. По аналогии с тем, как в советское время ехали в города за повышением социального статуса, а из малых городов — в крупные и далее в столицы, в наше время зоной максимального престижа считаются страны Запада — Западная Европа, США и Канада, которые рассматриваются как «терминалы» урбанизации, зоны жизни, наделенные максимальным социальным престижем и наивысшим ценностным статусом. Можно рассмотреть страны Запада как территорию «глобального города», Космополис, существующий в массовом сознании современных россиян как высшее выражение успешной модернизации и места максимального престижа. Траектория «село–областной город–Москва (Санкт-Петербург)–Париж (Берлин, Лондон и т. д.)–Нью-Йорк (Лос-Анджелес и т. д.) » считается символическим маршрутом законченной «территориальной» карьеры для многих россиян. По сравнению с этим траектория «село–областной город–Москва–областной город» (прежний или новый) видится как «катастрофа», а траектория «село–областной город–Москва–село» вообще не рассматривается и приравнивается к социальной «смерти». Из Москвы либо вообще нет пути, либо есть путь на Запад (в редких случаях в богатые страны Востока).
Это обстоятельство качественно меняет этническую структуру территории всей России. Русское население движется сегодня только и исключительно центростремительно, сельское население неуклонно сокращается, деревня вымирает, гигантские территории опустошаются, оставаясь без тех, кто был их прямым и непосредственным хозяином.
Параллельно этому русские из народа и частично этноса становятся нацией, горожанами, буржуазией. Но этот процесс, в свою очередь, искусственно сдерживается сложившимся в 1990-е гг. классом новой политической элиты олигархического типа, препятствующей росту русского городского буржуазного национализма, становлению среднего городского класса и сохраняющей монополию над основными областями бизнеса. Поэтому значительная часть мигрантов в город из русских сел и малых городов пополняют собой ряды современного этнопролетариата, а далее наиболее пассионарные и активные рассеиваются по странам Запада.
Русские и демография
Законы демографического взрыва полностью применимы и в отношении русского населения России. Мы рассматривали ранее четыре фазы демографического процесса. В настоящее время русские находятся в четвертой фазе, когда должна происходить стабилизация населения вокруг одних и тех же чисел: село полностью модернизировано, а пространство города насыщено. Так оно в целом и обстоит, но с тем лишь отличием, что по инерции происходит повышение смертности населения в городах (в силу их старения) и сокращается прирост населения в деревнях (в силу их упадка и опустошения). Это дает тревожную тенденцию вымирания русских. К этому следует добавить тяжелые испытания исторического характера — Первую и Вторую мировые войны, гражданскую войну, а также массовые репрессии против собственного населения в сталинскую эпоху. На естественную демографию оказали влияние и внешние факторы. В результате сегодня мы имеем показатели постоянного сокращения общего количества русских в России, включая повышение уровня смертности и сокращение рождаемости.
С этнической точки зрения этот процесс носит катастрофический характер, т. к. социальные, демографические и хозяйственные тенденции, приводящие к такому положению дел, носят фундаментальный характер, и переломить эти тенденции можно только чрезвычайными мерами политического, экономического, социального и идеологического толка.
Демографическое вырождение русских и изменение их зоны обитания в ходе этномиграционных процессов логически приводят к изменению этносоциального баланса на всем пространстве Российской Федерации. Вместе с русскими исчезает главный связующий элемент полиэтнического общества, то этническое и культурное ядро, которое делало народ народом.
Русское присутствие особенно сократилось в 1990-е гг. в области Северного Кавказа, а также в Туве, Якутии и тех Республиках, которые объявили о своем суверенитете и стали настаивать на его воплощении в конкретной политике. Отлив русских из сельской местности, в свою очередь, отрывает этнос от его «вмещающего ландшафта» (Л. Гумилев) и разлагает стройность и когезию его структур. На место органического этнического самосознания приходит фрагментарное самосознание современного горожанина, в котором элементы космополитизма и гражданского общества перемежаются с элементами болезненного и неорганичного национализма.
В целом же мы имеем трудную проблему, которая, если ее никак не решать, может привести к социальной, политической, государственной катастрофе.
Этнодемография архаических этносов России
Качественно иначе обстоят дела в этнической демографии других российских этносов.
Архаические этносы пребывают, по определению, в нулевой фазе демографического взрыва, миграция в города среди них минимальна, а традиционные условия проживания — охота, скотоводство или сельское хозяйство — гарантируют баланс рождаемости и смертности. При соприкосновении с индустриальным модернизированным обществом влияние медицины, обеспечения продуктами питания и средствами личной гигиены понижает детскую смертность, но параллельно этому модернизация приводит к забвению традиционных форм ведения хозяйства, упадку ремесел, нарушению экобаланса, алкоголизации и ассимиляции этносов. Будучи автономными, архаические этносы могли бы существовать в таком состоянии сколь угодно долго, но контакты с «цивилизацией» наряду с факторами, способствующими сокращению детской смертности и увеличению продолжительности жизни, сплошь и рядом ведут к полному исчезновению этноса — либо к его прямому вымиранию в новых условиях, либо к полной ассимиляции.
Так, скорое исчезновение грозит таким этносам, как ительмены (2939 человек), долгане (6200), кеты (1084), кумандинцы (около 700), манси (8459), нанайцы (около 12 000), негидальцы (622), нганасаны (1278), нивхи (около 5 200), ороки (190), тоджи (около 3200), удэгейцы (около 2000), ульчи (2718), юкагиры (около 1000).
Негативную роль сыграла советская практика, которая под эгидой «модернизации» архаических этносов проводила насильственную политику разрушения структур их традиционного многотысячелетнего быта, безжалостно уничтожая структуры этноцентрумов. Особое внимание советские власти уделяли шаманам, считая их «буржуазией», а их культовые принадлежности — колотушку, бубен, специальный наряд и т. д. — «инструментами эксплуатации народных масс». Репрессиям подвергались те, кто продолжали исполнять традиционные обряды и чтить традиции. В результате этническим структурам был нанесен непоправимый вред. На это наложилось распространение среди этих этносов привычки к употреблению спиртного, что также сказалось крайне негативно на их социальных и этнических коллективах. Практика советской модернизации вполне может быть охарактерирозована как форма открытого «этноцида».
В современной России, когда идеологических оснований для насильственной модернизации архаических этносов больше нет, практика прямого давления на этноцентрумы прекратилась, и в Конституции РФ прямо говорится о защите прав малых этносов (названных «народами») — статья 69: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации». Однако это декларативное заявление далеко не всегда соответствует практике местной власти, едва ли отдающей себе отчет в той колоссальной ценности, которой обладает для всего человечества каждый из этих исчезающих этносов как носитель особого языка, особой неповторимой культуры, мифов, преданий, обрядов, обычаев. Исчезновение народа — катастрофа, сопоставимая с исчезновением целого мира.
Этнодемографические особенности других этносов РФ
Другие этносы России, кроме самых малочисленных и архаических, находятся преимущественно во второй и третьей стадии демографического взрыва.
Третья стадия, при которой наблюдается умеренный рост населения, рост смертности на фоне стабилизации роста рождаемости, характерна для таких областей, как Татарстан, Башкирия, финно-угорские Республики, Калмыкия, Бурятия, Якутия и т. д. Здесь продолжается этническая миграция в города, но в целом количество горожан и сельчан стабилизируется. В таких районах этническая миграция незначительна, и общие этносоциологические пропорции сохраняются неизменными.
Вторая стадия демографического взрыва характерна для области Северного Кавказа, где воздействие индустриальной среды центральной России способствует резкому росту населения, рождаемость в сельских районах постоянно возрастает, а смертность падает. Это создает постоянный стремительный прирост населения, что приводит к демографическому дисбалансу.
Зона Северного Кавказа является областью наиболее взрывоопасных процессов в сфере этнодемографии и этномиграции.
Первым уровнем является постоянный и значительный прирост сельского населения, порождающий приток в города и республиканские центры, а также взаимное давление этнических анклавов друг на друга. Показательны процессы, протекающие в Дагестане, где идет постоянное изменение границ проживания различных этнических групп — в частности, расширение зоны проживания даргинцев за счет аварцев и лакцев, с изменением структуры из «вмещающего ландшафта».
На следующем уровне избыточное население, не вмещающееся ни в городах, ни в сельской местности, и не обеспеченное рабочими местами и жизненной инфраструктурой в пространстве самой республики, движется за пределы субъекта Федерации, чаще всего на территорию русских краев и областей. Это сопровождается сокращением русского населения в самих республиках, а миграция русских из сел в города, а из областных городов в столицы, освобождает пространство для расселения многих северокавказских этносов на «освободившихся» территориях. Это приводит к этническому дисбалансу, и постоянно порождает все новые и новые зоны межэтнических столкновений. Так как количество населения на Северном Кавказе постоянно и неуклонно растет, а русские земли теряют население, складывается новая этническая конфигурация на значительных территориях.
С правовой точки зрения, этот процесс вообще невозможно квалифицировать: граждане Российской Федерации могут беспрепятственно и на вполне законных основаниях проживать на любой территории страны. Но на практике это создает повышенную межэтническую напряженность, часто перетекающую во вспышки насилия и политического национализма с обеих сторон.
Этносы России, пребывающие во второй фазе демографического взрыва, часто не останавливаются на близлежащих русских территориях или не могут там обосноваться. Это толкает их все дальше и дальше, вплоть до других русских областных центров и столиц. Так постепенно в городах с традиционным преобладанием славянского населения, с небольшим вкраплением других этносов России, появляются значительные социальные зоны, населенные «кавказцами». И снова, с правовой точки зрения, это абсолютно легально: если граждане России приняли решение обосноваться в том или ином ее населенном пункте, никто и ничто не может им в этом препятствовать, а факты нарушения ими закона преследуются и разбираются в обычном порядке, точно также, как если бы это имело место в случае коренных жителей. Условия жизни этнических общин миграций отличаются, тем не менее, от коренного населения городов, а этнические связи оказывают больше влияния, нежели взаимосвязи русских, приехавших в город или столицу из одной и той же области. Этническая самоидентификация, авто- и стереотипы здесь намного ярче выражены, чем в случае «землячеств» по чисто территориальному признаку (без этнической составляющей). Это приводит тому, что этническая принадлежность становится социальным инструментом. И в исследовании этого феномена — социологии этнической общины в новых условиях, чаще всего в городских — вполне уместны методы инструменталистов. Этническая принадлежность мигрантов становится сплошь и рядом эффективным инструментом их социализации, основанной не на интеграции и ассимиляции (что, напротив, удобнее осуществлять в одиночку), а на создании особых социальных лифтов, предназначенных только для членов данной этнической группы и зачастую имеющих полулегальный, а то и откровенно криминальный характер. Здесь мы имеем дело с этническим лоббизмом и этнической преступностью.
Кавказская проблема: инструментализация этноса
Так как основным источником «добавочного населения» является область Северного Кавказа, откуда и проистекают основные потоки этнических мигрантов под давлением естественных процессов этнодемографического роста, то сама собой складывается «кавказская проблема», постепенно приобретающая угрожающие масштабы и вызывающая нарастающие протесты среди коренного населения и приезжих из русских областей.
Оказавшаяся в социальном пространстве города с русской славянской доминантой, не получив предварительной подготовки в ходе постепенной аккультурации, не имея никаких отлаженных инструментов и институтов мягкой интеграции или ассимиляции, кавказская молодежь (а именно она становится основным контингентом мигрантов) оказывается в зоне отчуждения, подозрительности, неприязни. Не владея подчас даже азами русской культуры, испытывая проблемы с непростым для кавказцев русским языком, выходцы с Северного Кавказа начинают формировывать особую этносоциальную субкультуру, выполняющую защитные, а подчас и наступательные функции. Так как этнос здесь оторван от вмещающего ландшафта, то эта субкультура не является этнической в полном смысле этого слова, этноцентрум разлагается. На основании этноса складывается некоторая искусственная общность чисто инструментального порядка. В этом смысле важна не реальная принадлежность к той или иной этнической группе, но социальный статус каждой из групп. Особенно это касается детей от смешанных браков. Оказавшись в Москве или каком-то другом русском городе, кавказец с половиной кабардинской, а половиной балкарской крови часто выбирает ту идентичность, этническая диаспора которой считается более успешной, эффективной или состоятельной в поддержке своих членов.
Частью эти инструментальные субкультуры сопряжены с криминальной практикой. В этом случае отчуждение от основной массы населения, изоляция и отсутствие моральной солидарности с большинством становятся преимуществом в криминальной сфере, развязывают преступникам руки. Так как в традиционном обществе право имеет наглядный характер и вписывается в этноцентрум, абстрактное «гражданское» право утрачивает моральную легитимность, оставаясь лишь механической системой наказаний, ускользнуть от которой становится технической задачей, без каких бы то ни было моральных последствий. «Те действия, которые нельзя совершать внутри своего этноса, вполне допустимы вне его». На этом основана своеобразная логика этнических преступных группировок. Здесь мы имеем дело не с этносом, но с «эрзацем этноса», с его инструментальной и фрагментарной утилизацией для решения тех или иных социальных, экономических, а иногда и политических проблем.
Выходцы с Южного Кавказа
По сходной схеме формируется этносоциологическая проблема с выходцами из стран Южного Кавказа — Азербайджана, Грузии и Армении. Разница лишь в том, что в данном случае «кавказцами» являются не граждане России, а выходцы из независимых государств.
Соответственно, у таких «кавказцев» совершенно иной правовой и этносоциологический статус. Гражданин одной из стран Южного Кавказа является подданным иного национального государства. В этом случае у него, действительно, иная национальность по сравнению с выходцами Северного Кавказа, которые принадлежат к той же нации, что и все остальные этносы России, в том числе и русские. Национальность определяется наличием гражданства. Если выходцы с Южного Кавказа имеют гражданство своих государств, то они суть лица другой национальности. В этом случае возникает правовая база для обращения с ними как с иностранцами со всеми вытекающими последствиями. Ассимиляция или интеграция иностранцев пока не является для России острой проблемой и решается на основании действующего законодательства, независимо от того, с гражданином какого государства мы имеем дело — европейского, азиатского или одной из стран СНГ.
Но часто бывают случаи, когда выходцы из Южного Кавказа получают российское гражданство. Тем самым они меняют национальность и становятся россиянами. Часто за этим решением стоят точно такие же этнодемографические механизмы. Республики Южного Кавказа находятся во второй, реже в третьей фазе демографического взрыва и испытывают проблемы, сходные с теми, которые испытывает Северный Кавказ. Рост сельского населения ведет в города и столицы, а недостаток рабочих мест выталкивает избыток населения за пределы страны. Слабозаселенная, редеющая Россия с относительно высоким уровнем жизни и близкой исторически культурой становится приоритетной зоной этномиграции. После того как выходцу с Южного Кавказа тем или иным путем удается получить российское гражданство, он с правовой точки зрения ничем больше не отличается от любого другого россиянина — как русского, так и северокавказца. Национальность у него теперь россиянин, а тот факт, что он является азербайджанцем, армянином и грузином, указывает отныне только на его этническую идентичность и не имеет никакого правового значения.
Далее вся схема, рассмотренная нами в случае этномиграции из зоны Северного Кавказа, повторяется. Одни массы мигрантов осваивают русские зоны, прилегающие к Северному Кавказу, другие расселяются по городам и столицам. И снова повторяется тот же сценарий: одна часть ассимилируется и интегрируется в основное население, принимая общую российскую (русскую) идентичность, другие становятся носителями городской «этнической субкультуры», основные свойства которой мы уже рассматривали. В этом смысле при получении российского гражданства грань между выходцами с Северного и с Южного Кавказа стирается.
Миграция из стран СНГ
Структурно точно такая же картина повторяется и в случае мигрантов из других стран СНГ. Выходцы из Украины и Беларуси в силу культурной, языковой, исторической и этнической близости легче интегрируются в русское общество, и особых этнических субкультур, как правило, не создают. А в рамках украинских и белорусских землячеств люди, стремящиеся сохранить и укрепить этническую идентичность, ограничиваются лингвистическими, филологическими и культурными вопросами — языком, литературой, танцами и т. д.
Сложнее обстоит дело с выходцами из азиатских республик — Узбекистан и Таджикистан, реже Туркменистан и Казахстан. Это связано с разным экономическим уровнем жизни в этих странах. Узбекистан и Таджикистан — плотно заселенные страны с очень низким уровнем жизни и относительно большим приростом населения. Избыток трудоспособного взрослого населения не может найти себе применения в этих странах, что провоцирует потоки миграции в Россию.
Приехав в Россию, мигранты из Средней Азии выступают либо как иностранцы, либо получают российское гражданство. В целом в этом случае повторяется сценарий с кавказцами. Если удается интегрироваться в русское общество, этническая идентификация отходит на второй план. Если с этим возникают проблемы, то складываются этнические (национальные — для тех, кто не является гражданином России) сообщества, использующие этническую принадлежность в инструментальных целях.
Различие между поведением кавказских и среднеазиатских диаспор в структурах соответствующих обществ: кавказцы более активны, пассионарны, склонны к резким действиям и жестам; среднеазиаты более спокойны, созерцательны, упорядочены, осторожны. И те, и другие принадлежат к совершенно различным культурным и этносоциологическим средам, элементы которых они привносят и в искусственные «эрзац-этнические» сообщества.
Однако при анализе тех или иных этнических групп мигрантов следует постоянно помнить, что этнос в своем естественном, природном, культурном, историческом окружении и этнос в чуждых городских условиях — это два разных явления: между ними есть определенная преемственность, но проявляются и совершенно новые отличительные черты; часто условия города порождают новые этические и поведенческие стереотипы, не встречающиеся в естественных условиях этноса или даже жестко порицаемые в них. Эти черты могут быть искажением каких-то предшествующих установок, а могут быть и некорректным, вырванным из контекста заимствованием у коренного населения. В других случаях на формирование одной этнической диаспоры может влиять другая, весьма далекая от нее в условиях естественного исторического проживания этносов.
Китайцы: ассимиляция, миграция, интеграция
Все рассмотренные выше случаи относятся к тем этносам, которые в разные периоды были составной частью единого российского, а позже советского общества, а следовательно, сохранили определенные традиции совместного проживания и элементарные основы русской (советской) культуры. Это является важным социокультурным фактором, обуславливающим траекторию этнических миграций даже в том случае, если они вызваны исключительно экономическими или демографическими причинами. Выбор России в качестве цели миграции определяется не только уровнем ее экономического развития, но и наличием исторических связей.
Совершенно иным является характер миграции из стран дальнего зарубежья, и в первую очередь из Китая. Китай совершенно самостоятельная страна с уникальным обществом и древнейшим традиционным народом. Китайская идентичность чрезвычайно сильна и отличается тем, что в ней этническое начало напрямую сопряжено с народным (в смысле лаоса), культурным и государственным, образуя неразрывную связь. В Китае есть несколько не до конца ассимилированных этнических групп — тибетцы, монголы, уйгуры в Синьцзяне, а кроме того, среди самих китайцев сохранились различные этнические подгруппы, существенно различающиеся даже с точки зрения языка (на юге и на севере Китая одни и те же иероглифы часто озвучиваются совершенно по-разному). Китайская идентичность настолько сильна, что она вполне может сохраняться неизменной даже вне контекста самого Китая. Прекрасно адаптируясь к самым разным этническим и культурным средам, китайцы сохраняют структуру своего народа неизменной и постоянной в течение многих поколений, тогда как большинство этносов, помещенных в интенсивное поле превосходящего доминирующего этноса, быстро теряют идентичность. В городских условиях на это обычно уходит три поколения. Китайцы умудряются оставаться китайцами в чужих городах в течение десятков поколений.
Поэтому китайская миграция на российскую территорию представляет собой проблему, намного более серьезную и долгосрочную, нежели миграция из зоны Северного Кавказа или стран СНГ. В отличие от кавказцев и среднеазиатов китайцы никогда не были частью единого культурного поля, а их социальная идентичность чрезвычайно сильна. Китайское общество легко ассимилировало многочисленные волны кочевников, которые завоевывали Китай, подчиняли его себе, становились правящей элитой, но в течение трех поколений от них не оставалось даже воспоминания, все превращались в китайцев либо вообще бесследно исчезали.
Мягкость и адаптивность китайцев в принятии социальных нормативов тех обществ, в которых они живут, не должно вводить в заблуждение. Это не податливость к аккультурации, но особое свойство китайской идентичности, которая наделяет позитивным качеством не жесткость, но гибкость, не напористость, но терпение, не агрессивность, но мягкое и растянутое во времени переваривание. Конечно, отдельные китайцы и китаянки вполне могут стать полноценными ассимилированными членами других этнических групп, народов и наций. Но чаще всего они сохраняют свой собственный социокультурный стиль, остающийся неизменным в течение веков, где бы и среди кого бы китайцы ни жили. Если в условиях мегаполисов это чревато лишь созданием этнических китайских кварталов, что само по себе еще не является фактором риска, учитывая гибкость и адаптивность социальных стратегий китайцев, то в компактном заселении китайцами сельских местностей Южной и Восточной Сибири и Дальнего Востока может таиться серьезная угроза проникновения на территорию России влияния китайского государства, что рано или поздно может вылиться в попытки отчуждения этих территорий от России и прокитайском ирредентизме.
Демографический рост составляет для самого Китая большую проблему, что привело к искусственному ограничению рождаемости в Китае, который страдает от перенаселения. В России таких ограничений нет, и китайцы, поселившись в Россию, могут освободиться от контроля над рождаемостью, вернувшись к естественному развитию демографических тенденций. В целом идентичность китайского общества такова, что способствует расширенному воспроизводству в любых условиях (кроме прямого правового запрета на то, чтобы иметь больше двух детей в семье). Поэтому рождаемость китайцев, особенно из бедных слоев и выходцев из континентальных сельских районов Западного Китая, в условиях иммиграции в Россию можно уподобить разжатой пружине.
§ 7. Межэтнические браки
Межэтнические браки и их классификация
Процессы этномиграции и особенности этнической демографии подводят к проблеме межэтнических браков. Брак между гражданами различных государств квалифицируется как межнациональный брак и является особой юридической процедурой, связанной с получением гражданства одним из его участников.
В этом смысле и в наше время (как и в условиях сословного общества) возможно применить в относительном смысле критерии «гипогамии» и «гипергамии». Если ранжировать страны по уровню экономического развития, уровню социальных гарантий, комфорта, безопасности, технической оснащенности и т. д., то вполне можно выделить страны первой, второй и третьей категории. Европа и Северная Америка, а также Япония относятся к странам первой категории. Россия, Индия, Китай, Бразилия, а также ряд развитых и богатых азиатских и латиноамериканских стран могут быть отнесены ко второй категории. Все остальные — к третьей. Соответственно, межнациональные браки вполне можно распределить по этой шкале. «Гипергамией» будет тот брак, в котором один из партнеров получает гражданство страны более высокой категории. «Гипогамией» будет случай принятие партнером гражданства менее престижной страны.
В случае межэтнических браков, когда речь идет о бракосочетании представителей одной и той же страны, правовых норм не существует, и тот факт, что брак является межэтническим, можно определить только на основании этносоциологического наблюдения или эксплицитной самоидентификации самих лиц, вступающих в брак. В этом случае определить признаки «гипогамии» и «гипергамии» сложнее. Чаще всего здесь важную роль играет гендерный признак. Для мужчин и женщин, если они относятся к этническим меньшинствам, брак с представителями этноса, который является ядром главного народа или нации, будет «гипергамией». При этом для мужчины из ядерного этноса женитьба на женщине, относящейся к этническому меньшинству, никак не влияет на его статус, а в случае женщины — влияет, и может расцениваться как «гипогамия».
Чем более общество является гражданским и урбанизированным, тем менее отчетливым становится различие между «гипогамией» и «гипергамией», а межэтнический характер брака утрачивает какой бы то ни было иерархический смысл.
В царской России к признаку принадлежности к ядерному этносу служило еще и вероисповедание, и православие было признаком наиболее полноценного социального статуса. В советское время был провозглашен принцип интернационализма, и межэтнические браки поощрялись как признаки «подлинного интернационализма». При этом на бытовом уровне определенная иерархизация сохранялась, и брак представителей этнических меньшинств с русскими считался престижным для этих меньшинств.
В современной России номинально сохраняется советский подход в сочетании с либерально-демократическими нормативами «толерантности» и этнической индифферентности западных обществ. Но на практике иерархизация межэтнических браков сохраняется, и если этнический мигрант женится или выходит замуж за представителя коренного населения, это также считается «гипергамией». При этом если речь идет о женщине, относящейся к этническому меньшинству, то для ее мужа признаки «гипогамии» отсутствуют.
При этом, чем выше уровень образования, социально-экономический статус и социальный престиж вступающих в брак, тем меньшее значение имеет их этническая идентичность.
Межэтнический брак и этносоциализация
В случае межэтнического брака часто встает вопрос об этнической идентичности одного из супругов, а также о выяснении этнической идентичности совместных детей. В большинстве случаев в традиционном обществе действует правило принятия женой этнической (и конфессиональной, если она различается) принадлежности мужа. В этом случае брак начинает выполнять функции этносоциализации. Язык, употребляемой в семейной жизни, обычаи, поведенческие паттерны, обряды, культурные архетипы строятся на основе этноса мужа, к которому обычно относят и потомство. Этнос жены (матери) стирается, отходит на второй план. Именно такая модель этнической идентичности до сих пор является самой распространенной и привычной. В этом сказывается историческая инерция. В современном российском обществе большинство этнически смешанных семей по умолчанию и часто без специального решения или договора принимают и на практике воплощают этот принцип.
Гораздо реже и, как правило, в случае отчетливо выраженной «гипергамии» со стороны мужчины, относящегося к этническому меньшинству, происходит обратное: преобладающим языком семьи становится язык жены, и дети воспитываются в духе этой этнической идентичности. Если первый случай является общим и почти «само собой разумеющимся», то второй представляет собой исключение и довольно редок. Он встречается тогда, когда для всех участников брака очевидны те преимущества, которые семья и потомство могут получить от ассимиляции этнической принадлежности жены (матери).
Еще одним случаем является сохранение этнической идентичности каждого из супругов. Чаще всего воспитание детей в таких семьях является билингвистическим и бикультурным. Это бывает в тех случаях, когда каждый из супругов по тем или иным причинам осознанно придает своей собственной идентичности ценность, не хочет с ней расставаться и, напротив, заинтересован в ее сохранении, упрочении и трансляции детям. Статистика показывает, что такая модель межэтнических браков не является менее стабильной, как это можно было бы предположить, и количество разводов здесь приблизительно такое же, как и в случае принятием одним из супругов этнической идентичности другого. Это обстоятельство имеет прообраз и в архаических обществах с подчеркнутой матриархальной, матрилинейной или матрилокальной структурой, где на ином уровне, на уровне клана, принадлежность жены и мужа к разным обществам акцентируется с помощью целого ряда социальных инструментов. Правда, здесь приписывание потомства происходит строго к одному из родов. Впрочем, бикультурность до определенной степени может встречаться и в этом случае.
Учитывая предыдущее замечание, можно сделать предположение, что сохранение этнической идентичности каждого из супругов будет иметь место в том случае, если один из них относится к этносу, в котором до сих пор сохранились признаки матрилинейности. Таковы в России адыгские и черкесские этносы, а также осетины.
Еще один случай межэтнических браков представляет собой ситуацию, в которой этническая принадлежность ни для одного из супругов не имеет никакого ценностного значения, и этнический стиль семьи складывается на основании обезличенной гражданской культуры. Такие браки были весьма распространены в советское время, когда стирание этнической принадлежности было официальной идеологической и политической установкой. Язык в таком случае рассматривался как условный инструмент общения, «идиом», а вместо передаваемой по наследству этнической культуры выступали клише, напрямую транслируемые властью и политическими инстанциями. Именно такой, оторванной от этнических корней, и должна была бы быть «образцовая коммунистическая семья».
Приблизительно такой же должна быть и «образцовая либеральная семья» в современном гражданском обществе, где этническая принадлежность супругов вообще не имеет значения, а воспитание детей можно вести на каком-то постороннем языке — например, на английском, являющимся чужим и для отца, и для матери. Владение английским улучшит стартовые возможности молодого человека в глобальном обществе, тогда как привязанность к этнической культуре и ограниченность родной речью, напротив, станет конкурентным недостатком и слабостью.
Все перечисленные варианты межэтнических браков встречаются в современной России. При этом статистически преобладает первый, традиционный, тогда как нормативным считается последний, космополитический.
Глава 19
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ГЛОБАЛИЗМ И ПОСТОБЩЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
§ 1. От российской нации к гражданскому обществу
Контемпоральный российский археомодерн: попытка обойти национализм
Одно из принципиальных противоречий современного российского общества состоит в том, что его нормативное описание в правовом пространстве и его репрезентация на уровне самосознания элит качественно отличаются от реального положения дел. Эти зазоры и расхождения и составляют сущность такого явления, как археомодерн. Мы видели проявления археомодерна на разных этапах русской истории — реформы Петра Первого, натяжки в определении экономико-политической формации у ранних большевиков, насильственная подгонка под марксистские догматы в советское время. В контемпоральной России мы имеем дело с очередным изданием археомодерна. С этносоциологической точки зрения его специфика в данном случае заключается в том, что общество, находящееся в состоянии (возможного, но не обязательного) перехода от народа к нации, описывается в терминах гражданского общества с искусственным акцентированием ускоренной интеграции в глобальную систему и элементами постмодерна. Снова репрезентации элит опережают реальное положение дел, создавая очередные парадоксы, несходимости и противоречия.
Если настаивать на модернизации контемпорального российского общества (как оно есть), то естественным логическим этапом должен быть буржуазный национализм, создание широкого среднего городского класса и формирование «российской нации» как второй производной от этноса. Но формирование нации предполагает разработку искусственной и отчетливой коллективной идентичности, экономический эгоизм, жесткую конкуренцию с другими соседними нациями за экономические, энергетические и иные интересы, борьба за колонии (не обязательно в прямом смысле, можно говорить об экономической колонизации или о размещении военных баз за пределами национальной территории). Такая модернизация должна была бы основываться на консолидации интересов и политических целей национальной буржуазии, выработке капиталистической элитой рациональной политической стратегии, а особенности российских исторических, социальных и психологических традиций требуют добавить к этому жесткую властную централистскую инстанцию авторитарного типа. Только с помощью планомерного проведения глубоких политических и социальных реформ в националистическом духе сверху можно осуществить фазовый переход к российской нации, условия для которого (в первую очередь, благодаря советским насильственным шагам по урбанизации, индустриализации и модернизации общества) частично назрели. Точно так же, как нельзя построить социалистическое общество, минуя стадию полноценного капитализма, а сам этот капитализм не будет самим собой без полноценного феодализма, так и перейти к гражданскому обществу, минуя фазу буржуазного национализма, невозможно. Попытка игнорировать этот логически необходимый этап может привести только к очередным непредсказуемым последствиям.
Вместе с тем контемпоральная политическая элита России категорически исключает фазу национализма и либо считает, что этот этап уже пройден или вообще не необходим, либо стремится его форсировать и уже в сегодня строить «гражданскую нацию» сразу как «гражданское общество», жестко блокируя в самом основании любые проявления национализма. Само понятие «нация» у тех, кому оно логически должно инструментально служить, вызывает глубокое отторжение, и если оно хоть как-то принимается, то в искусственном «асептизированном», «пастеризованном» виде. Попытка стремительно создать «нацию» без национализма, чтобы немедленно перейти к третьей производной от этноса — гражданскому обществу — составляет сущность стратегии российских политических элит 1990-х и 2000-х гг. С точки зрения конструктивистского подхода к этносоциологии (Э. Геллнер, Б. Андерсон) этого-то как раз сделать невозможно, т. к. искусственный и прагматический характер «нации» требует специфических усилий по навязыванию общности, находящейся в стадии развития городского капитализма, новой и интенсивной коллективной идентичности. Единственным способом навязать эту идентичность является «национализм» в собственном смысле этого слова. Попытка уклониться от этого тормозит фазовый переход в сторону гражданского общества, блокирует его модернизацию.
Гражданское общество как виртуальная репрезентация
В 90-е гг. ХХ в., после краха СССР и марксистской идеологии, вновь созданное на месте Российской Советской Федеративной Социалистической Республики новое государство — Российская Федерация (Россия) — основывало свою политическую систему на прямом копировании контемпоральных западных обществ. Это сказалось на тексте Конституции, экономической рыночной модели, структуре законодательства, парламентской демократии, республиканской системе права, наборе нормативных ценностей и т. д. Нормативная структура российского общества брала за основу не те социальные, правовые, ценностные и политические формы, которые были присущи западным обществам в первый период становления капитализма, но те, которые сложились в ходе многовекового последовательного развития европейских обществ по линии перехода от народа к нации и от нации к гражданскому обществу. Каждый из этих этапов — от первой производной от этноса ко второй и от второй к третьей — занимал длительные промежутки времени, в ходе которых происходила постепенная трансформация общества, менялись социальные структуры, ценностные системы, развивались политические технологии, появлялись новые экономические, промышленные и технологические формы и методики, эволюционировала наука. Эти процессы проходили на Западе не однонаправленно, периодически возникали реверсивные тенденции. Ярчайшим примером качественной реверсивности уже в ХХ в. на пике модернизации европейских обществ стал европейский фашизм и национал-социализм. Победа над ним европейских демократий стала переломным моментом очищения либерально-демократических режимов от эксцессов буржуазного национализма и была осмыслена как точка перехода к гражданскому обществу. Однако прежде чем сложились первые политические воплощения гражданского общества в форме Евросоюза, прошло еще около пятидесяти лет со времени разгрома стран Оси и Нюрнбергского процесса.
Россия после распада СССР спроецировала на весьма специфическое постсоветское общество готовые нормативы контемпорального западного общества, в котором в этот период (который длится и в настоящее время) завершался переход от нации к гражданскому обществу. Имела место разсинхронизация: России только предстояло создавать буржуазную нацию на обломках «советского народа», а на Западе заканчивали с последними остатками «национальной идентичности» и выкорчевывали национализм. В этот момент можно было пойти разными путями, но российские элиты выбрали путь прямого воспроизводства контемпоральной западной модели. Так, Россия номинально провозгласила себя либерально-демократической рыночной страной, в которой полным ходом идет строительство «гражданского общества». Разница с западными странами состояла в том, что гражданское общество строилось там на основании нации (вторая производная от этноса), а в России на основании народа (первая производная от этноса). Фаза нации выпадала. Нормативная репрезентация входила (в очередной раз) в конфликт с реальным положением дел в обществе.
Гражданское общество в современной России, таким образом, стало виртуальной, автономной репрезентацией, представляющей не социологическое содержание, но самореферентный знак. В этой ситуации любое соотнесение декларируемого положения дел с реальным непременно приводило к сбою, к зазору, к несоответствиям, которые не могли быть исправлены с помощью технических средств. Это порождало в политической элите увлечение политическими технологиями и созданием чисто виртуальной социологии, которая вообще отказывалась от изучения общества и подменяла его изучением автономной репрезентации.
Кульминации эти противоречия достигали в ситуации вооруженных конфликтов. В отношении ичкерийского сепаратизма Москва вела себя как национальное государство, озабоченное собственными интересами, но эксплуатирующее технически ценности единства, свойственные народу в целом. Подавление режима Дудаева и Масхадова было чистым проявлением «российского национализма». Но власть отказывалась называть вещи свои именами и пыталась всячески преподнести этот конфликт как противостояние цивилизованного гражданского общества (сама Россия) и «архаических», «средневековых», «фанатичных», «националистических» бандформирований. На самом деле это был конфликт двух типов национализма — большого (общероссийского, интеграционистского) и малого (ичкерийского, сепаратистского).
Целый ряд наиболее либеральных политических сил и масс-медийных кругов в России 1990-х заметил это противоречие и выступил против «российского национализма» — вплоть до морального оправдания и прямой «правозащитной» поддержки чеченского сепаратизма. Они были последовательны, т. к. настаивали на приведении в соответствие номинальных нормативов либеральной демократии с соответствующей политической практикой. Но никакой массовой поддержки такая позиция не получила и не могла получить, т. к. российское общество все еще оставалось народом и только формирующейся нацией, а к либерально-демократическим ценностям и принципам гражданского общества всерьез относилась только чрезвычайно узкая вестернизированная «правозащитная» прослойка.
Гражданское общество в России 90-х гг. ХХ в. и в 2000-е гг. вплоть до настоящего времени является лишь номинальной репрезентацией, которую всерьез воспринимают лишь очень ограниченные и малочисленные социальные круги — ультралибералы, западники, представители оппозиционных политических движений, кружков и правозащитных организаций. Большая часть политических элит вполне адаптировалась к существующему положению вещей и удовлетворяется тем, что реально существующий зазор покрывается политическими технологиями и репрезентационными стратегиями. Все понимают, что гражданского общества в России нет, но делают вид, что оно есть или, по меньшей мере, вот-вот будет.
Гражданское общество в период президентства В. Путина
К моменту избрания президентом Владимира Путина в 2000 г. противоречия между российским обществом и его репрезентацией достигли своего апогея. Националистические тенденции в Ичкерии вышли за пределы Чечни и в форме исламского экстремизма перекинулись на Дагестан и другие зоны Северного Кавказа. Попытки совместить нормативы гражданского общества и «российский национализм» ни к чему не приводили и не могли привести. В этот момент политическим элитам надо было принимать ответственное решение: либо признать реальное положение дел и всерьез включиться в строительство «российской нации», либо продолжать следовать за репрезентацией и настаивать на гражданском обществе контемпорального западного образца. Во втором случае предполагалось признание независимости Ичкерии и постепенный уход с Северного Кавказа с дальнейшей перспективой выхода из состава России других республик.
Путин склонился в пользу сохранения территориальной целостности России, выбрал «российский национализм», т. е. курс, в основе которого высшей ценностью является единство государства. На практике это вылилось в прекращение колебаний относительно мятежной Ичкерии, в жесткое военное подавление сепаратистов и успешную и решительную вторую чеченскую кампанию. Между единством России и правозащитными нормативами гражданского общества (с позиции которых граждан, не желающих жить в данном государстве, следовало бы отпустить на все четыре стороны, как Ленин сделал со странами Балтии, а Ельцин — со странами СНГ) Путин сделал выбор в пользу единства.
Основные реформы периода правления Путина укладываются в эту модель. Власть (для себя) признала факт того, что в стране и отдаленно не сложились условия для создания гражданского общества и принялась строить на основании российского народа «российскую нацию». Для этого:
– были введены Федеральные округа (ликвидация претензий на суверенитет Республик);
– изменена медийная политика в сторону большего патриотизма;
– ослаблены наиболее радикальные прозападные либеральные политические партии (СПС, Яблоко), точнее, была отозвана их чрезвычайная административная и медийная поддержка со стороны власти, которая им оказывалась при Ельцине);
– реформирован Совет Федерации в сторону сокращения влияния губернаторов и глав субъектов Федераций;
– укреплена властная вертикаль;
– после Беслана отменена выборность губернаторов и президентов;
– на первые позиции выдвинулась централистская партия «Единая Россия».
Путин стал проводить политику «умеренного просвещенного национализма», что чрезвычайно укрепило его рейтинг (т. к. это соответствовало социальному самосознанию широких масс) и одновременно предопределило критическое отношение со стороны стран Запада и ультралиберальных кругов в самой России.
При Путине началась осторожная и плавная синхронизация между реальным состоянием этносоциологии общества и его официальной репрезентацией.
Если судить с позиций номинальных деклараций общества, это можно было принять за реверсивность по сравнению с 1990-ми гг. На самом деле это было, напротив, движением к модернизации общества и закреплению буржуазных реформ, перевод их на новый, более качественный и глубокий уровень. Принимая реальное положение дел, Путин пытался трансформировать Россию в сторону третьей производной от этноса, т. е. в гражданское общество. Но на этом пути необходимо было создать «российскую нацию» как вторую производную от этноса и первую от народа, чтобы позднее на ее основании и возводить гражданское общество.
Однако к 2008 году этот процесс еще не прошел точки невозврата, не достиг стадии внятной и последовательный национальной стратегии, не получил статуса официально и открыто декларируемого курса. Это скорее подразумевалось и делалось, нежели провозглашалось и осмысливалось. Поэтому структура археомодерна сохранялась, зазор между реальностью и репрезентацией продолжал оставаться весьма существенным, а построение нации шло непоследовательно и фрагментарно, при этом политические элиты тщательно стремились избежать национализма, опасаясь органической консолидации и мобилизации народа (как первой производной от этноса), что могло бы поставить под вопрос саму необходимость буржуазных реформ и перейти в по-настоящему реверсивный процесс возврата к традиционному обществу и традиционному государству.
Отсюда сохранение и даже рост значения политических технологий и модерируемых властью виртуальных процессов в политической жизни. Политические элиты стремились тщательно контролировать процесс «национального строительства», постоянно балансируя между фасадом либерального общества и либеральной демократии, эксплицитно отрицающих нацию и призывающих к преодолению всех форм национализма, и перспективой пробуждения глубинной народной идентичности, которая могла бы не ограничиться умеренным просвещенным «российском национализмом» и стремительно перейти к проекту воссоздания традиционного общества и традиционного государства (империи), для чего существовали (и до сих пор существуют) исторические, социологические и психологические предпосылки. Пространство для маневра оставалось довольно узким, что и стало основной чертой эпохи Путина: в целом общество удовлетворялось таким компромиссом, хотя наиболее идеологизированные его сегменты (убежденные сторонники реального гражданского общества и столь же убежденные сторонники народа и традиционного общества) видели свои надежды и ожидания обманутыми.
Гражданское общество в эпоху президентства Д. Медведева
В период президентства Медведева (2008–2012) противоречие между этносоциологической реальностью и ее репрезентацией вновь обострилось. Политические элиты стали вновь настаивать на том, что в России идет полным ходом строительство гражданского общества, возродились крайний либерализм и западничество, свойственные 90-м гг. ХХ в. Президент Медведев объявил курс на модернизацию в сочетании с дальнейшей демократизацией, что могло означать только скорейшее движение в сторону третьей производной от этноса и сближения с западными странами в вопросах социальных, политических, экономических и ценностных структур. Тематика «российской нации» была снова снята с повестки дня (так, впрочем, и не выйдя на первые позиции даже при Путине). Основной акцент был сделан на развитии институтов гражданского общества. Но эти институты находились в зачаточном состоянии и чаще всего представляли собой филиалы международных западных организаций и фондов, разнообразные НПО, являющимися филиалами зарубежных структур. Чтобы нейтрализовать внешнее влияние, власть стала искусственно создавать российские НПО, призванные предложить альтернативную отечественную версию «гражданского общества», что только усугубило его виртуальный характер, переведя всю тематику из области реального общества в сферу политтехнологий.
§ 2. Глобализация и Россия
Глобальное общество как кульминация гражданского общества
Гражданское общество реализуется в полной мере только тогда, когда оно становится глобальным. В этом состоит его основная характеристика. Строительство гражданского общества происходит синхронно ослаблению государства, размыванию суверенитета и передачи ряда свойств, составляющих основу независимой государственности, наднациональным инстанциям. Примером таких инстанций может служить Страсбургский суд или Гаагский трибунал. В более реализованной стадии гражданское общество создает новые надгосударственные структуры — такие, как Еврокомиссия, Европарламент и даже пост Президента Европейского Союза.
Гражданское общество зарождается в нации, но постепенно тяготеет к тому, чтобы преодолеть ее границы, ослабить национальную коллективную идентичность и перейти к глобальному обществу по ту сторону наций и при постепенном отмирании национальных государств. Движение по этому пути призвано шаг за шагом подвергать критике национально-государственные институты и эффективность их функционирования, дискредитировать государство как чрезмерный и консервативный аппарат, «препятствующий свободному развитию индивидуумов и добровольно конституируемых индивидуумами временных групп».
Феномен глобализации поэтому относится к последней стадии становления гражданского общества и логически завершает процесс преодоления национальных государств и формирования новой идентичности, основанной исключительно на индивидуальной основе. Глобализация ставит своей целью создать возможность свободной коммуникации между индивидуумами независимо от их национальной принадлежности, местонахождения, гражданства, этничности, принадлежности к тому или иному типу общества. Технологическая инфраструктура глобализации — сети, планетарные СМИ, экономические и финансовые системы, технические средства и т. д. — призвана создать базис для возникновения наднациональной социальной структуры. Глобализация осуществляется на основании действительного состояния контемпоральных западных обществ, распространяет свои модели на все остальное человечество.
Парадоксы глобализации применительно к контемпоральному российскому обществу
Российское общество находится в совершенно иных этносоциологических условиях. Здесь гражданское общество вообще отсутствует, т. к. еще не построено полноценной «российской нации», а элементы гражданского общества носят либо импортный, либо виртуальный характер. Поэтому никаких внутренних условий для глобализации в России нет даже в отдаленной перспективе. В такой ситуации глобализация становится внешним феноменом, т. е. процессом, который воздействует на современное российское (археомодернистическое) общество извне.
Глобализация организована таким образом, что не ставит перед собой задачи подождать, пока все общества мира «созреют» до интеграции в единое гражданское планетарное общество, построенное на основании идеологии прав человека и индивидуальной идентификации (идиотес). В этом отношении Запад действует по привычному колониальному сценарию, неоднократно реализованному на прежних этапах истории: технологические, культурные, политические, социальные и экономические парадигмы распространяются носителями западной цивилизации на все человечество, невзирая на то, готово ли оно к принятию таких моделей или нет. Поэтому глобализация распространяется на все пространство, выдавая себя за «объективный» феномен, тогда как на самом деле мы имеем дело с экстраполяцией на весь мир того этносоциологического процесса, который подошел к глобальной стадии лишь в западных обществах, развивавшихся по присущей только им логике.
Россия в такой ситуации оказывается в двусмысленном положении. Не будучи еще даже буржуазной нацией, она вынуждена входить во взаимодействие с глобальными институтами, сетями, протоколами, экономическими системами, правовыми установками, идеологическими импликациями, относящимися к совершенно другому социологическому циклу. При этом номинальный статус «гражданского общества», на котором настаивают правящие элиты, не составляет возможности отнестись к глобализации избирательно (как современный реформированный Китай, сохраняющий, тем не менее, оригинальную политико-идеологическую систему) или просто отвергнуть ее (как поступают религиозные исламские режимы, например, Иран, или коммунистические страны, например, Северная Корея). Чем более Россия выдает себя за «европейскую демократическую страну», тем более она берет на себя обязательств по внедрению во внутреннюю и внешнюю политику глобалистских установок, а следовательно, признает необходимость десуверенизации, денационализации, ослабления государственного контроля за экономической, политической и культурной жизнью общества. Если признать то, что буржуазная демократия в России реальна, а не виртуальна, это автоматически означает, что она логически должна активно включаться в глобализацию, открывая доступ глобальной инфраструктуре, сетям и технологиям, и вместе с тем, параллельно этому, передавая часть национально-административных полномочий внешним международным инстанциям.
Но насущные задачи российского общества требуют прямо противоположного подхода: чтобы сформировать российскую нацию, необходимо акцентировать ее отличие от других наций, т. е. совершить радикально иное действие, чем то, которое подразумевается глобализацией. Глобализации противоречит не только актуальное состояние российского общества, все еще являющегося народом, но и логика проведения последовательных буржуазных и либеральных реформ. Если принять виртуальную демократию за реальную и активно вступить в процесс глобализации, то российское общество будет обречено на фрагментацию, разложение и растворение. Часть этнических регионов обязательно трансформируется в нации и отделится от России. Само же российское общество окажется объектом внешнего управления, т. к. для того, чтобы играть самостоятельную роль в глобализационных процессах, оно должно находиться в совершенно ином состоянии.
Глобализм и российская олигархия: глобалистский класс
Неравномерность буржуазных реформ в 90-е гг. ХХ в. привела к тому, что часть политической и экономической элиты России оказалась наделенной диспропорциональным богатством и властью по сравнению с остальным населением. Это привело к явлению олигархии, т. е. стремительного появления могущественной социальной группы, сосредоточившей в своих руках экономический потенциал, медиаресурсы и отчасти политическую власть. Эта группа олигархов обязана своим положением проведению либеральной шоковой терапии и ускоренному строительству в России гражданского общества, виртуального по степени своего проникновения в глубину, но реально действующего на уровне правовых нормативов и политических репрезентаций. Эта группа была заинтересована в том, чтобы поддерживать сложившееся положение вещей и в дальнейшем настаивала на том, что Россия уже есть «полноценная европейская либерально-демократическая страна, активно строящая гражданское общество».
По своему образу жизни, формам ведения бизнеса и операциям с финансовыми технологиями олигархи и приближенные к ним круги экономической, медийной и политической обслуги в той или иной степени интегрировались в мировой правящий класс и могли себя почувствовать членами глобальной, а не только российской, политической элиты. Это подкреплялось участием в зарубежных инвестиционных проектах, коммерческих предприятиях, космополитическим стилем времяпрепровождения, освоением новых сетевых технологий в бизнесе и т. д. В результате они стали представителями не российской экономической и политической элиты, но носителями глобализма и глобалистских ценностей, для которых сама Россия и российское общество представляли собой не более чем досадное обременение, сдерживающие развитие бизнеса, новых технологий, процессы модернизации и глобализации. Для этой группы ни возможный распад России, ни ее десуверенизация, ни ее ликвидация как самостоятельного национального образования теоретически не составляли бы никакой проблемы, т. к. они в полной мере впитали в себя нормативы индивидуальной идентичности, космополитизма и либеральной идеологии, приложение которых на практике привело их лично к материальному и социальному успеху. Так постепенно российские олигархи стали основой особого «глобалистского класса», с самостоятельной программой и специфическим образом будущего, построенным на основе глобального гражданского общества.
Вокруг этого ядра сложилась определенная социальная субкультура, состоящая из людей искусства, журналистов, а также определенных кругов молодежи, воспитанной на глобальных сетях и мировых тенденциях в моде, технологии, культуре и т. д. Эта субкультура состояла из абсолютного меньшинства членов общества, но меньшинства влиятельного и активного, способного осознавать свои интересы и влиять на общество. Так как само общество продолжало жить в совершенно иных этносоциологических условиях, «глобалистский класс» инвестировал свои усилия и средства не столько в то, чтобы его изменить, сколько в то, чтобы укрепить имиджевую репрезентацию, поддержать видимость модернизации, прогресса, развития и совершенствования, хотя бы на виртуальном уровне. Отчасти задачи этого «глобалистского класса» и остальной части политической элиты России совпадали: их объединяла потребность в сохранении и трансляции виртуального образа России как буржуазно-демократического общества. Но в отношении к формам осуществления власти российские глобалисты существенно расходились с большинством элиты. В глобальную (в первую очередь, западную) элиту удалось интегрироваться далеко не всем, и далеко не все крупные экономические магнаты, а тем более высокопоставленные властные чиновники, смогли легко освоить правила ведения бизнеса и коды поведения в контемпоральной западной среде. У большинства и капитал, и власть имели привязку к конкретному национальному контексту, который они не могли не учитывать. Это большинство также было заинтересовано в укреплении либерально-демократического фасада общества, но перспектива введения в стране внешнего управления или ее распада означала бы для них утрату собственных позиций. Так российская политическая элита разделилась на два лагеря: глобалистский и «национальный».
В 90-е гг. ХХ в. в российской элите преобладало влияние глобалистского класса. В эпоху президентства Путина инициатива перешла в руки второй половины — «национальной» политической элиты. С этим были связаны эмиграция предводителей «глобалистской» олигархии Б. Березовского, В. Гусинского, Б. Невзлина, уголовные преследования М. Ходорковского, П. Лебедева и т. д. В этот период установка на ускоренную глобализацию затормаживается.
В период правления президента Медведева эти тенденции вновь оживают, и круги, подталкивающие Россию к скорейшей интеграции в глобальное гражданское общество, вновь получают право голоса.
§ 3. Постобщество
Элементы постобщества
Элементы постобщества или социальные структуры постмодерна даже в западном обществе представляют собой лишь отдельные тенденции, далекие от того, чтобы предопределять социальную структуру. Западное общество находится в состоянии перехода от гражданского общества к его законченной форме — обществу глобальному, а взгляд в постмодерн, т. е. в то, что логически должно прийти на смену глобальному обществу (основанному на либеральной идеологии и соответствующей парадигме), представляет собой авангардные интуиции возможного или вероятного будущего. Чаще всего это проявляется на уровне культуры, искусства, архитектуры, философских и социологических конструкций и концептов, хотя зона применения постмодернистских сценариев постоянно расширяется.
Постобщество мыслится в теории как продление тенденций освобождения от всех форм коллективной идентичности до последнего логического предела, когда индивидуальная идентичность (идиотес) сама осознается как нечто составное и «делимое». На признании этой делимости индивидуума и строится основная постсоциальная конструкция, предполагающая появление постлюдей — киборгов, мутантов, клонов и т. д.
В современном российском обществе, как это ни странно, интерес к постмодерну в целом не меньше, чем в западных странах, Европе, США, Японии и т. д. Об этом свидетельствует область современной российской литературы, живописи, поэзии, архитектуры, а также сфера СМИ и даже политических технологий. Виртуализация мира, превращение реальности в постреальность, расчленение и причудливое соединение заново разнообразных социальных, философских, антропологических, политических и художественных фигур воспринимается россиянами (прежде всего городской молодежью) довольно легко и не встречает системного сопротивления, которое мы видим, к примеру, в исламских странах, или полного непонимания, с каким постмодерн сталкивается в Индии, Китае и т. д. Российская молодежь прекрасно воспринимает фильмы Тарантино, увлекается отечественными постмодернистами (В. Пелевин, В. Сорокин и т. д.), посещает театры и художественные выставки, полностью построенные на принципах постчеловеческого дробления, рассеивания и причудливых противоестественных рекомбинаций. Россияне легко адаптируются к сетевым принципам организации общества, легко осваивают интернет, уютно чувствуют себя в разлагающихся социальных структурах. Средства массовой информации, и особенно российское телевидение, наполнены постмодернистскими сюжетами, в которых перверсии, маргинализм, экстремальная жестокость и патология перемежаются с черным юмором, нарочитым абсурдом и отсутствием логических связей. Приблизительно в том же ключе выстроен и политический процесс, в котором население спокойно может голосовать за программу, которую не просто никто не читал, но которой вообще не существует, или выбирать политиков среди актеров, боксеров, фигуристов и шансонье. Семантические сдвиги, противоречия в самых элементарных построениях фраз, полное расхождение речей и поступков, гротескные заголовки таблоидов, в которых непременно сочетается патология и ужас с легкостью и искусственно приподнятым настроением, пронизанность всей культуры, включая политику, скепсисом и черной иронией, являясь отличительной чертой разочаровавшейся в «человеке» постмодернистской культуры, весьма присуща современному российскому обществу. В некоторых вопросах может даже сложиться впечатление, что российское общество в этом смысле не просто следует за Западом, но уже обогнало его по степени диссолюции нравов, разложения социальных и смысловых структур, уровню бессмыслицы и противоестественных развлечений.
Является ли российский постмодерн постмодерном?
Возникает вопрос: несмотря на явное сходство социологических парадигм, имеем ли мы дело с постмодерном или с каким-то иным явлением? Логика постобщества основана на векторе постоянного расчленения естественной для этноса коллективной идентичности и усложнения социальных систем через их нарастающее дробление и распыление. Народ в процессе своего рождениия разбивает гомеостаз этноса, усложняя общественные структуры. Нация, в свою очередь, расщепляет сословные идентичности и создает новое общество на основе индивидуального гражданства. Гражданское общество ликвидирует искусственную форму национальной коллективной идентичности и ставит во главу углу индивидуума в чистом виде — без какой бы то ни было коллективной принадлежности (вплоть до гендерной). И наконец, постмодерн разлагает самого индивидуума, ставя на его место постчеловеческий конструкт.
Западное общество прошло почти все эти фазы, завершает глобализацию и заглядывает в постмодернистское будущее, которое для него не за горами.
Но при чем здесь российское общество? В России пока и нации-то толком не сформировалось, не говоря уже о гражданском обществе, а идентичность народа еще не до конца разделена на отдельные рациональные гражданские единицы (индивидуумы). Обществу в целом культура постмодерна совершенно чужда, но глобалистскому классу и его культурному окружению, напротив, она может быть вполне доступна. Более того, если вспомнить о том фундаментальном зазоре, который имеется между контемпоральным российским обществом и его официальной репрезентацией, т. е. об археомодерне, станет понятно, что нарочитый, навязываемый постмодернизм, поощряемый политической элитой, представляет собой единственную возможную сегодня социокультурную стратегию, способную отвлечь внимание от все более накапливающихся противоречий, несоответствий, несходимостей и откровенного абсурда. Типичный для постмодерна социальный дискурс в таких условиях становится политтехнологической стратегией, призванной погрузить социальное сознание в потоки развлекательного бреда и обрывочных замечаний, не складывающихся ни в какую цельную картину. Постмодерн служит в этом случае вполне прагматическим целям: обеспечить анестезию коллективного сознания с тем, чтобы все парадоксы, противоречия и несоответствия остались незамеченными и не стали объектом критического осмысления.
Поэтому следует констатировать, что современный российский постмодернизм имеет утилитарную природу, и, будучи имитацией социального дискурса некоторых западных культурных, философских и социологических сред, в российских условиях выполняет вполне определенную функцию: помогает ретушировать острые противоречия археомодерна.
Российский этнопролетариат и постмодерн
С другой стороны, такая стратегия оказалась бы совершенно неэффективной и вызвала бы только протест и отторжение, если бы в структуре российского общества не было определенных свойств, в той или иной степени созвучных постмодерну и его стилистике. Как это ни парадоксально, но эти свойства напрямую связаны с сохранившимися структурами этнического сознания, которые сохранились нетронутыми, несмотря на долгие века существования в дифференцированном обществе и за последние столетия активной модернизации.
Дело в том, что постмодерн острие своей революционной стратегии обращает против Модерна, Нового времени и его несостоятельности. Постмодернисты считают, что Новое время не справилось с задачей, которую само же и декларировало, и поместило на место откровенных иерархических структур традиционного общества завуалированную, но столь же необоснованную и отчужденную иерархию рационального человеческого индивидуума (с его наукой, философией, политикой и т. д.), заместившего собой Бога (вместе с религией, мистикой, кастами, сословиями и т. д.). Поэтому постмодернисты критикуют рационализм, логос, либеральные принципы личной ответственности и священной частной собственности. По сути, они стремятся преодолеть капитализм (не случайно большинство постмодернистов — выходцы из марксистской среды).
Можно предположить, что именно критичность к капитализму и либерализму, ирония и насмешка над несостоятельностью рациональной культуры и скрыто тоталитарным характером капиталистического общества, и вызывают определенные симпатии современных россиян, интуитивно отвергающих буржуазную систему ценностей — как по инерции советского социалистического цикла, так и исходя из этнических механизмов, противящихся еще не совершившемуся до конца расчленению населения на гражданских индивидуумов. И этнос, и социализм объединяются в феномене этнопролетариата, к которому присоединяется люмпенизированная и маргинализированная в ходе либеральных реформ российская интеллигенция. Этнопролетариат продолжает играть в российском обществе важную конститутивную роль, и нельзя исключить, что именно он ответственен за пассивное принятие постмодерна, в котором он различает критические интонации в адрес буржуазной программы. В современных условиях это отторжение не может организоваться в более консолидированную позицию и солидарно с разрушительными, ироническими и абсурдистскими тенденциями, разлагающими связность и когерентность либерального политического дискурса. Скепсис, насмешка и симпатии к откровенному бреду выражают нежелание этнопролетариата принимать правила классической буржуазной рациональности, стремление растворить их в нечленораздельной бессмыслице и тем самым от них освободиться.
Преимущественным полем постмодернистских тенденций стал российский интернет, представляющий собой среду, в которой они представлены ярче всего (особенно в блогах).
Три источника российского постмодерна
Постмодерн и, соответственно, элементы постобщества, таким образом, имеют три различных и разнородных источника:
1) они представляют собой постглобалистское игровое самосознание космополитической олигархии и их социальной обслуги;
2) они используются политической властью для того, чтобы отвести внимание от несоответствий реальному положению дел в обществе и его официальной репрезентации (археомодерн);
3) они интуитивно поддерживаются массами (этнопролетариатом) в субверсивных целях саботажа буржуазных реформ и либерально-индивидуалистических стратегий.
Все три значения российского постмодерна имеют качественные отличия. Олигархи чаще всего способны воспроизвести основную последовательность социологических операций, составляющих основу постмодерна или, по меньшей мере, интуитивно догадываются о ней; политическая власть оценивает только прикладной политтехнологический характер подобных социокультурных стратегий; широкие массы вкладывают в постмодерн свой критический смысл по оборонному разложению рационалистического, индивидуалистического, буржуазного дискурса. В этом последнем случае такая практика отдаленно напоминает «юродство».
|
Структура идентичности |
Антропологический тип в центре |
Тип общества в целом |
|
1. Эксцентрум |
Постчеловек, мутант, Дивидуум |
Постобщество – виртуальное общество – ЖЖ-юзеры |
|
2. Гражданское общество Эгоцентрумов |
Индивид (права человека) |
– глобальное (со)общество |
|
3. [Социализм] |
[Пролетарий] |
[социалистическое общество] |
|
4. Нация (Эгоцентрум в государстве) |
Буржуа (гражданин) |
современное общество |
|
5. Народ (Лаоцентрум) |
Герой (царь, пророк, философ) |
традиционное общество |
|
6. Этнос (этноцентрум) |
Шаман |
община , архаическое общество |
Схема 37. Структуры идентичности, социальной антропологии
и типов общества
Постмодерн и сценарии развития российского общества
Если рассмотреть перспективу модернизации российского общества, т. е. последовательного проведения буржуазных реформ, то постмодерн во всех своих проявлениях должен был бы быть вынесен за скобки. Он никак не способствует привитию гражданского самосознания, разлагает не только национальную идентичность, но и индивидуальную экономическую рациональность либерального общества, релятивизирует правовое сознание, мораль и размывает основы социального порядка. Постчеловеческий ультрадемократизм постобщества совершенно несовместим с теми политическими формами, которые могли бы быть установлены, если придерживаться курса, которым идет российская власть в течение всего постсоветского периода.
Постмодерн не только никак не способствует модернизации, он блокирует — иронией, скепсисом, абсурдом, системными семантическими сдвигами, двусмысленностью и т. д. — любую попытку внедрить в обществе архетип ответственного гражданина. Требование «ультрасвободы» снимает необходимость постепенной и последовательной педагогики в освоении комплекса гражданских свобод. Тот факт, что политическая элита современной России не замечает полную несовместимость внедрения в общество постмодернистских парадигм с формально декларируемыми задачами модернизации, удручает. Речь идет о стратегическом противоречии еще более вызывающем, нежели стремление построить гражданское общество еще до того, как приступили к корректному конструированию гражданской нации.
Постмодерн и постобщество в условиях современной России могут выполнять только социально деструктивную функцию и увеличивать объем социальной аномии.
Если обратиться к более логичному сценарию и предположить, что будет взят более последовательный в нынешних обстоятельствах курс на создание буржуазной российской нации, то в этом случае разрушительный потенциал постмодернистских стратегий — в культуре, политических технологиях и образе жизни — становится еще более опасным. «Воображаемое сообщество» нации требует серьезности при конституировании искусственной коллективной идентификации и при выработке набора ценностей. Постмодерн же требует не только релятивизации существующих ценностных систем, но отказывается вообще иметь дело с ценностями и придавать им какое бы то ни было значение.
Если же рассмотреть самый консервативный вариант и допустить, что российское общество встанет на путь обращения к традиционному обществу и приступит к укреплению структур народа и традиционного государства, то в этом случае любые постмодернистские тенденции должны быть упразднены в жестко принудительном порядке. Но этот сценарий в настоящее время представляется маловероятным.
1 См. Кравченко С.А. Социология: парадигмы и темы. М., 1997.
2 Широкогоров С.М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Шанхай, 1923.
3 Ницше Ф. Генеалогия морали М.: Азбука, 2007.
4 Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гельдерлина. СПб.: Академический Проект, 2003.
5 Кычанов Е.И., Мельниченко Б.Н. История Тибета с древнейших времен до наших дней. М.: Вост. лит., 2005.
6 Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
7 Гумилев Л.Н. Историко-философские труды князя Н.С. Трубецкого (заметки последнего евразийца) // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М.: Прогресс, 1995; Заметки последнего евразийца. Интервью с Л.Н. Гумилевым // Наше наследие. 1991. № 3.
8 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1992.
9 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983.
10 См. гл. 5 настоящего издания.
11 См. гл. 4.
12 Гобино Ж. А. Опыт о неравенстве человеческих рас. М.: Самотека, 2007.
13 Lenz F. Die Rasse als Weltprinzip. Zur Erneuerung der Ethik. Munchen: Lehmann 1933; Bauer Erwin, Fischer Eugen, Lenz Fritz. Grundriss der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene. Munchen: Lehmann, 1921.
14 Сайт организации: http://www. ornl. gov/sci/techresources/Human_Genome/home. shtml (дата обращения 21.08.2010).
15 См. гл. 10, с. 288.
16 Thurnwald R. Die menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologischen Grundlagen, 5 B. Berlin: de Gruyter, 1931–1934.
17 Giddens A. Central problems in social theories. London: macMillan Press, 1979.
18 Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1967.
19 Schutz A. The Phenomenology of the Social World. Evanston: Northwestern University Press, 1967.
20 Mühlmann Wilhelm Emil. Rassen, Ethnien, Kulturen. Neuwied, Berlin: Luchterhand, 1964.
21 Нухаев Х.А. Ведено или Вашингтон? М.: Арктогея-Центр, 2001.
22 Ильясов Л. Культура чеченского народа. М., 2009.
23 Cole D. (ed.) Franz Boas’ Baffin Island Letter-Diary, 1883–1884/ Stocking George W.Jr. Observers Observed. Essays on Ethnographic Fieldwork. Madison: The University of Wisconsin Press, 1983. C. 33.
24 Lefebvre H. La production de l'espace. Paris: Anthropos, 1974. См. также: Дугин А.Г. Геополитика. М.: Академический Проект, 2010.
25 Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск.: Сагуна, 1994
26 Подробнее мы рассмотрим эту тему в разделе о статической структуре этноса, гл. 6.
27 Leenhardt M. Do Kamo la personne et le mythe dans le monde melanesien. P.,1947.
28 Leenhardt M. Do Kamo la personne et le mythe dans le monde melanesien. P.,1947.
29 Ibidem. См. также: Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический Проект, 2010.
30 Гумилев Л.Н, Этногенез и биосфера земли. Указ. соч. Подробнее эта теория будет рассмотрена в главе 5.
31 Lévi-Strauss Claude. Les structures élémentaires de la parenté. Paris: Mouton, 1967.
32 Более подробно, эта тема будет освещена в отдельной главе 9. См. также: Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический Проект. С. 338–344.
33 Cochin Augustin. La Revolution et la Libre-Pensee. Paris: Plon-Nourrit, 1924.
34 См. главу 10.
35 Концепция социологического типа «героев» и «торговцев» предложена немецком социологом Вернером Зомбартом. См.: Зомбарт В. Торгаши и герои // Зомбарт В. Собрание сочинений: В 3 т. Том 2. СПб.: Владимир Даль, 2005.
36 Кант И. К вечному миру //Кант И. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М.: Мысль, 1966.
37 Thurnwald R. Die menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologischen Grundlagen, 5 B. Berlin: de Gruyter, 1931–1934.
38 Липман У. Общественное мнение. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004.
39 Там же.
40 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998.
41 Sumner W. Folkways. Boston: Ginn, 1907.
42 Шихирев П.Н. Современная социальная психология США. М: Наука, 1979. С. 86.
43 Rokeach M. Beliefs, attitudes and values: A theory of organization and change., San Francisco: Josey-Bass, Incorporated, 1972.
44 Lapiere Richard T. Collective Behavior. New York; London: McGraw-Hill Book Co., 1938.
45 Boas F. Race, language, and culture. New York: Macmillan, 1940.
46 Redfield R., Linton R., Herskovits M.J. Memorandum for the Study of Acculturation //American Anthropologist. 1936. Vol. 38, No. 1.
47 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Кондратьев В.С., Сусоколов А.А. Этносоциология: цели, методы, результаты исследования. М., 1984.
48 Eriksen Thomas Hylland. Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. London: Pluto Press, 1993.
49 Shils E. Primordial, personal, sacred and civil ties// The British Journal of Sociology. 1957. Vol. 8. No. 2. June. C. 130–145.
50 Там же. С. 130.
51 Smith Anthony D. Myths and memories of the Nation. Oxford: Oxford University Press, 1999; Idem. Nationalism: Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity, 2001.
52 Geertz Clifford James. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Book, 1973; Idem. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Book, 1983.
53 Spencer Herbert. A system of synthetic philosophy. V. 10. London-Edinburgh: Williams and Norgate, 1862–1896.
54 Spencer Herbert. First Principles of a New System of Philosophy. London: Williams & Norgate, 1862.
55 Darwin Charles. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. London: John Murray, 1859.
56 Широкогоров С.М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Шанхай, 1923.
57 Gobineau Joseph Arthur de. Essai sur l’inégalité des Races humaines. Paris:Pierre Belfond, 1967.
58 Levi-Strauss Claude. Race et histoire. Paris: Gonthier, 1961.
59 Le Bon Gustave. Lois psychologiques de l’évolution des peuples. Paris: Felix Lacan, 1894.
60 Chamberlain H.S. Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. Bd. 1–2. München: Bruckmann, 1899.
61 Vacher de Lapouge Georges. L'Aryen et son rôle social. Paris: Albert Fontemoing, 1899; Idem. Race et milieu social: essais d’anthroposociologie. Paris: M. Rivière, 1909.
62 Grant Madison. The passing of the great race; or, The racial basis of European history. New York: Charles Scribner’s Sons, 1916.
63 Guenther Н. Rasse und Stil: Gedanken uber ihre Beziehungen im Leben und in der Gesitesgeschichte der europeischen Volker. Münich: Lehmann, 1926.
64 Rosenberg Alfred. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit. München: Hoheneichen-Verlag, 1934.
65 Сайт в Интернете: http://www. stanford. edu/group/morrinst/hgdp. html (дата обращения 29.08.2010).
66 См. Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический Проект, 2010.
67 Койне (от греческого «κοινῆ», «целое») — язык, на котором по историческим обстоятельствам говорят два или более этносов.
68 Полиглосса (от греческого «πολλα»,«несколько», «много» и «γλ῀ωσσα», «язык») — многоязычие в рамках одного и того же общества.
69 Gellner Ernest. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell, 1983.
70 Anderson Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1991.
71 Hobsbawm E., Ranger T. O. The Invention of Tradition. Cambridge:University Press, 1983.
72 Smith Anthony D. Myths and memories of the Nation. Op. cit.
73 Smith Anthony. Nationalism: Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity, 2001.
74 Portes Alejandro, Bach Robert L. Latin Journey: Cuban and Mexican Immigrants in the United States. Berkeley: University of California Press, 1985.
75 Cohen R. Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology// Annual Review of Anthropology 1978. №7. C. 379–403.
76 Cornell S., Hartmann D. Ethnicity and Race: Making Identities in a Changing World. Thousand Oaks, CA: Pine Forge, 1998. С. 59.
77 Yang Philip Q. Ethnic Studies: Issues and Approaches. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 2000.
78 Glazer N., Moynihan Daniel P. (ed.) Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1975.
79 Glazer N. Ethnic Dilemmas, 1964–1982 Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.
80 Patterson Orlando. Dependence and Backwardness. Mona, Jamaica: Institute of Social and Economic Research, 1975. С. 348.
81 Archer Margaret Scotford, Tritter Jonathan Q. Rational choice theory: resisting colonization. London and New York: Routledge, 2000.
82 Hechter Michael. Containing Nationalism. Oxford and New York: Oxford University Press, 2000.
83 Noel Donald L. A Theory of the Origin of Ethnic Stratification // Social Problems, 1968. № 16 (2) С. 157–172.
84 Mason D. Race and Ethnicity in Modern Britain. Oxford: Oxford University Press, 1995.
85 Seidner S. S. Ethnicity, Language, and Power from a Psycholinguistic Perspective. Bruxelles: Centre de recherche sur le pluralinguisme, 1982.
86 Barth F. Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture difference. Oslo: Universitetsforlaget, 1969.
87 Breuilly John. Nationalism and the State. New York: St. Martin's Press, 1993.
88 Gumplowicz, Ludwig. Der Rassenkampf. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2007.
89 Herder Johann Gottfried. Ueber die Faеhigkeit zu sprechen und zu horen (1795) // Herder Johann Gottfried. Samtliche Werke. Bd. 18 Berlin: B. Suphan, 1877–1913 C. 384.
90 Теория культурного антрополога Сейпира и физика Уорфа утверждает, что достоверный перевод с одного языка на другой невозможен, т. к. каждый язык формирует уникальную смысловую структуру и кодифицирует сознание и восприятие мира в соответствии со своими особенностями.
91 Herder Johann Gottfried. Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit. Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 1967. С. 559.
92 Ibidem. С. 511.
93 Ibidem. C. 509.
94 Цит. по: Bollenbeck Georg. Eine Geschichte der Kulturkritik. Von Rousseau bis Günther Anders. München: C.H. Beck Verlag, 2007.
95 Herder Johann Gottfried. Briefe zu Beforderung der Humanitat (1793–1797) // Herder Johann Gottfried. Samtliche Werke. Bd. 18. Berlin: B. Suphan, 1877–1913. С. 308.
96 Фихте И.Г. Речи к немецкой нации. Санкт-Петербург: Издательство Наука, 2009.
97 Bahofen J.J. Mutterrecht. Eine Untersuchung uber Gynaikokratie der alten Welt nach ihren religiosen und rectlichen Natur. Stuttgart: Krais und Hoffman, 1861.
98 Bastian A. Der Mensch in der Geschichte. Zur Begrundung einer psychologischen Weltanschauung. 3 Bände. Leipzig: Wigand, 1860.
99 Ратцель Ф. Народоведение: В 2 т. СПб.: «Просвещение», 1902–1903.
100 Ratzel F. Politische Geographie. Munich: Oldenburg,1897.
101 Дугин А.Г. Основы геополитики. М.: Арктогея-Центр, 2000.
102 Дугин А.Г. Социология воображения. Ведение в структурную социологию. М.: Академический Проект, 2010. Он же. Социология русского общества. М.:Академический Проект, 2010.
103 Основы евразийства. М.: Арктогея-центр, 2002.
104 Ratzel F. Anthropogeographie. Stuttgart: J. Engelhorn, 1899.
105 Graebner Fritz. Methode der Ethnologie. Heidelberg: Winter. 1911.
106 Koppers W., Schmidt W. Handbuch der Methode der kulturhistorischen Ethnologie. Miinster, Westfalen: Aschendorff, 1937.
107 Frobenius L. Der Ursprung der afrikanischen Kulturen. Berlin: Verlag von Gebrtider Borntraeger,1898; Idem. Kulturgeschichte Afrikas. Zürich: Phaidon, 1933.
108 Frobenius Leo. Paideuma: Umrisse einer Kultur — und Seelenlehre. München: Beck, 1921–1928.
109 Гумплович Л. Социология и политика. М.: Изд. В. Бонч-Бруевича, 1895.
110 Gumplowich L. Der Rassenkampf. Soziologische Untersuchunge. Innsbruck: Wagner, 1883.
111 Oppenheimer Franz. The State. Its History and Development viewed Sociologically. New York: Free Life Editions,1975.
112 Ratzel F. Anthropogeographie. Stuttgart: J. Engelhorn, 1921.
113 Schmidt W., Koppers W. Volker and Kulturen. Regensburg: Habbel, 1924.
114 Ratzel F. Anthropogeographie. Teil. 1 Grundzuge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte. Stuttgart: J. Engelhorn, 1921. С. 99.
115 Oppenheimer Franz. Der Staat. System der Sociologie. Jena: Gustav Fischer, 1926. C. 277.
116 Rüstow Alexander. Ortbestimmung der Gegenwart. Eine universalgeschichtliche Kulturkritik. 3 Bde. Zurich:Ehrlenbach, 1949–1957.
117 Weber Max. Economy and Society (1922) vol. 2. Berkeley: University of California Press, 1978. С. 389.
118 Weber Max. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der Verstehenden Soziologie. Tübingen: Johannes Winckelmann, 1980. С. 237.
119 Дугин А.Г. Социология воображения. Указ. соч. С. 33–34.
120 Weber M. Rationalisierung und entzauberte Welt. Schriften zu Geschichte und Soziologie. Leipzig: Phillip. Reclam Verlag, 1989; Idem. Wissenschaft als Beruf. München-Leipzig: Duncker & Humblot,1919.
121 Tönnies Ferdinand. Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1888.
122 Зомбарт В. Торгаши и герои // Зомбарт В. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2. СПб.: «Владимир Даль», 2005.
123 Sombart Werner. Deutscher Sozialismus. Charlottenburg: Buchholz & Weisswange, 1934.
124 Lazarus M. Grundzüge der Völkerpsychologie und Kulturwissenschaft. Hamburg: Meiner, 2003.
125 Wundt W. Völkerpsychologie. 10 Bd. Leipzig: Engelmann, 1900–1920.
126 Vierkandt Alfred. Gesellschaftslehre. Hauptprobleme der philosophischen Soziologie. Stuttgart:Enke, 1923.
127 Vierkandt Alfred. Familie, Volk und Staat in ihren gesellschaftlichen Lebensvorgängen: Eine Einführung in die Gesellschaftslehre. Stuttgart:Enke, 1936.
128 Фрейд З. Я и Оно. Хрестоматия по истории психологии. М.: Изд-во МГУ, 1980.
129 Дугин А.Г. Социология воображения. С. 51–52.
130 Зигмунд Фрейд. Тотем и табу. СПб.: Азбука-классика, 2005.
131 Jung Carl. Archetypes and the Collective Unconscious. New York: Pantheon Books, 1959. С. 43.
132 Levy-Bruhl L. La Mentalite Primitive. Paris: Alcan, 1922.
133 Hubert H., Mauss M. Mélanges d’histoire des religions. Paris: Alcan, 1909.
134 Jung K.G. Wotan// Neue Schweizer Rundschau. 1936. Zurich. № III. March. С. 657–669; Idem. Aufsatze zur Zeitgeschichte. Zurich: Rascher, 1946.
135 Turnwald Richard. Die Menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologische Grundlagen. Berlin&Leipzig:Walter de Gruyter & Co, 1931–1935.
136 Turnwald Richard. Die Menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologische Grundlagen. Bd. 1 Reprasentative Lebensbilder von Natur Volkern. Berlin&Leipzig:Walter de Gruyter & Co, 1931.
137 Turnwald Richard. Die Menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologische Grundlagen. Bd. 2 Werden, Wandel and Gestaltung von Familie, Verwandschaft und Bunden im Lichte der Volkerforschung. Berlin&Leipzig:Walter de Gruyter & Co, 1932.
138 Turnwald Richard. Die Menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologische Grundlagen. Bd. 3 Werden, Wandel and Gestaltung der Wirtschaft im Lichte der Volkerforschung. Berlin&Leipzig:Walter de Gruyter & Co, 1932.
139 Turnwald Richard. Die Menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologische Grundlagen. Bd. 4 Werden, Wandel and Gestaltung von Staat und Kultur im Lichte der Volkerforschung. Berlin&Leipzig:Walter de Gruyter & Co, 1935.
140 Turnwald Richard. Die Menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologische Grundlagen. Bd. 4 Werden, Wandel and Gestaltung von вes Rechtes im Lichte der Volkerforschung. Berlin&Leipzig:Walter de Gruyter & Co, 1934.
141 Mühlmann Wilhelm Emil. Methodik der Völkerkunde. Stuttgart: Ferdinand Enke, 1938.
142 Mühlmann Wilhelm Emil. Rassen, Ethnien, Kulturen. Neuwied, Berlin: Luchterhand, 1964.
143 Mühlmann Wilhelm E. Erfaruhng und Denken in der Sicht des Kulturanthropologen/Mühlmann Wilhelm E., Muller Ernst W. (herausgeb.) Kulturanthropolgie. Koln/Berlin: Kiepenheuer&Witsch, 1966. C. 157.
144 Mühlmann Wilhelm Emil. Assimilation, Umvolkung, Volkwerdung. Ein globaler Überblick und ein Programm, Stuttgart, 1944.
145 Mühlmann Wilhelm Emil. Geschichte der Anthropologie. Wisbaden:Aula Verlag, 1986.
146 Elwert, Georg. Bauern und Staat in Westafrika — Die Verflechtung sozioökonomischer Sektoren am Beispiel Benin. Frankfurt a M.: Campus, 1983.
147 Bierschenk Thomas, Elwert Georg. Entwicklungshilfe und ihre Folgen. Frankfurt / New York: Campus, 1993; Elwert G., Fett R. (eds.) Afrika zwischen Subsistenzökonomie und Imperialismus, Frankfurt: Campus Verlag, 1982.
148 Elwert Georg. Gewaltmärkte. Beobachtungen zur Zweckrationalität der Gewalt// Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 1997.
149 Morgan Lewis Henry. Ancient Society. Tucson: The University of. Arizona Press, 1995.
150 Самнер У. Народные обычаи. СПб, 1914.
151 Sumner W. G. Folkways. Boston: Atheneum-press, 1906. С. 521.
152 Znaniecki F., Thomas W. The Polish Peasant in Europe and America. N.Y.: A. Knopf, 1927.
153 Thomas W.I., Thomas D.S. The child in America: Behavior problems and programs. New York: Knopf, 1928.
154 Boas F. The Mind of Primitive Man. New York: Macmillan, 1938.
155 Boas F. Race, Language and Culture. Toronto: Collier MacMillan, 1940.
156 Boas F. General Anthropology. Boston: Heath, 1938.
157 Boas F. The Central Eskimo. Lincoln: U. Nebraska Press, 1888.
158 Boas F. The social organization and secret societies of Kwakiutl Indian. Washington, DC: Smithsonian Institution, 1897; Idem. Kwakiutl Ethnography. Chicago: University of Chicago Press, 1966.
159 Boas F. Changes of bodily forms of the descendants of immigrants. Washington, DC: Government Printing Office, 1911
160 Kroeber A.L. (ed.) Handbook of the Indians of California // Bureau of American Ethnology. 1925. Bulletin No. 78. Washington.
161 Kroeber A.L. Anthropology. New York: Harcourt Brace and Company. 1923.
162 Kroeber A.L. The Superorganic. Berkeley: University of California Press, 1917.
163 Kroeber A.L. Configurations of Culture Growth. Berkeley:University of California Press, 1944.
164 Kroeber A. L. Primitive Society. New York: Knopf, 1920.
165 Lowie R. The Crow Indians. New York: Farrar & Rinehart, 1935.
166 Lowie R. Indians of the Plains. New York: American Museum of Natural History, 1954.
167 Lowie R. German People: A Social Portrait to 1914. N. Y.: Farrar & Rinehart, 1945.
168 Lowie R. The Origin of the State. New York, Harcourt, Brace & Co, 1927; Idem. Are we civilized? New York: Harcourt, Brace & Co. 1929.
169 Benedict R. F. The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture. Boston: Houghton Mifflin Co.,1946.
170 Benedict R. F. Patterns of culture. New York: Mentor. 1960.
171 Kardiner A. The Individual and His Society. New York: Columbia University Press, 1939.
172 Linton R. The Tanala: A Hill Tribe of Madagascar. Chicago: Field Museum of Natural History, 1933.
173 Linton R. The Study of Man. N. Y.: D. Appleton-Century, 1936; Idem. The Cultural Background of Personality. New York: Appleton-Century Crofts, 1945.
174 Du Bois C. 1970 Ghost dance. Berkeley: University of California Press, 1930.
175 Du Bois C. The people of Alor; a social-psychological study of an East Indian island. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1944.
176 Sapir E. Selected Writings in Language, Culture and Personality, Вerkeley: University of California Press, 1949.
177 Kluckhohn C. Navaho Witchcraft. Boston: Beacon Press, 1944.
178 Kluckhohn C., Kroeber A.L. A Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge, MA: Peabody Museum, 1952.
179 Kluckhohn C. Culture and Behavior. New York: The Free Press of Glencoe, 1962.
180 Geertz C. The Religion of Java. Glencoe: Free Press, 1960; Idem. Islam
Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia. New Haven: Yale University Press, 1968.
181 Geertz C. Agricultural Involution: the processes of ecological change in Indonesia. Berkeley, CA: University of Califomia Press, 1963.
182 Geertz C. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1975.
183 Wissler C. The American Indian: an Introduction to the Anthropology of the New. World. New York: Douglas C. McMurtrie, 1917; Idem. The Indians of the United States: Four Centuries of Their History and Culture. New York: Doubleday Doran, 1940.
184 Wissler C. Man and Culture. NY: Thomas Y. Crowell, 1923.
185 Mead M. Coming of Age in Samoa (1927). New York, William. Morrow & Company, 1973.
186 Bateson G. Naven: A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three Points of Points of View. Stanford: Stanford University Press, 1936.
187 Bateson G., Mead M. Balinese Character: A Photographic Analysis. New York Academy of Sciences, 1942.
188 Bateson G. Mind and Nature: A Necessary Unity (Advances in Systems Theory, Complexity, and the Human Sciences). New Jersey: Hampton Press, 1979
189 Herskovits Melville J. American Negro. A Study in Racial Crossing. New York: Alfred A. Knopf, 1928.
190 Herskovits Melville J. Economic And The Human Factor in Changing Africa. New York: Knopf, 1962; Ibidem. The Man and His Works. New York: Alfred A. Knopf, 1948.
191 Herskovits Melville J. Acculturation: the study of culture contact. Gloucester: Mass, 1958.
192 Redfield R., Linton R., Herskovits M.J. Memorandum for the Study of Acculturation // American Anthropologist. 1936. Vol. 38. No. 1. С. 149–152.
193 Redfield R. The Little Community. Chicago: University of Chicago, 1956.
194 Redfield R. Tepoztlan, A Mexican village: A study of folk life. Chicago: Chicago University Press, 1930.
195 Redfield R. Peasant Society and Culture: An anthropological approach to civilization. Chicago: University of Chicago Press, 1956.
196 Redfield R. Die Folk-Gesellschaft/ Mulmann, W. Muller E. (herausgb.) Kulturanthropologie. Koln; Berlin: Kiepenheuer&Witsch, 1966. С. 327–352.
197 Redfield R. The Primitive World and Its Transformations. Cambridge: Harvard University Press, 1953.
198 Radin P. Crashing Thunder: The Autobiography of an American Indian. New York; London: Appleton and Co., 1926.
199 Radin P. The Trickster: A Study in American-Indian Mythology. London: Routledge & Kegan Paul, 1956.
200 Radin P. Primitive Man as Philosopher. New York and London: D. Appleton and Company, 1927.
201 Radin P. Primitive Religion: Its Nature and Origin. New York: Dover, 1937.
202 Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб.: Алетейя, 1998.
203 Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Академический Проект, 2001.
204 Элиаде М. Шаманизм. Киев: София, 1998.
205 Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994.
206 Элиаде М. Религии Австралии. СПб.: Университетская книга, 1998.
207 Garfinkel H. Ethnomethodology’s Program: Working out Durkheim’s Aphorism. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2002.
208 Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1967.
209 Garfinkel H. Seeing Sociologically: The Routine Grounds of Social Action. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2006.
210 Mariott McKim (ed.) India through Hindu Categories. New Delhi/Newbury Park /London: Sage Publications, 1990.
211 Mariott McKim. The female family core explored ethnosociologically // Contributions to Indian Sociology. 1998.
212 Gerow Edwin. India As A Philosophical Problem: Mckim Marriott And The Comparative Enterprise// Journal of the American Oriental Society. 2000. July-Sept.
213 Inden Ronald B. (ed.) Kinship in Bengali Culture. Chicago, University of Chicago Press, 1977.
214 Inden Ronald B. Imagining India. Oxford: Basil Blackwell, 1990.
215 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989.
216 Tylor Edward Burnett. Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization. London J. Murray, 1865.
217 Фрезер Джеймс Джордж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.: Политиздат, 1980.
218 Фрезер Джеймс Джордж. Фольклор в Ветхом Завете. М.: Политиздат,1990.
219 Малиновский Бронислав. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М.: РОССПЭН, 2004.
220 Malinowski Bronislaw. The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia.
New York: Halcyon House, 1929; Idem. Coral Gardens and Their Magic: A Study of the Methods of Tilling the Soil and of Agricultural Rites in the Trobriand Islands. New York: American Book Co., 1935.
221 Малиновский Бронислав. Научная теория культуры М.: Объединенное Гуманитарное Издательство, 2005.
222 Malinowski Bronislaw. The Father in Primitive Psychology. New York: Norton, 1927; Idem. Malinowski Bronislaw. The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia.
223 Radcliffe-Brown A.R. The Andaman Islanders. Cambridge: Cambridge University Press,1922.
224 Radcliffe-Brown, A.R. and Forde D. (eds.) African Systems of Kinship and Marriage. Oxford: Oxford University Press, 1950.
225 Radcliffe-Brown A.R. Structure and Function in Primitive Society. London: Cohen & West, 1952.
226 Radcliffe-Brown A.R. Method in Social Anthropology. Chicago: University of Chicago Press, 1958.
227 Fortes M., Evans-Pritchard E. E. (eds.) African Political Systems. London & New York: International African Institute, 1940.
228 Fortes M. Oedipus and Job in West African Religion. New York: Cambridge University Press,1959.
229 Fortes M. Time and Social Structure and Other Essays. London: Athlone,1970.
230 Fortes M., Evans-Pritchard E. E. (eds.) African Political Systems.
231 Evans-Pritchard E. E. Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande. Oxford: Oxford University Press, 1937; Idem. The Nuer A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: Oxford University Press 1940; Idem. Kinship and Marriage among the Nuer. Oxford: Clarendon Press, 1951; Idem. Man and Woman among the Azande. ondon: Faber and Faber, 1974.
232 Evans-Pritchard E. E. The Comparative Method in Social Anthropology. London: Athlone Press, 1963.
233 Evans-Pritchard E. E. Theories of Primitive Religion. Oхford: Clarendon,1965.
234 Gluckman M. Custom and Conflict in Africa. Oxford: Blackwell, 1966
235 Gluckman М. Order and Rebellion in Tribal Africa. M. London: Cohen and. West, 1963.
236 Gluckman M. Politics, Law and Ritual in Tribal Society. New York: Mentor, 1968
237 Leach Edmund R. Pul Eliya village in Ceylon: a study of land tenure and kinship. NY: Cambridge University Press, 1961.
238 Leach Edmund R. Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. Boston: Beacon Press, 1965.
239 Leach Edmund R. Rethinking Anthropology. London: Athlone,1961.
240 Leach Edmund. R. Levi-Strauss. London: Fontana/Collins, 1970.
241 Gellner Ernest. Saints of the Atlas. London: Weidenfeld and Nicholson, 1969.
242 Gellner Ernest. Words and Things. London: Gollancz, 1959.
243 Wittgenstein L. Philosophische Untersuchungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001.
244 Gellner E. Plough, sword and book: the structure of human history. London: Collins Harvill, 1988.
245 Gellner E. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell Press, 1983.
246 Gellner E. L’avvento del nazionalismo, e la sua interpretazione. I miti delta nazione e della classe // Anderson P. (ed.) Storia d’Europa. Turin: Einaudi, 1993.
247 Gellner E. Culture, Identity, and Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
248 Gellner E. Encounters with Nationalism. Oxford (UK) and Cambridge, MA: Blackwell, 1994.
249 Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York: Verso, 1991.
250 Anderson B. Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1990; Idem. Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1990.
251 Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Op. cit.
252 Breuilly J. Nationalism and the state. Manchester, UK: Manchester University Press, 1993.
253 Breuilly J. Nationalism, power and modernity in nineteenth-century Germany. London: German Historical Institute, 2007.
254 Kedourie E. Nationalism. London:Hutchinson, 1960.
255 Kedourie E. Politics in the Middle East. Oxford:Oxford University Press, 1992.
256 Smith A.D. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge, UK: Polity, 1995.
257 Smith A.D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell, 1987.
258 Guibernau M., Hutchinson J. (eds.) Understanding Nationalism. London: Polity Press, 2001.
259 Armstrong J.A. Nations before Nationalism. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982.
260 Hutchinson J. Ethnicity. NY: Oxford University Press, 1996.
261 Smith A.D. Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford. University Press,1999.C. 9.
262 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический Проект, 2005.
263 Santoro P. El momento etnográfico: Giddens, Garfinkel y los problemas de la etnosociología// Revista española de investigaciones sociológicas. 2003. №103. С. 239–255.
264 Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford: Stanford University Press, 1991.
265 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995.
266 Durkheim E. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris: Libraire générale française, 1991.
267 Дюркгейм развил эту пару понятий, возведенную им в социологический концепт, на основании идей шотландского историка религий Уильяма Робертсона Смита. См.: Smith W.R. The religion of the semites. Edinburgh: Douglas,1880.
268 Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М.: Восточная литература, 1996.
269 Hubert H., Mauss M. Mélanges d’histoire des religions. Paris: Librairie Félix, 1929; Hubert H., Mauss M. Sacrifice: Its Nature and Functions. Chicago: University of Chicago Press, 1981; Hubert H., Mauss M. A General Theory of Magic. London; New York: Routledge, 2001.
270 Hubert H. The History of the Celtic People. London: K. Paul, Trench, Trubner, 1934.
271 Hubert H. Étude sommaire de la représentation du temps dans la religion et la magie / Hubert H., Mauss M. Mélanges d’histoire des religions. Paris: Librairie Félix, 1929 С. 189–229.
272 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Психология мышления. М: Изд-во МГУ, 1980.
273 Griaule M. Arts de l’Afrique noire. Paris: Editions du Chêne, 1947.
274 Griaule M. Masques Dogons. Paris: Institut d’Ethnologie, 1938.
275 Griaule M. Methode de l’Etnographie. Paris: Presses Universitaires de France, 1957.
276 Leenhardt M. Do Kamo, la personne et le mythe dans le monde melanesien. P:Gallimard, 1947.
277 Granet M. La pensee chinoise. Paris, Albin Michel, 1999; Idem. La Religion des Chinois. Paris:Gauthier-Villars, 1922; Idem. La Civilization Chinoise. Paris: La Renaissance du Livre, 1929.
278 Granet M. Categories matrimoniales et relations de proximite dans la Chine ancienne // Annee sociologique. 1939.
279 Levy-Strauss C. Race et histoire. La Question raciale devant la science moderne. Paris: UNESCO, 1952.
280 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1985.
281 Леви-Стросc К. Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль. М.: Академический Проект, 2008.
282 Леви-Стросс К. Мифологики: В 4 т. М.: ИД «Флюид», 2007.
283 Леви-Стросс К. Мифологики.
284 Levy-Strauss C. Les Structures elementaires de la parente. Paris: PUF, 1949.
285 Levy-Strauss C. Les Structures elementaires de la parente.
286 Levy-Strauss C. Les Structures élémentaires de la parenté.
287 Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994.
288 Levy-Strauss C. Les Structures élémentaires de la parenté.
289 Dumont L. Homo hierarchicus. Essai sur le système des castes. Paris: Gallimard, 1971.
290 Dumont L. Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne. Paris: Le Seuil, 1983.
291 Dumont L. Homo Æqualis I: genese et epanouissement de l’ideologie economique. Paris: Gallimard/BSH, 1977; Idem. Homo Æqualis II: l’Ideologie allemande. Paris: Gallimard/BSH, 1978.
292 Dumont L. Homo hierarchicus.
293 Dumezil G. Flamen-Brahman. Paris: Geuthner, 1935.
294 Dumezil G. Mythes et dieux des Germains — Essai d’interpretation comparative. Paris:Press Universitaire Francaise, 1939.
295 Dumezil G. Jupiter Mars Quirinus. 4v. Paris:Gallimard, 1941–1948.
297 Dumezil G. Mythe et epopee. I,II,III. Paris: Quarto Gallimard, 1995.
299 Ibidem.
300 Greimas Algirdas J. Semantique structurale: recherche et methode. P.: Larousse, 1966.
301 Greimas Algirdas J. Du sens. P.: Éditions du Seuil, 1983.
302 Greimas Algirdas J. De s dieux et des hommes: etudes de mythologie lithuanienne. Paris:Presse Universitaire Francaise, 1985.
303 Greimas Algirdas J. Reflexions sur les objets ethno-semiotiques // Actes du 1er Congres d’ ethnologie europeenne. Paris: Maisonneuve & Larose, 1973. С. 63–72.
304 Leroi-Gourhan A. Archeologie du Pacifique nord. Paris: Institut d’Ethnologie, 1946.
305 Leroi-Gourhan A. L’Homme et la matiere. Paris: Albin Michel, 1943.
306 Deleuze G., Guattari F. L’Anti-Oedipe. Paris: Les Editions de Minui, 1972.
307 Leroi-Gourhan A. Milieu et techniques. Paris: Albin Michel, 1945.
308 Bastide R. Images du nordeste mystique en noir et blanc. P.: Pandora éditions, 1978.
309 Bastide R. L’Ethnohistoire du nègre brésilien. P.: Bastidiana, 1993.
310 Bastide R. Psychanalyse du Cafuné. P.: Editions Bastidiana, 1996.
311 Durand G. Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris:Borda, 1969.
312 Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.:Академический Проект, 2010.
313 Дугин А.Г. Диурн:Героические мифы // Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. С. 91–99.
314 Дугин А.Г. Ноктюрн:Мистические мифы // Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. С. 100–108.
315 Дугин А.Г. Режим Ноктюрна–2: Драматические мифы // Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. С. 109–114.
316 Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию.
317 Дугин А.Г. Логос и мифос. Социология глубин. М.:Академический Проект, 2010.
318 Дугин А.Г. Социология этноса // Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. С. 313–358.
319 Bourdieu P. L’Esquisse d’une théorie de la pratique. Genève: Droz, 1972.
320 Bourdieu P. Choses dites. P.: Minuit, 1987.
321 Bourdieu P. Algérie 60: structures économiques et structures temporelles. Paris: Minuit, 1977.
322 Bourdieu P. La Distinction; Critique sociale du jugement. Minuit, 1979.
323 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-романскому. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета; Издательство «Глаголь», 1995.
324 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010.
325 Herder J.G. Une autre philosophie de l’histoire. P.:Aubier, 1964.
326 Ламанский В.И. Национальности итальянская и славянская в политическом и культурном отношениях// Отечественные записки. 1862.
327 Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. Прага, 1916.
328 Сахаров И.П. Сказания русского народа о семейной жизни своих предков Ч. I –III. СПб., 1836–1837.
329 Пыпин А.Н. История русской этнографии: В 4 т. СПб., 1890–1892.
330 Афанасьев А. Н. Русские заветные сказки. Спб.: ТОО «Бланка», АО « Бояныч», 1994; Он же. Поэтические воззрения древних славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифологическими сказаниями других родственных народов. М., 1995.
331 Миллер Вс. Ф. Осетинские этюды. Ч. 1–3. М., 1881–1887.
332 Надеждин Н.И. Об этнографическом изучении народности русской. СПб.: Русское географическое общество, 1846.
333 Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. М., 1861.
334 Снегирев М.И. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. I–IV. М., 1837–1839; Он же. О лубочных картинках русского народа. М., 1844.
335 Зеленин Д.К. Библиографический указатель русской этнографической литературы о внешнем быте народов России. 1700–1910 гг. СПб., 1913; Он же. Очерки русской мифологии. Петроград, 1916.
336 Голубовский П.В. История Северской земли до половины XIV ст. Киев, 1881; Он же. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар: История южно-русских степей IX–XII ст. Киев, 1884; Он же. История Смоленской земли до начала XV в. Киев, 1895; Он же. Лекции по древнейшей русской истории. Киев, 1904.
337 Радлов В.В. Сибирские древности//Материалы по археологии России, издаваемые Императорской археологической комиссией. Санкт-Петербург, 1888; Radloff F.W. Das Schamanemtum und seine Kultus. Leipzig, 1885.
338 Погодин А. Л. Краткий очерк истории славян. М.: Едиториал УРСС, 2003.
339 Сумцов Н.Ф. О свадебных обрядах. Харьков, 1881.
340 Лобода А.М. Русский богатырский эпос. Опыт критико — библиографического обзора трудов по русскому богатырскому эпосу. Киев: ип. Имп.Ун-та св. Владимира, акц. о-ва печ. и изд. Дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904.
341 Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1862.
342 Сперанский М.Н. Рукописные сборники XVIII века: Материалы для истории русской литературы XVIII века. М., 1963; Он же. Русская устная словесность. Введение в историю устной русской словесности. Устная поэзия повествовательного характера: Пособие к лекциям на Высших женских курсах в Москве. М., 1917.
343 Потебня А.А. Слово и миф. М.: Правда, 1989; Он же. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. М., 1865.
344 Аничков Е.В. Язычество и древняя Русь. М.: Индрик, 2003.
345 Шахматов А.А. Древнейшие судьбы русского племени. Прага, 1919.
346 Соболевский А.И. Великорусские народные песни. В 7 т. СПб., 1895–1902.
347 Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 1–3. Москва, 1955–1956.
348 Герцен А. И. С того берега // Герцен А.И. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1954-1965. Т. 6.
349 Воронцов В.П. Крестьянская община // Воронцов В.П. Итоги экономических исследований России по данным земской статистики. Т. 1, М., 1892.
350 Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений, Т. 1–8, 10. СПб, 1906–1914.
351 Якушкин П.И. Собрание народных песен П. В. Киреевского. В 2 т. Л.: Наука, 1983–1986.
352 Ефименко А. Я. Исследования народной жизни. Вып. 1. М., 1884.
353 См. там же.
354 Посников А.С. Общинное землевладение / Посников А.С. Вып. 1–2. Ярославль: Тип. Г.В. Фальк, 1875–1877.
355 Соколовский П.А. Очерк истории сельской общины на Севере России. СПб., 1877.
356 Капустин С.Я. Очерки порядков поземельной общины в Тобольской губернии по сведениям, собранным западносибирским отделом Императорского Русского Географического общества // Литературный сборник. СПБ., 1885.
357 Пругавин А.С. Раскол и сектантство в русской народной жизни. Москва, 1905.
358 Худяков И.А. Краткое описание Верхоянского округа. Л., 1969.
359 Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. Т. 1, СПБ, 1896.
360 Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии Ленинград: Издательство института народов Севера ЦИК СССР, 1936.
361 Иохельсон В.И. Материалы по изучению юкагирского языка и фольклора. СПб, 1910.
362 Тан-Богораз В.Г. Материалы по изучению чукотского языка и фольклора, СПБ.: Издание Академии наук, 1900.
363 Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. М.,1887.
364 Ковалевский М.М. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом. М., 1905.
365 Ковалевский М.М. Клан у аборигенных племен России // Социологические исследования. 2002. № 5. С. 129–138.
366 Ковалевский М.М. Этнография и социология. М., 1904.
367 Сорокин П.А. Пережитки анимизма у зырян // Известия архангельского общества изучения Русского Севера. 1910. № 20.
368 Сорокин П.А. К вопросу о первобытных религиозных верованиях зырян // Известия Вологодского общества изучения Северного края. 1917.Вып. 4.
369 Сорокин П.А. Современные зыряне // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1911. № 22, 23, 24, 25;
370 Сорокин П.А. К вопросу об эволюции семьи и брака у зырян // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1911. № 1, 5.
371 Основы евразийства. М.: Арктогея-Центр, 2002.
372 Трубецкой Н.Н. Общеевразийский национализм // Основы евразийства. М.: Арктогея-Центр, 2002. С. 200–207.
373 Объективный и взвешенный обзорный материал о биографии и идеях С.М. Широкогорова см. Ревуненкова Е.В., Решетов А.М. Сергей Михайлович Широкогоров // Этнографическое обозрение. 2003. № 3. С. 100–119.
374 Йохансен У. Влияние Сергея Михайловича Широкогорова на немецкую этнологию // Этнографическое обозрение. 2002. № 1. С. 139–143.
375 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М, 1989. С. 69–71.
376 Shirokogoroff S. M. Anthropology of Northern ChinaShanghai, 1923; Idem. Process of the physical growth among the Chinese. Shanghai, 1925; Idem. Anthropology of Eastern China and Kwantung Province. Shanghai: Commercial Press, 1925; Idem. Social organization of the Manchus: a study of the Manchu clan organization. Shanghai: Kelly & Walsh, 1924.
377 Широкогоров С.М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. М.:Кафедра социологии международных отношений социологического факультета МГУ, 2010. С. 16.
378 Shirokogoroff S.M. Social Organization of Northern Tungus with Introductory Chapters concerning Geographical Distribution and History of these Groups. Shanghai, 1929. С. 5.
379 Широкогоров С.М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. С. 82.
380 Там же.
381 Широкогоров С.М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. С. 47.
382 Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. С. 169–186.
383 Широкогоров С.М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. С. 61.
384 Там же. С. 76.
385 Широкогоров С.М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. С. 95.
386 Там же.
387 Там же. С. 96.
388 Там же. С. 91.
389 Shirokogorov S. M. Psychomental complex of the Tungus. London, 1935.
390 Ibidem. С. 268
391 Мюльман В. С.М. Широкогоров. Некролог (с приложением писем, фотографии и библиографии) // Этнографическое обозрение. 2002. № 1. С. 146.
392 Элиаде М. Шаманизм: Архаические техники экстаза. К.: София, 2000.
393 Широкогоров С.М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений.
394 Там же. С. 117.
395 Там же. С. 118.
396 Lefebvre H. La production de l’espace. Paris: Anthropos, 2000.
397 Широкогоров С.М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. С. 119.
398 Там же. С. 120.
399 Там же. С. 120–121.
400 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Лениниград:Политиздат, 1990.
401 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. С. 35.
402 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. С. 104.
403 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. С. 135.
404 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. С. 40.
405 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. С. 339.
406 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. С. 339.
407 Там же.
408 Там же.
409 Там же.
410 Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М.: Айрис-пресс, 2008; Он же. Тысячелетие вокруг Каспия», Москва: АСТ/Харвест, 2008; Он же. Черная легенда. М.: Айрис-пресс, 2008; Он же. Хунну. Троецарствие в Китае. Хунны в Китае. М.: Айрис-пресс, 2008; Он же. Древняя Русь и Великая степь. М.: Мысль. 1989; Он же. Поиски вымышленного царства: (Легенда о «Государстве 'пресвитера Иоанна'»). М.: Наука, 1970.
411 Saintyves P. Les Contes de Perrault et les récits paralles. Paris: E. Nourry, 1923; Nourry E. Corpus du Folklore des Eaux en France et dans les colonies françaises. Paris, 1934.
412 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986; Он же. Фольклор и действительность. М.: Наука,1989.
413 Пропп В.Я. Русский героический эпос М.: Лабиринт, 1999.
414 Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. М., 1988.
415 Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы: (Древний период). М., Наука. 1965; Они же. Исследования в области славянских древностей: (Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов). М., Наука. 1974.
416 Топоров В.Н. Предыстория литературы у славян: Опыт реконструкции: Введение к курсу истории славянских литератур. Москва: РГГУ, 1998.
417 Мифы народов мира. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1980.
418 Иванов Вяч.Вс. Дуальные структуры в антропологии: курс лекций. М., РГГУ, 2008.
419 Hocart A.M. Kings and Councillors. Cairo, 1936.
420 Иванов Вяч. Вс. Дуальные структуры в антропологии: курс лекций. С. 49–85.
421 Там же. С. 86–126.
422 Золотарев А.М. Дуальная организация первобытных народов и происхождение дуалистических космогоний (исследование по истории родового строя и первобытной мифологии). Рукопись (закончена в 1941). Архив института этнографии РАН.
423 Иванов Вяч. Вс. Наука о человеке: введение в современную антропологию. М., РГГУ. 2004.
424 Токарев С.А. Общественный строй якутов. М.: Якутское гос. изд-во, 1945.
425 Токарев С.А. Истоки этнографической науки. М.: Наука, 1978; Он же. История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа, 1978.
426 Токарев С.А. История русской этнографии. М.: Наука, 1966.
427 Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. М.: Наука, 1964.
428 Токарев С.А. Этнография народов СССР. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1958.
429 Рыбаков Б.А. Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. М., 1963.
430 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981.
431 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М.: Наука, 1987.
432 Фроянов И. Я., Юдин Ю. И. Об исторических основах русского былевого эпоса. СПб: Русская литература, 1983.
433 Юдин Ю. И. Дурак, шут, вор и черт. М.:Лабиринт, 2006.
434 Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 1980.
435 Фроянов И.Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. СПб., 1995.
436 Фроянов И.Я. Рабство и данничество у восточных славян. СПб., 1996.
437 Анисимов А.Ф. Родовое общество эвенков (тунгусов). Л.: Изд-во Ин-та народов севера ЦИК СССР, 1936; Он же. Религия эвенков в историко-генетическом изучении и проблемы происхождения первобытных верований. Л.: Изд-во АН СССР, 1958.
438 Анисимов А.Ф. Общее и особенное в развитии общества и религии народов Сибири. Ленинград: Наука, 1969; Он же. Исторические особенности первобытного мышления. Ленинград: Наука, 1971; Он же. Космологические представления народов севера. Л.: Наука, 1959.
439 Прокофьева Е.Д. К вопросу о социальной организации селькупов. Род и фратрия. М.-Л., 1952.
440 Ксенофонтов Г. В. Элейада. М., 1977; Он же. Исторический фольклор эвенков. М.-Л., 1966; Он же. Мифологические сказки и исторические предания энцев. М., 1977.
441 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973.
442 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983.
443 Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии: Очерки теории и истории. М., 1981.
444 Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история и современность. М.: Наука, 1987.
445 Этнография: Учебник/Под ред. Ю.В. Бромлея и Г.Е. Маркова. М.: Высш. школа, 1982.
446 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998.
447 Мнацаканян М.О. Этносоциология: нации, национальная психология и межнациональные конфликты. М., 1998.
448 Татунц С.А. Этносоциология. М., 1999.
449 Перепелкин Л.С., Соколовский С.В. Этносоциология. Новосибирск, 1995.
450 Денисова Г.С., Радовель М.Р. Этносоциология. Ростов-н/Д: Изд-во ООО «ЦВВР», 2000.
451 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1992.
452 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск: Сагуна, 1994.
453 Современный французский социолог Жильбер Дюран называет эту инстанцию «траектом», т. е. чем-то, промежуточным между субъектом и объектом, но взятым как самостоятельное явление. Дюран приравнивает «траект» к «имажинэру», главной антропологической творческой инстанции. См. подробнее Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический Проект, 2010.
454 Mühlmann Wilhelm E. Erfaruhng und Denken in der Sicht des Kulturanthropologen/Mühlmann Wilhelm E., Muller Ernst W. (herausgeb.) Kulturanthropolgie. Koln/Berlin: Kiepenheuer&Witsch, 1966. C. 157.
455 Lefebvre H. La production de l’espace. Paris: Anthropos, 1974.
456 Там же.
457 Friedrich A. Das Bewusstsein eines naturvolkes von Haushalt und Ursprung des Lebens // Mühlmann Wilhelm E., Muller Ernst W. (herausgeb.) Kulturanthropolgie. Koln/Berlin: Kiepenheuer&Witsch, 1966. C. 186–194.
458 Анисимов А.Ф. Представления эвенков о шингкенах и проблема происхождения первобытной религии // Сборник музея антропологии и этнографии. 1949. Т. 12. С. 160–194.
459 Ксенофонтов Г.В. Легенды и рассаказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов. М.: Безбожник, 1930.
460 Прокофьева Е.Д. К вопросу о социальной организации селькупов // Труды института этнграфии. 1952. Т. 18. С. 88–107.
461 Turnwald Richard. Die Menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologische Grundlagen. Berlin&Leipzig:Walter de Gruyter & Co, 1931–1935.
462 Там же.
463 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Психология мышления. М: Изд-во МГУ, 1980.
464 Отто Р. Священное. СПб., 2008.
465 Элиаде М. Религии Австралии. СПб.: Университетская книга, 1998; Он же. Аспекты мифа. М.: Инвест-ППП, 1995; Он же. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М.-СПб., Университетская книга, 1998.
466 Леви-Стросс К. Путь масок. М.: Республика, 2000.
467 Там же.
468 Иванов Вяч. В. Дуальные структуры общества. — www. polit.ru 2005. [Электронный ресурс]URL: http://www. polit.ru/lectures/2005/09/06/ivanov. html (дата обращения 10.09.2010).
469 Золотарев А. М. Родовой строй и первобытная мифология, М., 1964.
470 Там же.
471 Хейзинга Й. Homo Ludens. М.: Прогресс–Традиция, 1997.
472 Shirikogorov S.M. Versuch einer Erforschung der Grundlagen des Schamanentums bei den Tungusen // Baessler-Archiv. 1935. Bd. 18. С. 79.
473 Friedrich A. Das Bewusstsein eines naturvolkes von Haushalt und Ursprung des Lebens. Op. cit. С. 188.
474 Анисимов А.Ф. Шаманские духи по воззрениям эвенков и тотемические истоки шаманства // Сборник музея антропологии и этнографии. 1951. т. 13. С. 226.
475 Элиаде М. Шаманизм. Архаические техники экстаза. Киев: София, 1998.
476 Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. М., 1998.
477 Leenhardt M. Do Kamo. La personne et le mythe dans le monde melanesien. Paris, 1947. См. также: Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.:Академический Проект, 2010.С. 222–224.
478 Мельшиор-Бонне С. История зеркала. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
479 Там же.
480 Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М.-СПб., Университетская книга, 1998.
481 Там же.
482 Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. М., 2010.
483 Levy-Strauss C. Les Structures élémentaires de la parenté. Paris: PUF, 1949.
484 Хейзинга Й. Homo Ludens. М.: Прогресс–Традиция, 1997.
485 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.
486 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: Тотемическая система в Австралии // Мистика: Религия: Наука: Классики мирового религиоведения. М., 1998.
487 Широкогоров С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. М.:Кафедра Социологии Международных Отношений Социологического факультета МГУ, 2010. С. 70–71
488 Мосс М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Мосс М. Общества, обмен, личность. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1996.
489 Батай Ж. Проклятая доля. М.: Гнозис, Логос, 2003.
490 Мосс М. Очерк о природе и функции жертвоприношения // Мосс М. Социальные функции священного. СПб.: Евразия, 2000.
491 Мосс М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Мосс М. Общество, обмен, личность. М.:2007. С. 91.
492 Мосс М. Очерк о даре. С. 90.
493 Turnwald Richard. Die Menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologische Grundlagen. Berlin&Leipzig:Walter de Gruyter & Co, 1931–1935.
494 Мосс М. Очерк о даре. С. 100.
495 Мосс М. Очерк о даре. С. 103.
496 Мосс М. Очерк о даре. С. 107.
497 Мосс М. Очерк о природе и функции жертвоприношения.
498 Там же. С. 19.
499 Батай Ж. Проклятая доля.
500 Мелентьева Н.В. Общая теория восстания Герда Бергфлета // Элементы. 1994. № 5.
501 Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., Новое издательство, 2004.
502 Самнер У. Народные обычаи. СПб, 1914.
503 Jaensch Erich R. Der Gegentypus. Leipzig: Barth 1938.
504 Шмитт К. Понятие политического// Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 35–67.
505 Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. М., 2010.
506 Там же.
507 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа/Гегель Г.В.Ф. Система наук. СПб: Наука, 1999.
508 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1992.
509 Дугин А.Г. Смерть и ее аспекты // Дугин А.Г. Радикальный субъект и его дубль. М.: Евразийское Движение, 2009.
510 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М.: Культурная Революция, 2005.
511 Morgan Lewis Henry. Ancient Society. Tucson: The University of. Arizona Press, 1995.
512 Широкогоров С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. М.:Кафедра Социологии Международных Отношений Социологического факультета МГУ, 2010.С. 108.
513 Gumplowicz, Ludwig. Der Rassenkampf. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2007.
514 Boulainvilliers Henri de. Histoire de l’anciein gouvernement de la France. тт. 1–3. La Haye — Amsterdam, 1727.
515 Boulainvilliers Henri de. Histoire de l’anciein gouvernement de la France. Т. 1–3. La Haye — Amsterdam, 1727.
516 Eliade M. The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. New York: Harper and Row, 1959.
517 Парето В. Компендиум по общей социологии. М., 2008.
518 Hubert H. Culte de l’heros // Hubert H., Mauss M. Mélanges d’histoire des religions. Paris: Librairie Félix, 1929
519 Джемаль Г. Революция пророков. М.: Ультра. Культура, 2003.
520 История Древнего Востока. М., 1988.
521 История Древнего Востока. М., 1988.
522 История Древнего Востока. М., 1988.
523 История Древнего Востока. М., 1988.
524 Бойс М. Зароастрийцы: верования и обычаи. М., 1988.
525 Гумилев Л.Н. Древнемонгольская религия// Доклады ВГО. 1968. Вып. 5.
526 Dumezil G. Jupiter Mars Quirinus. 4v. Paris:Gallimard, 1941–1948.
527 Рыбаков Б. С. Геродотова Скифия. М.: 1979.
528 Гумилев Л. Н. Хунну, М., 1960; Он же. Хунны в Китае, М., 1974.
529 Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории. СПб, 1992.
530 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. М.: Айрис-Пресс, 2008.
531 Хара-Даван Э. Русь монгольская: Чингис-хан и монголосфера. М.: Аграф, 2002.
532 Джемаль Г. Революция пророков.
533 Там же.
534 Pronovost G. Sociologie du temps. P.: De Boeck/Université, 1996.
535 Hubert H. Étude sommaire de la représentation du temps dans la religion et la magie // Hubert H., Mauss M. Mélanges d’histoire des religions. Paris: Librairie Félix, 1929
536 Ricoeur P., Larre C., Panikkar R., Kagame A., Lloyd G.E.R., Neher A., Gardet L., Gourevitch A. Les Cultures et le temps. Paris: Payot/UNESCO, 1975.
537 Baron Salo Wittmayer. A Social and Religious History of the Jews. 2nd edition, 18 vols. New. York: Columbia University Press, 1952.
538 Смирнов Петр протоиерей. История Христианской Православной Церкви. СПб, 1914.
540 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. 1–2. М.: Директмедиа Паблишинг, 2008.
541 Ревуненкова Н.В. Протестантизм. СПб.: Питер, 2007.
542 Матвеев К.П. История ислама. М.: ACT: Восток–Запад, 2005.
543 Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. М.: Искусство, 1992.
544 Фрагменты древнегреческих философов. М.:Наука, 1989. С. 199.
545 Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст. М., 2001.
546 Granet M. La Civilization Chinoise. Paris: La Renaissance du Livre, 1929. На рус. яз. Гране М. Китайская мысль. М.: Республика, 2004.
547 Особым случаем современного государства является социалистическое государство, представляющее собой посткапиталистическую модель.
548 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
549 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
550 Вебер М. Город. Пг.: Наука и школа, 1923.
551 Redfield R. Peasant Society and Culture: An anthropological approach to civilization. Chicago: University of Chicago Press, 1956.
552 Thurnwald R. Die menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologischen Grundlagen, 5 B. Berlin: de Gruyter, 1931–1934.
553 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1992.
554 Зомбарт В. Торгаши и герои/ Зомбарт В. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2. СПб.: Владимир Даль, 2005.
555 Батай Жорж. Проклятая доля. М.: Гнозис; Логос, 2003.
556 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
557 Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York: Verso, 1991.
558 Например Breuilly J. Nationalism, power and modernity in nineteenth-century Germany. London: German Historical Institute, 2007; Idem. Nationalism and the State. 2nd ed. Chicago: Chicago University Press, 1994; Smith A. Nationalism and modernism. A critical survey of recent theories of nations and nationalism. London and New York., 1998; Idem. Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford. University Press,1999; Idem. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge, UK: Polity, 1995; Kedourie E. Nationalism. London:Hutchinson, 1960; Калхун К. Национализм. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006; и т. д.
559 Геллнер Э. Нации и национализм.
560 Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Op. cit.
561 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. С. 127.
562 Геллнер Э. Нации и национализм. С. 130.
563 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
564 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН-пресс-Ц;Кучково поле, 2001.
565 Breuilly John. Nationalism and the State. 2nd ed. Chicago: Chicago University Press, 1994.
566 Калхун К. Национализм. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006.
567 Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., Новое издательство, 2004.
568 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
569 Smith Anthony D. Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford University Press, 1999.
570 Smith A. Nationalism and modernism. A critical survey of recent theories of nations and nationalism. London and New York., 1998.
571 Mühlmann Wilhelm Emil. Rassen, Ethnien, Kulturen. Neuwied, Berlin: Luchterhand, 1964.
572 Smith A.D. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge, UK: Polity, 1995.
573 Smith A. Nationalism and modernism. A critical survey of recent theories of nations and nationalism. London and New York., 1998.
574 Dumont L. Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne. Paris: Le Seuil, 1983.
575 Dumont L. Homo Æqualis II: l’Idéologie allemande. Paris: Gallimard/BSH, 1978.
576 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
577 Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York: Verso, 1991.
578 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
579 Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York: Verso, 1991; Chatterjee P. Nationalist Thought and the Colonial World. London: Zed Books, 1986
580 Josseran T. La nouvelle puissance turque. P.: Ellipses, 2010.
581 Конт О. Дух позитивной философии. (Слово о положительном мышлении). Ростов н/Д: Феникс, 2003.
582 Дугин А.Г. Социология воображения. С. 261–311.
583 King A. The Sociology of sociology//Philosophy of social sciences. 2007. December. vol. 37, 4. С. 501–524.
584 Сорокин П. Социальная и культурная динамика. М.: Астроель, 2006.
585 Геллнер Э. Нации и национализм.
586 Dumont L. Homo Æqualis I: genèse et épanouissement de l’idéologie économique. Paris: Gallimard/BSH, 1977.
587 Kojev A. Esquisse d’une phenomenologie du droit. Exposé preliminaire. P.: Gallimard, 1981.
588 Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004.
589 Как мы уже говорили, термин «этнометодология» у социолога Гарфинкеля относится не к этносу в прямом смысле, а к совокупности отдельных случайно взятых единиц в рамках гражданского тобещства, влияние нормативной и обей социальной структуры на котроых предельно слабо и фрагментарно.
590 Милль Дж. С. О свободе. СПб, 1906.
591 Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Избранные произведения М., 1964.
592 Локк Дж. Два трактата о правлении. М., 2009.
593 Dumont L. Homo Æqualis I: genèse et épanouissement de l’idéologie économique. Paris: Gallimard/BSH, 1977.
594 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. М.: Политиздат. 1988.
595 Friedman Thomas L. The World Is Flat. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005.
597 Dumont L. Homo Æqualis II: l’Idéologie allemande. Paris: Gallimard/BSH, 1978.
598 Yates Frances A. The Rosicrucian Enlightenment. New York: Routledge, 2002.
600 Поппер К. Открытое общество и его враги. М.: Международный фонд «Культурная инициатива», 1992:
601 Токвиль Алексис де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992.
602 Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004.
603 Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006.
604 Barnett T.P. M. The Pentagon’s New Map. New York: Putnam Publishing Group, 2004.
605 Валлерстайн И. После либерализма. М.: Едиториал УРСС, 2003.
606 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2007.
607 Robertson Roland. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity // Featherstone Mike, Lash Scott, Robertson Roland (eds.), Global Modernities. London: Sage, 1995. C. 25–44.
608 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2007.
609 Heidegger M. Einführung in die Metaphysik (Sommersemester 1935). Fr./M.: P. Jaeger, 1983.
610 Smith Anthony D. Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford University Press, 1999.
611 Smith A.D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell, 1987.
612 Dumont L. Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne. Paris: Le Seuil, 1983.
613 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London, 1992.
614 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию. СПБ: Владимир Даль, 2004.
615 Батай Ж. Проклятая доля. М.: Гнозис, Логос, 2003.
616 Латур Б. Нового времени не было. Спб.: Издательство Европейского университета, 2006.
617 К этому близка теория Хайдеггера о Dasein'е, концепции «жизненного мира» Гуссерля и «траекта» Ж. Дюрана. См.: Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. М.:Академический Проект, 2010; Он же. Социолоия воображения. М.:Академический Проект, 2010.
618 Дугин А.Г. Социология русского общества. М.:Академический Проект, 2010.
619 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000; Он же. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Культурная революция, Республика, 2006; Он же. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.
620 Bauman Zygmunt. Intimations of Postmodernity. L.: Routledge,1992; Idem. Is There a Postmodern Sociology?// Theory, Culture and Society. 1988.
621 Giddens Anthony. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. L.: Polity, 1991.
622 Featherstone Mike. Consumer Culture and Postmodernity. L.: Sage, 1991; Idem. Towards a Sociology of Postmodern Culture/Haferkamp H. (ed.) Social Structures and Culture. Berlin: de Gruyter, 1988.
623 Rojek Chris. Ways of Escape: Modern Transformations in Leisure and Travel. L.: MacMillan, 1993.
624 Anderson Walter Truett. The Future of the Self: Exploring the Post-Identity Society. New York:Tarcher/Putnam, 1997.
625 Lash S. Sociology of Postmodernism. London: Routledge and Kegan Paul, 1990.
626 Smart B. On the Disorder of Things: Sociology, Postmodernity and the `End of the Social’ // Sociology. 1990; Idem. Postmodernity. London: Routledge,1993.
627 Дугин А.Г. Постфилософия. М.: Международное евразийское движение, 2009.
628 Дугин А.Г. Радикальный субъект и его дубль. М.: Международное евразийское движение, 2009.
629 Дугин А.Г. Социология воображения. М.: Академический Проект, 2010. С. 501–546.
630 Latour B. Nous n’avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique. Paris: La Découverte/ L'armillaire, 1991. На рус. яз.: Латур Бруно. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006.
631 Арто Антонен. Театр и его двойник. М., Мартис, 1993.
632 Делез Ж. Логика смысла. М.; Екатеринбург: Раритет: Деловая книга, 1998.
633 Leroi-Gourhan A. Milieu et techniques. Paris: Albin Michel, 1945.
634 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. Санкт-Петербург, 1997.
635 Haraway Donna. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century//Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, 1991.С. 149–181.
636 Hayles Katherine N. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago: University Of Chicago Press, 1999.
637 Фуко М. История сексуальности: В 3 т. Киев: Дух и Литера, 1998.
638 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2006.
639 Дугин А.Г. Постфилософия. М.:Международное «Евразийское Движение», 2009.
640 McLuhan M., Fiore Q. The Medium is the Massage: An Inventory of Effects. N.Y.: Random House, 1967.
641 Castells Manuel. (ed.) The Network Society: A Cross-Cultural Perspective. Cheltenham, UK; Northampton, MA, Edward Edgar, 2004.
642 Дугин А.Г. Археомодерн. М., 2011.
643 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек, М., 2004.
644 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2007.
646 Fukuyama F. 2004. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. New York: Cornell University Press, 2004.
647 См. Тоrnbеrrу P. International Law and the Rights of Minorities. Oxford, 1992.
648 Там же.
649 Сapotorti F. Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities/ UN Doc E/CNY/Sub. 2/384/Add. 1–7. UN Sales N E 78. XIV. I.
650 Robertson R. Glocalization/Featherstone Mike, Lash Scott, Robertson Roland (eds.), Global Modernities. London: Sage, 1995.
651 Примером популяризации шаманистских воззрений является успех серии книг американского этнолога Карлоса Кастанеды о шаманских практиках индейцев племени яки. Кастанеда К. Учение Дона Хуана. К.:София, 2008; Он же. Отдельная реальность. К.:София, 2006; Он же. Путешествие к Икстлан, К.:София, 2003 и т. д.
652 Типичным образцом является музыкальная электронная группа «Dead can dance».
653 Капица С.П. Общая теория роста человечества: Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле. М.: Наука, 1999.
654 Широкогоров С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. М.:Кафедра Социологии Международных Отношений Социологического факультета МГУ, 2010. С. 82.
655 Сусоколов А.А. Межнациональные браки. М., 1996.
656 Народы России. Атлас культур и религий. М: ИПЦ «Дизайн, Информация. Картография», 2008.
657 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 2009.
658 Dumezil G. Mythe et epopee. I, II, III. Paris: Gallimard, 1995.
659 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: Прогресс–Универс, 1995.
660 Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.
661 М. Бойс Зороастрийцы. Верования и обычаи М.: Наука,1987.
662 Dumezil G. Mythe et epopee. I, II, III. Paris: Gallimard, 1995.
663 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: Универс, 1995.
664 Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
665 Пропп В.Я. Русский героический эпос. М., Лабиринт, 1999.
666 Conte D. Catene di civiltà: Studi su Spengler. Napoli: Ed. Scientifiche Italiane, 1994.
667 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М.: Прогресс, 1987.
668 Conte D. Catene di civiltà: Studi su Spengler.
669 Народы России. Атлас культур и религий. С. 48.
670 Там же. С. 48
671 Ибн Халдун. Введение (ал-Мукаддима) // Историко-философский ежегодник 2007. М., 2008. С. 187–217.
672 Conte D. Catene di civiltà: Studi su Spengler.
673 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХII–ХIII вв. М.: Наука, 1993.
674 Геродот. История (скифские фрагменты) // Скифы: Хрестоматия. М.: 1992.
675 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М.: Алетейя, 2001.
676 Гимбутас М. Балты, люди янтарного моря. М.:Центрполиграф, 2004.
677 Третьяков П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.-Л.:Наука, 1966.
678 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации М.: Харвест, АСТ, 2008.
679 Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. М., 2010.
680 Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М.: Прогресс, 1993.
681 Гумилев Л.Н. Древние Тюрки. История образования и расцвета Великого тюркского каганата (VI--VIII вв. н. э.). М.: Кристалл, 2003.
682 Гумилев Л.Н. История народа хунну. М.: Институт Ди-дик, 1997.
683 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. М.: Айрис-Пресс, 2008.
684 Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. М.: Айрис-Пресс, 2008.
685 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 2009.
686 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1992.
687 Dumézil G. Le livre des héros: Légendes ossètes sur les Nartes. Paris: Gallimard, 1965.
688 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981.
689 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М.: Алетейя, 2001.
690 Радзивиловская летопись: Текст. Исследование. Описание миниатюр СПб.: Глагол; М.: Искусство, 1994.
691 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь–М.: «Леан»; «Аграф», 1997.
692 Повесть временных лет. // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб, 1997.
693 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М.: Наука, 1987.
694 Вернадский Г.В. Древняя Русь. М.:Аграф, 1999.
695 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М.: Наука, 1987.
696 Вернадский Г.В. Киевская Русь. М.: Аграф, 2000.
697 Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб, 1997.
698 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Влеикая Степь. М.:ЭКСМО, 2006.
699 Вернадский Г.В. Начертание русской истории. М.: Алгоритм, 2008. С. 45.
700 Вернадский Г.В. Начертание русской истории. С. 61.
701 Хара-Даван Э. Русь монгольская. Чингис-хан и монголосфера. М.: Аграф, 2002.
702 Вернадский Г.В. Два подвига Александра Невского // Евразийский временник. 1925. кн. IV, Прага. С. 318–337.
703 Вернадский Г.В. Два подвига Александра Невского.
704 Верандский Г.В. Московское царство. Тверь: Леан; М.: Аграф, 1997.
705 Гумилев Л.Н. Эхо Куликовской битвы // Огонек. 1980. № 36. С. 17.
706 Вернадский Г.В. Начертание русской истории. С. 118.
707 Гимбутас М. Балты. Люди янтарного моря. М.: Центрполиграф, 2004.
708 Поздняков В. Сарматизм/Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. У 6 т. Т. 6. Минск, 1993–2003. C. 230–231.
709 Там же.
710 Баранаускас Т. Истоки Литовского государства. Vilnius: «Vaga», 2000.
711 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь-М.: «Леан»; «Аграф», 1997.
712 Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV—XVI). М.: Индрик, 1998.
713 Фроянов И.Я. Драма русской истории: На пути к Опричнине. М., 2007.
714 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М.:Аграф, 1998.
715 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь–М.: «Леан»; «Аграф», 1997.
716 Там же.
717 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
718 Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York: Verso, 1991.
719 По данным переписи 1897 г., крестьяне составляли 77 % населения. А по переписи 1917 г., 83 % жителей относили себя к крестьянскому сословию. Цит. по: Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995, С. 223.
720 Ленин В.И. Развитие капитализма в России (1899) // Ленин В.И. Полное собрание сочинений (5 издание). Том 3. М.: Издательство политической литературы, 1971.
721 Там же.
722 Bauer O. Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie. Wien, 1908. На рус. яз.: Бауэр Отто. Национальный вопрос и социал-демократия // Нации и национализм. М.: Праксис, 2002. С. 52–120.
723 Каутский К. Национальность нашего времени. СПб., 1905.
724 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
725 Ленин В.И. О праве наций на самоопределение // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 25. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 260.
726 Ленин В.И. О праве наций на самоопределение. С. 263.
727 Троцкий Л. Нация и хозяйство//Наше Слово. 1915. № 130, 135.
728 Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Сталин И.В. Cочинения. Т. 2. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1946.
729 «К середине 1920 г. из 22 членов Совета народных комиссаров 17 человек были евреями. В Военном Комиссариате было 43 члена, из них евреев — 33; в Комиссариате иностранных дел — 16 членов, евреев — 13; в Комиссариате финансов — 30 членов, евреев — 24; в Комиссариате просвещения — 53 члена, евреев — 42; в Комиссариате юстиции — 21 член, евреев — 20; в Комиссариате социального просвещения — 6 членов, евреев — 6; в Комиссариате труда — 8 членов, евреев — 7. Редакторы 12 центральных газет — все без исключения евреи. Из 40 видных журналистов — все евреи. Областные комиссары: всего — 23, евреев — 21. Из 545 человек, безраздельно правивших в большевистской России, 447 были евреями». Винберг Ф. Крестный путь. Мюнхен, 1922.
730 Кричевский Л. Ю. Евреи в аппарате ВЧК-ОГПУ в 20-е годы // Евреи и русская революция: Материалы и исследования / Редактор-составитель О. В. Будницкий. Москва; Иерусалим: Гешарим, 1999.
731 В 1918 г. недолго просуществовала Закавказская Демократическая Федеративная Республика, распавшаяся на три отдельные республики и снова созданная в 1922 г. как Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика, просуществовавшая до 1936 г. В 1940–1956 гг. существовала Карело-Финская ССР.
732 Сталин И.В. Октябрьская революция и тактика русских коммунистов // Сталин И.В. Собрание сочинений. Т. 6. Тверь: Информационно-издательский центр «Союз», 2006.С. 358–401.
733 Устрялов Н. Национал-большевизм. М.: Эксмо. «Алгоритм», 2003.
734 Агурский М. Идеология национал-большевизма. М.: Алгоритм, 2003.
735 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
736 Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории. СПб, 1992.
737 Михалков Н.С. Право и правда // Русское время. 2010.№2 (3).С. 3–27.
Схема 3. Основные этносоциологические концепты
в иерархической последовательности
простое сложное
органичное механистичное
постобщество
глобальное общество
гражданское общество
нация
народ
этнос
Повторение того же алгоритма

Схема 6. Идентичность в разных типах общества

Схема 14. Этноцентрум

Маска swaihwe

Маска dzonokwa
|
Культурология, парадигмальный анализ : |
Премодерн |
Модерн |
Постмодерн |
||||||||||||||||
|
История: |
Предыдстория |
История |
Новое время |
Постистория |
|||||||||||||||
|
Социология: |
архаическое общество |
традиционное общество |
современное общество |
постсовременное общество |
|||||||||||||||
|
Экономика: |
прединдустриальное производство (аграрный сектор) |
индустриальное производство |
постиндустриальное производство информационное общество |
||||||||||||||||
|
Антропология: |
охотники/ собиратели |
крестьяне и скотоводы |
государства |
современные комплексные общества |
|||||||||||||||
|
История религии |
магия/естественные религии |
политеизм |
монотеизм |
деизм |
атеизм |
десекуляризация |
|||||||||||||
|
Марксизм: |
первобытно-общинный строй |
рабовладельческий строй |
феодальный строй |
капиталистический строй |
социализм |
коммунизм |
|||||||||||||
|
Л.Морган: |
дикость |
варварство |
цивилизация |
||||||||||||||||
|
Ф.Теннис : |
Gemeinschaft |
Gesellschaft |
|||||||||||||||||
|
Л.Леви-Брюль: |
примитивы |
цивилизованные люди |
|||||||||||||||||
|
О.Конт: |
? |
теология |
метафизика |
позитивная наука |
|||||||||||||||
|
Ж.Аттали: |
? |
порядок Силы |
порядок Веры |
порядок Денег |
|||||||||||||||
|
Этносоциология: |
этнос |
народ |
нация |
гражданское общество |
глобальное общество |
постобщество |
|||||||||||||
Схема 19. Сводная таблица классификаций типов обществ в разных дисциплинах и у разных авторов

Схема 23. Этносоциологические формы и парадигмы общества


Схема 27. 4 фазы демографического процесса
БИБЛИОГРАФИЯ
Монографии автора
Дугин А.Г. Пути Абсолюта. М.: Арктогея, 1991.
Дугин А.Г. Гиперборейская теория, М.: Арктогея, 1993.
Дугин А.Г. Конспирология. М.: Арктогея, 1993; 2-е доп. изд., М., 2005.
Дугин А.Г. Консервативная Революция. М.: Арктогея, 1994.
Дугин А.Г. Мистерии Евразии. М.: Арктогея, 1996.
Дугин А.Г. Основы геополитики. М.: Арктогея, 1-е изд., 1996; 2-е изд., 1997; 3 изд. (дополненное) 1998; 4 изд. (дополненное), 2000.
Дугин А.Г. Метафизика Благой Вести. М.: Арктогея, 1996.
Дугин А.Г. Тамплиеры Пролетариата. М.: Арктогея, 1997.
Дугин А.Г. (под ред.) Конец Света (альманах по истории религий) М.:Арктогея, 1997.
Дугин А.Г. (под ред.) Наш Путь. М.: Арктогея, 1998.
Дугин А.Г. Абсолютная Родина. М.: Арктогея, 1999.
Дугин А.Г. Русская Вещь: В 2 т. М.:Арктогея. Т. 1–2. 2001.
Дугин А.Г. Евразийский Путь. М.: Арктогея-центр, 2002.
Дугин А.Г. (под редакцией) Евразийский Взгляд. М.: Арктогея-центр, 2002.
Дугин А.Г. Философия традиционализма. М.: Арктогея-Центр, 2002.
Дугин А.Г. Эволюция парадигмальных оснований науки. М.: Арктогея-центр, 2002.
Дугин А.Г. (под ред.) Основы Евразийства. М.: Арктогея-центр, 2002.
Дугин А.Г. Философия политики. М.: Арктогея, 2004.
Дугин А.Г. Проект «Евразия». М.: Яуза, 2004.
Дугин А.Г. Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева. М.:Арктогея-Центр, 2004.
Дугин А.Г. Философия войны. М.: Яуза, 2004.
Дугин А.Г. Поп-культура и знаки времени. СПб.: Амфора, 2005.
Дугин А.Г. Обществоведение для граждан Новой России. М.: Евразийское движение, 2007.
Дугин А.Г. Геополитика постмодерна. СПб.: Амфора, 2007.
Дугин А.Г. Знаки великого Норда. М.: Вече, 2008.
Дугин А.Г. Радикальный субъект и его дубль. М.: Евразийское движение, 2009.
Дугин А.Г. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли. М.: Евразийское движение, 2009.
Дугин А.Г. Четвертая политическая теория. СПб: Амфора, 2009.
Дугин А.Г. Логос и мифос. Социология глубин. М.: Академический Проект, 2010.
Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический Проект, 2010.
Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. М.: Академический Проект, 2010.
Дугин А.Г. Конец экономики. СПб.: Амфора, 2010.
Дугин А.Г. Социология русского общества. М.: Академический Проект, 2011.
Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер: возможность русской философии. М.: Академический Проект, 2011.
Дугин А.Г. Архемоодерн. М., 2011.
Дугин А.Г. Геополитика. М.: Академический Проект, 2011.
На иностранных языках
Dughin A. Continente Russia. Parma:All’isegno del veltro, 1992
Dughin A. Rusia. Misterio de Eurasia. Madrid:Grupo Libro 88, 1992.
Dugin A. Nova Hyperboreyska Revelyatsiya. Beograd, 1999.
Dugin A.Seminal writings, L., 3 v., 2000.
Dugin A. Conspirologiya. Beograd, 2001.
A. Dugin Rus jeopolitigi avrasyaci yaklasim. Ankara, 2003.
Dugin A. Osnove geopolitike. 2v. Zrenjanin:Ecopress, 2004.
Dugin Iskander. Feisaliny jeopolitidgi. Beyruth, 2004.
Dughin A. Rivoluzione Conservatrice in Russia. Roma, 2005
Douguine A. Le prophete de l’eurasisme. Paris:Avatar Editions, 2006.
Douguine A. La grande guerre des continents. Paris:Avatar Editions, 2006.
Dugin A. Misyonin avrasyagilik Nursultanain Nazarbaevin. Ankara, 2006.
Dugin A. Moska-Ankara ekseni. Istanbul:Kaynak, 2007.
Dugin Alexandar. Geopolitika Postmoderne. Bograd: Prevodilacka radioniza Rosic, 2009.
Dugin Aleksandr. A Grande Guerra dos Continentes. Lisboa: Antagonista, 2010.
Библиография на русском языке
Александренков Э.Г. Диффузионизм в зарубежной западной этнографии // Концепции зарубежной этнологии: Критически этюды. М., 1976.
Александров Ю.Г. Этнический национализм и государственное строительство. М.: РАН. Институт востоковедения, 2001.
Алексеев В.П. Этногенез. М., 1986.
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН-пресс-Ц;Кучково поле, 2001.
Андреева Г.М. Социальное познание: проблемы и перспективы: Избраные психол. труды. М.: Моск. психол.-соц ин-т; Воронеж: МОДЭК, 1999.
Анисимов А.Ф. Представления эвенков о шингкенах и проблема происхождения первобытной религии / Сборник музея антропологии и этнографии. 1949. Т. 12. С. 160–194.
Анисимов А.Ф. Шаманские духи по воззрениям эвенков и тотемические истоки шаманства // Сборник музея антропологии и этнографии. 1951. Т. 13. С. 226.
Антология русской классической социологии: Тексты / Сост. и коммент. Д.С. Клементьева, Л.Н. Панковой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995.
Анурин В.Ф. Основы социологических знаний. Н. Новгород: НКИ, 1998.
Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983.
Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1992.
Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М. Этносоциологические исследования в СССР // Социологические исследования. №1. М., 1981.
Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Кондратьев В.С., Сусоколов А.А. Этносоциология: цели, методы, результаты исследования. М., 1984.
Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология: Учебное пособие для вузов. М., 1999.
Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург, 1999.
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.
Асп Э.К. Введение в социологию /Пер. с фин. СПб.: Алетейн, 1998.
Афанасьев А. Н. Народные русские сказки: В 3 т. Москва, 1984.
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения древних славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифологическими сказаниями других родственных народов. М., 1995.
Афанасьев А. Н. Русские заветные сказки. СПб.: ТОО «Бланка», АО « Бояныч», 1994.
Афанасьев А.Н. Славянская мифология, М.; СПб., 2008.
Бартоломью Д. Статистические модели социальных процессов. М., 1985.
Батай Ж. Проклятая доля. М.: Гнозис, Логос, 2003.
Бауман 3. Социологическая теория постсовременности // Социологические очерки. Ежегодник. М., 1991.
Бейтсон Г. Экология разума: Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии / Пер. Д.Я. Федотова, М.П. Папуша. М.: Смысл, 2000.
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / Пер. с англ. Е. Руткевич; Моск. филос. фонд. М.: Academia-Центр; Медиум, 1995.
Боас Ф. Ум первобытного человека. М., 1933.
Боден Ж. Метод легкого познания истории. М., 2000.
Боден Ж. Шесть книг о государстве // Антология мировой философии. В 4 т. Т. 2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. М., 2001.
Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М, 2004.
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006.
Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. М., 2006.
Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2006.
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2006.
Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция // Философия эпохи постмодерна: Сб. переводов и рефератов. Минск, 1996
Бодрийяр Ж. Эстетика иллюзий, эстетика утраты иллюзий // Элементы. № 9. 1998.
Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи М.: Наука,1987.
Брачность, рождаемость, семья за три века. М., 1979.
Брентано Ф. Избранные работы. М., 1996.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. В 3 т. М.: Весь мир, 2007.
Бродель Ф. Структуры повседневности. М., 1986.
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983.
Бурдье П. Социология политики. М., 1993.
Бурдье П. Структуры, habitus, практики // Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. Новосибирск, 1995.
Бурлак А.С., Старостин С.А. Введение в сравнительное языкознание. Москва, 2001
Бурлак А.С., Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание. Москва: Academia, 2005
Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. М., 1861.
Бутенко И.А. Социальное познание и мир повседневности. Горизонты и тупики феноменологической. М.: Наука, 1987.
Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI в. / Пер. с англ. М.: Логос, 2003.
Вебер М. Аграрная история древнего мира. М.: Канон-пресс, 2001.
Вебер М. История хозяйства. Город. М.: Канон пресс-Ц, 2001.
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. Международный философский журнал. М., 1992, №1
Вернадский Г.В. Московское царство: В 2 ч. Тверь–М.: «Леан»; «Аграф», 1997.
Вернадский Г.В. Древняя Русь. Тверь–М.: «Леан»; «Аграф», 1996.
Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь–М.: «Леан»; «Аграф», 1997.
Вернадский Г.В. Начертание русской истории. Прага, 1927.
Вернадский Г.В. Опыт истории Евразии. Берлин, 1934.
Вернадский Г.В. Русская историография. М.: «Аграф», 1998.
Вернадский Г.В. Русская история. М.: «Аграф», 1997.
Вернадский Г.В. Россия в средние века. Тверь–М.: «Леан»; «Аграф», 1997.
Вико Дж. Собрание сочинений. М., 1986.
Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками: В 2 т. СПб., 1908.
Витгенштейн Л. Философские работы: В 2 ч. М.: Гнозис, 1994.
Витте С. Ю. По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист. М.: Директ-Медиа, 2007.
Воронин Н.Н. Медвежий культ в Верхнем Поволжье в ХI веке // Краеведческие записки. Ярославль, 1960. Вып. IV.
Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1995.
Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: Социология М. Вебера и веберовский ренессанс. М.: Политиздат, 1991.
Гваттари Ф. Язык, сознание и общество (О производстве субъективности) // ЛОГОС: Ленинградские международные чтения по философии культуры. Кн. 1. Л., 1991.
Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб., 1993.
Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Гегель Г.В.Ф. Система наук. СПб: Наука, 1999.
Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 2009.
Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
Геллнер Э. Условия свободы. М., 2004.
Генон Р. Атлантида и Гиперборея // «Милый Ангел». № 1. М., 2000.
Генон Р. Восток и Запад. М., 2005.
Генон Р. Духовное владычество и мирская власть // Волшебная Гора. 1997–1998. № 67.
Генон Р. Кризис современного мира. М., 1991.
Генон Р. Символы священной науки. М., 1997.
Генон Р. Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм Данте. М., 2003.
Генон Р. Человек и его осуществление согласно Веданте. Восточная метафизика. М., 2004.
Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. Серия «Памятники исторической мысли». М.: Издательство «Наука», 1977.
Геродот. История. М., 2008.
Гидденс Э. Социология / Пер. с англ. 2-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2005.
Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический Проект, 2005.
Гидденс Э.Э. Постмодерн //Философия истории. М., 1995.
Гиддингс Ф.Г. Основания социологии. Киев–Харьков, 1898.
Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Избранные произведения. Т. 1–2. М., 1964.
Гобино Ж. А. Опыт о неравенстве человеческих рас. М.: Самотека, 2007.
Голосенко И.А. Социологическая литература России второй половины начала XX века. Библиографический указатель. М.: Онега. 1995.
Голосенко И.А. Социология в дореволюционной России (науковедческие аспекты) // Филос. науки. 1988. № 1.
Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX–XX вв. М., 1995.
Голубовский П.В. История Смоленской земли до начала XV в. Киев, 1895.
Голубовский П.В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар: История южно-русских степей IX–XII ст. Киев, 1884.
Голубовский П.В. История Северской земли до половины XIV ст. Киев, 1881.
Голубовский П.В. Лекции по древнейшей русской истории. Киев, 1904.
Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности. М., 2003.
Греймас А.-Ж. Размышления об актантных моделях // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология, 1996. № 1.
Греймас А.-Ж. Структурная семантика, М., 2008.
Громыко М.М. Дохристианские верования в быту сибирских крестьян ХVIII–ХIХ веков // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства в ХVII — начале ХХ в. Новосибирск, 1975.
Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л., 1990.
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 2009.
Гумилев Л.Н. Историко-философские труды князя Н.С. Трубецкого (заметки последнего евразийца) // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М.: Прогресс, 1995; Заметки последнего евразийца. Интервью с Л.Н. Гумилевым //Наше наследие. 1991. № 3.
Гумилев Л.Н. О термине «этнос» //Доклады отделений комиссий Географического общества СССР. Вып. 3. 1967.
Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории. СПб, 1992.
Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. М.: Айрис-Пресс, 2008.
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1992.
Гумплович Л. Социология и политика. М.: Изд. В. Бонч-Бруевича, 1895.
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1. [3]. М.: ДИК, 1999.
Гуссерль Э. Идея феноменологии. М.: Гуманитарная академия, 2008.
Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука, 1998
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию. СПБ: Владимир Даль, 2004.
Гуссерль Э. Логические исследования. Пролегомены к чистой логике. СПб., 1909.
Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени: Собр. соч. Т. 1. М., 1994.
Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск.: Сагуна, 1994
Гухман М.М. Э. Сепир и «этнографическая лингвистика» // Вопросы языкознания. № 1. М., 1954.
Гюнтер Г. Ф. К. Избранные работы по расологии. М., 2005.
Давыдов A.A. Социология как мультпарадигмальная наука // Социологические исследования. 1992. № 9. С. 85–87.
Давыдов Ю. Современность под знаком «пост»// Континент. М., Париж. 1996. № 89.
Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского социологического учения. М.: Мартис, 1998.
Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1862.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-романскому. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета; Издательство «Глаголь», 1995.
Дебор Г. Общество Спектакля. М., 2000.
Декарт Р. Сочинения. М., Наука, 2006.
Делез Ж. Логика смысла. М., Екатеринбург, 1998.
Делез Ж. Ницше и философия. М., 2003.
Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998.
Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М., 1997.
Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007.
Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома // Философия эпохи постмодерна / Сб. переводов и рефератов. Минск, 1996.
Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Академический Проект, 2009.
Денисова Г.С., Радовель М.Р. Этносоциология. Ростов-на-Дону., 2000.
Деррида Ж. Московские лекции. Свердловск, 1991.
Деррида Ж. Эссе об имени. М.–СПб:Алетейя, 1998.
Джемаль Г. Революция пророков. М.: Ультра. Культура, 2003.
Джемс У. Многообразие религиозного опыта. СПб, 1992.
Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1997
Добреньков В.И. Социология: В 3 т. Т. 1: Методология и история / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. М., 2000
Добреньков В.И. Социология: В 3 т. Т. 2: Социальная структура и стратификация / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. М., 2000
Добреньков В.И. Социология: В 3 т. Т. 3: Социальные институты и процессы / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. М., 2000.
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15 т. Т. 1. Теория и методология, М. 2003.
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.
Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст. М., 2001.
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана. М.: Канон, 1995.
Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: Тотемическая система в Австралии // Мистика: Религия: Наука: Классики мирового религиоведения. М., 1998.
Зеленин Д.К. Библиографический указатель русской этнографической литературы о внешнем быте народов России. 1700–1910 гг. СПб., 1913.
Зеленин Д.К. Очерки русской мифологии. Петроград, 1916.
Зигмунд Фрейд. Тотем и табу. СПб.: Азбука-классика, 2005.
Золотарев А.М. Роовой строй и первобытная мифология.М.,1964.
Зомбарт В. Буржуа. М., 1994.
Зомбарт В. Социология / Пер. с нем. И. Д. Маркусона. М.: УРСС, 2003.
Зомбарт В. Торгаши и герои/ Зомбарт В. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2. СПб.: Владимир Даль, 2005.
Иванов Вяч.В. Бинарные структуры в семиотических системах / Системные исследования. Ежегодник. 1972. М., 1972.
Иванов Вяч.В. Дуальные структуры в антропологии. М.:РГГУ, 2010.
Иванов Вяч.В. К лингвистическому и культурно-антропологическому аспектам проблем антропогенеза // Ранняя этническая история народов Восточной Азии. М., 1977.
Иванов Вяч.В. Категория времени в искусстве и культуре XX века // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
Иванов Вяч.В. Клод Леви-Строс и структурная антропология // Природа. 1978, № 1.
Иванов Вяч.В. Лингвистика и гуманитарные проблемы семиотики // ИАН СССР. Серия языка и литературы. Т. 27. 1968. № 8.
Иванов Вяч.В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.
Иванов Вяч.В., Лекомцев Ю.К. Проблемы структурной типологии // Лингвистическая типология и восточные языки. М., 1965
Иванов Вяч.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
Иванов Вяч.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965.
Иванов Вяч.В. Двоичная символическая классификация в африканских и азиатских традициях // Народы Азии и Африки. М., 1969, №5
Иванов Вяч.В. Дуальная организация первобытных народов и происхождение дуалистических космогоний (рец. на кн. Золотарев, 1964) // Советская археология. 1968. № 4
Иванов Вяч.В. Заметки о типологическом и сравнительно-историческом исследовании римской и индоевропейской мифологии // Semeiotike. Труды по знаковым системам. Т. 4. Тарту, 1969.
Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. М., 1991.
Иллич-Свитыч В.М. Материалы к сравнительному словарю ностратических языков. М., 1965.
Ильин В.В. Теоретическое и эмпирическое в социологии: смена парадигмы? //Социологические исследования., 1996. № 10. С. 15–21.
Ильин В.В. Теория познания. Эпистемология. М.: Изд-во МГУ, 1994.
Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
Ильясов Л. Культура чеченского народа. М., 2009.
Ионин Л.Г. Понимающая социология. Историко-критический анализ. М.: Наука, 1979.
Ионин Л.Г. Социология Георга Зиммеля // История буржуазной социологии ХIХ — начала ХХ века. М., 1979.
История первобытного общества. Т. 1, 2,3. М., 1988
История русской социологии (дооктябрьский период). Вып. 7. Саратов: Изд-во СГУ, 1994.
Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Л., 1991.
Кабыща А.В., Тульчинский М.Р. Структура социологического знания и ее изменение в 1984–1990 гг. М., 1993.
Калхун К. Национализм. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006.
Кант И. К вечному миру // Кант И. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М.: Мысль, 1966.
Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 2006.
Кармель А. Иудаизм: еврейский образ жизни: Обоснования и пояснения. Иерусалим.: МИЛИ, 1994.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.
Кастельс М. Россия в информационную эпоху // Мир России. 2001. № 1. С. 35–66.
Килиевич С.Р. Детинец Киева IX — первой половины XIII Киев., 1982.
Ковалевский М. Социология на Западе и в России / Новые идеи в социологии. 1913. № 1.
Ковалевский М.М. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. Т. 1. М., 1906.
Кожев А. Атеизм. М., Праксис, 2007.
Кожев А. В. Идея смерти в философии Гегеля. М.: Логос; Прогресс-Традиция, 1998.
Кожев А. Понятие власти. М., Праксис, 2006.
Колмогоров А.Н. О принципе tertium non datur // Математический собоник. 1927. С. 646–667.
Корбен А. Свет Славы и Святой Грааль. М.: Волшебная Гора, 2006.
Корбен А. Световой человек в иранском суфизме // Волшебная Гора. № VIII. М.: 2002.
Корбен А. Социальные эманации // Ароматы и запахи в культуре. М.: НЛО, 2003.
Коржева Э.М. Социологическая теория познания Э. Дюркгейма / Из истории буржуазной социологии ХIХ–ХХ веков. М., 1968.
Коркмазов А. Ю. Проблема этноса и этничности в науке: в поисках парадигмы // Сборник научных трудов. Выпуск 1 (11). Серия «Гуманитарные науки» / Северо-Кавказский государственный технический университет. Ставрополь., 2004.
Кравченко А.И. Культурология: Словарь. М.: Академический Проект, 2000.
Кравченко А.И. Основы социологии: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. М., 2000.
Кравченко А.И. Социальная антропология: Учеб. пособие. М.: Академ. проект, 2003.
Кравченко А.И. Социология. Хрестоматия.М., 1997
Кравченко С.А. Социология: парадигмы и темы. М., 1997.
Крюков М. В. Формы социальной организации древних китайцев. М., 1967.
Ксенофонтов Г.В. Легенды и рассаказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов. М.: Безбожник, 1930.
Кузанский Н. Сочинения: В 2 т. М.,1979–1980.
Кукушкина Е.И. Русская социология XIX — начала XX века. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993.
Кули Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок. М., Идея-Пресс, 2001.
Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
Кычанов Е.И., Мельниченко Б.Н. История Тибета с древнейших времен до наших дней. М.: Вост. лит., 2005.
Лазарефельд П. Методологические проблемы социологии // Социология сегодня. М., 1965.
Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.
Лакатос И. Доказательства и опровержения. М., 1967.
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.: Медиум, 1995.
Ламанский В.И. Национальности итальянская и славянская в политическом и культурном отношениях// Отечественные записки. 1862.
Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. Прага, 1916.
Лебон Г. Психология народов и масс. М., Макет, 1995.
Левада Ю. Уроки «атипичной» ситуации: попытка социол. анализа // Мониторинг обществ. мнения. 2003.
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Психология мышления. М: Изд-во МГУ, 1980.
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.
Леви-Строс К. Миф. Ритуал, генетика // Природа. М., 1978.
Леви-Строс К. Мифологики: В 4 т. М.: ИД «Флюид», 2007.
Леви-Строс К. Печальные тропики. М.: АСТ, 1999.
Леви-Строс К. Путь масок. М.: Республика, 2001.
Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.
Леви-Строс К. Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль. М.: Академический Проект, 2008.
Лекторский В.А., Швырев В.С. Методологический анализ науки (типы и уровни) // Философия. Методология. Наука. М., 1972.
Ленин В.И. К вопросу о национальностях или об автономизации // Полн. собр. соч. Т. 45.
Леонтьев К. Восток, Россия и Славянство. М., 1996.
Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010.
Лиoтap Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998
Лиотар Ж.-Ф. Заметка о смыслах «пост» // Иностранная литература. М., 1994, № 1.
Липман У. Общественное мнение. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004.
Лист Ф. Национальная система политической экономии. СПб.: А.Э. Мертенс, 1891.
Лобода А. М. Русский богатырский эпос. Опыт критико-библиографического обзора трудов по русскому богатырскому эпосу. Киев: ип. Имп.Ун-та св. Владимира, акц. о-ва печ. и изд. Дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904.
Локк Дж. Два трактата о правлении. М., 2009.
Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994.
Лоренц К. Человек находит друга. М., 2010.
Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф–имя–культура // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973.
М.М. Ковалевский в истории российской социологии и общест-венной мысли. К 145-летию со дня рождения М. М. Ковалевского. Сб. ст. /СПбГУ. Рус. социол. о-во им. М. М. Ковалевского. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996.
Макиавелли Н. Государь. М.: Планета, 1990.
Макиавелли Н. Избранные произведения. М., 1982
Малиновский Б. Магия, наука, религия // Магический кристалл: Магия глазами ученых и чародеев. М., 1998.
Малиновский Бронислав. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М.: РОССПЭН, 2004.
Малиновский Бронислав. Научная теория культуры. М.: Объединенное Гуманитарное Издательство, 2005.
Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
Марков Б.В., Шаронов В.В. Очерки социальной антропологии. СПб, 1995
Марков Г.Е. Немецкая этнология: Учебное пособие. М., 2004.
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. М.: Политиздат. 1988.
Масионис Д. Социология. 9-е изд. СПб.: Питер, 2004
Маффесоли М. Околдованность мира или божественное социальное // Социо-логос. Вып. 1. М.: Прогресс, 1991.
Мелентьева Н.В. Общая теория восстания Герда Бергфлета // Элементы. 1994. № 5.
Мельшиор-Бонне С. История зеркала. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
Мерло-Понти М. В защиту философии. М., 1996.
Мид М. Культура и мир детства // Избранные произведения. М., 1988.
Миллер Вс.Ф. Осетинские этюды. Ч. 1–3. М., 1881–1887.
Миллс Ч.Р. Властвующая элита / Пер. с англ. М.: Иностранная литература, 1959.
Милль Дж. С. О свободе. СПб, 1906.
Мир нашего завтра: антология соврем. классической прогностики / Ред. сост. и авт. предисл. И.В. Бестужев-Лада. М.: Эксмо: Алгоритм, 2003
Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений. Санкт-Петербург, 1911.
Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М.: Восточная литература, 1996.
Мосс М. Социальные функции священного // Мосс М. Избр. произв. СПб., 2000.
Мулуд Н. Современный структурализм. М., 1973.
Надеждин Н.И. Об этнографическом изучении народности русской. СПб.:Русское географическое общество, 1846.
Нарта М. Теория элит и политика. М., 1978.
Несанелис Д.А., Семенов В.А. Традиционная этнография народа коми в работах П.А. Сорокина // Рубеж: Альманах социальных исследований. Сыктывкар., 1991.
Нечуй-Левицкий И. С. Криве дзеркало украинской мови. Київ., 1912.
Николова М. Основные философские проблемы французского структурализма. М., 1975.
Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М.: Культурная Революция, 2005.
Ницше Ф. Генеалогия морали. М.: Азбука, 2007.
Новикова С.С. История развития социологии в России: Учеб. пособие. М.: Изд. Ин-т практ. психологии. Воронеж: НПО МОДЭК, 1996.
Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., Новое издательство, 2004.
Нухаев Х.А. Ведено или Вашингтон? М.: Арктогея-Центр, 2001.
Омельяновский М.Э. (ред.) Логика и методология науки. М., 1967.
Осипов Г.В. Возрождение социологии в России. Как это было на самом деле // Соц. исслед. 2008.
Осипов Г.В. Российская социология в XXI веке // Социолог. исслед. 2004.
Отто Р. Священное. СПб.: АНО «Издательство СПбГУ», 2008.
Парето В. Комедиум о общей социологии. М., 2008.
Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000.
Петров А.А. Лексика духовной культуры эвенов. Ленинград., 1991.
Платон. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. Часть 1. СПб., 2007.
Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997.
Погодин А.Л. Краткий очерк истории славян. М.: Едиториал УРСС, 2003.
Поппер К. Открытое общество и его враги. М.: Международный фонд «Культурная инициатива», 1992.
Прокофьева Е.Д. К вопросу о социальной организации селькупов // Труды института этнграфии. 1952. Т. 18. С. 88–107.
Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. М., 2010.
Пропп В. Морфология волшебной сказки. М., 2006.
Пропп В.Я. Русский героический эпос. М., Лабиринт, 1999.
Пропп В.Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976.
Пыпин А.Н. История русской этнографии: В 4 т. СПб., 1890–1892.
Радин П. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев с комментариями К.Г. Юнга и К.К. Кереньи. М., 1999.
Радлов В.В. Сибирские древности//Материалы по археологии России, издаваемые Императорской археологической комиссией. Санкт-Петербург, 1888.
Райх В. Психология масс и фашизм. М., 2004.
Ратцель Ф. Народоведение: В 2 т. СПб.: «Просвещение», 1902–1903.
Ратцель Ф. Народоведение: В 2-х т. СПб., 1900–1901.
Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М., 1995.
Рикер П. Человек как предмет философии // Вопросы философии. 1989. № 2.
Ритцер Д. Современные социологические теории // Пер. с англ. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002.
Рорти Р. Философия и зеркало природы / Пер. с англ.; науч. ред. В.В. Целищев. Новосибирск.: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997.
Рохмистров В.Г. Учение Парменида // AKADHMEIA: Материалы и исследования по истории платонизма. СПб., 2003
Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. М., 1961.
Руткевич Е.Д. Феноменологическая социология знания. 1993
Руткевич М.Н. Макросоциология: Методические очерки. М., 1995.
Руткевич М.Н. Общество как система: Социол. очерки. СПб., 2001.
Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. Историко-географический анализ. М., 1979.
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян, М., 1986.
Самнер У. Народные обычаи. СПб, 1914.
Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989.
Сахаров И.П. Сказания русского народа о семейной жизни своих предков. Ч. I–III. СПб., 1836–1837.
Сепир Э. Статьи. М., 2007.
Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV—XVI). М.: Индрик, 1998.
Снегирев М.И. О лубочных картинках русского народа. М., 1844.
Снегирев М.И. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. I–IV. М., 1837–1839.
Современная миграция населения. М., 1985.
Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998.
Сорель Ж. Введение в изучение современного хозяйства. СПб., 1908.
Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии, М., 1994.
Сорокин П.А. Преступление и кара. Подвиг и награда. М.: Астрель, 2006.
Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008.
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006.
Сорокин П.А. Социальная мобильность. М., 2005.
Сорокин П.А. Социология вчера, сегодня и завтра // Социологические исследования. 1999. № 7. С. 115–124.
Сорокин П.А. Социология революции. М.: АСТ, 2008.
Соссюр де Ф. Курс общей лингвистики. М., 2009.
Социология в России. М., 1998
Социология сегодня: Проблемы и перспективы (Американская буржуаз-ная социология середины XX века) / Сост. и общ. ред. В.В. Винокурова, А.Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1965.
Социология современности: Курсы лекций по социологии для высших учеб. завед. РФ / Под ред. К.О. Магомедова. М., 1996.
Сталин И. В. Сочинения. М.: Государственное издательство политической литературы, 1952
Сумцов Н.Ф. О свадебных обрядах. Харьков, 1881.
Таванец П.А. Логическая структура научного знания. М. Наука, 1965.
Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989.
Тард Г. Происхождение семьи и собственности. М., УРСС, 2007.
Тард Г. Социальная логика. М., 1996.
Татищев В. История Российская: В 5 т. М., 2003.
Теннис Ф. Общность и общество. СПб.: Владимир Даль, 2002.
Терборн Г. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая деятельность: объяснение в социологии и социальной нау-ке // THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и система. Альманах. Научный метод. М., 1994. Т. 2. Вып. 4. С. 97–118.
Тилак Б.Г. Арктическая родина в ведах / Пер. с англ. Н.Р. Гусевой. М., Гранд; Фаир-Пресс, 2001.
Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 1990–1992 гг. М., 2009.
Тих Н.А. Предыстория обществва. Л.,1970.
Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1990.
Топоров В.Н. Этимологические заметки (славяно-италийские параллели) // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. Вып. 25. М., 1958.
Тоффлер О. Эра смещения власти // Философия истории: Антология. М., 1994.
Тощенко Ж.Т. Возможна ли новая парадигма социологического знания? // Социологические исследования., 1991. № 7. С. 17–24.
Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. М., 1987.
Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М., 2000.
Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М., 1960.
Тэйлор Э.Б. Введение к изучению человека и цивилизации: (Антропология). М., 1924.
Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.,1986.
Филиппов Л.И. Структурализм (Философские аспекты) // Буржуазная философия XX века. М., 1974.
Фихте И.Г. Речи к немецкой нации. Санкт-Петербург: Издательство Наука, 2009.
Фрезер Джеймс Джордж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.: Политиздат, 1980.
Фрезер Джеймс Джордж. Фольклор в Ветхом Завете. М.: Политиздат,1990.
Фрейд З. Тотем и табу. М., 1923.
Фрейд З. Я и Оно. Хрестоматия по истории психологии. М.: Изд-во МГУ, 1980.
Фромм Э. Бегство от свободы. М., 2008.
Фроянов И.Я. Драма русской истории: На пути к Опричнине. М., 2007.
Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 2010.
Фуко M. Надзирать и наказывать. M., 1999.
Фуко M. Что такое Просвещение // Вопросы методологии. № 1–2. 1995.
Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.
Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистериум-Касталь, 1996.
Фуко М. Герменевтика субъекта // Социо-Логос. М., 1991.
Фуко М. Забота о себе. История сексуальности. Киев, 1998.
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997.
Фуко М. Рождении клиники. М., 1998.
Фуко М. Слова и вещи. М., 1977.
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек, М., 2004.
Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект // Вопросы философии. 1992. № 4
Хайдеггер M. Учение Платона об истине // Историко-философский ежегодник. М., 1986.
Хайдеггер М. Бытие и время. Тбилиси, 1989.
Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб., Высшая религиозно-философская школа, 1997.
Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., Республика, 1993.
Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гельдерлина. СПб.: Академический Проект, 2003.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2007.
Хейзинга Й. Homo Ludens: Опыт определения игрового элемента культуры. М., 1992.
Хейс Д. Причинный анализ в социологических исследованиях. М., 1981.
Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М. СПб., Медиум, Ювента, 1997.
Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. М., 1985.
Чемберлен Х. С. Арийское миросозерцание. М., 1913.
Широкогоров С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. М.:Кафедра Социологии Международных Отношений Социологического факультета МГУ, 2010.
Шихирев П.Н. Современная социальная психология США. М: Наука, 1979. С. 86.
Шмитт К. Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. СПб.: Наука, 2006.
Шмитт К. Номос Земли: Civitas Terrena. М., 2008.
Шмитт К. Политическая теология. М., 2000
Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 35–67.
Шмитт К. Эпоха деполитизаций и нейтрализаций // Социологическое обозрение. Т. 2. № 1. М., 2002.
Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. М., 2006.
Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998.
Шпенглер О. Закат Европы. // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.
Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. М., 1927.
Штернберг Л.Я. Первобытная религия. Л., 1936.
Штомпка П. Много социологий для одного мира // Социологические исследования. 1991. № 2. С. 13–23.
Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Академический Проект, 2001.
Элиаде М. Космос и история. М., 1987.
Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб.: Алетейя, 1998.
Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М., 1996.
Элиаде М. Религии Австралии. СПб.: Университетская книга, 1998.
Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994.
Элиаде М. Священные тексты народов мира. М., 1998.
Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М.-СПб.: Университетская книга, 1998.
Элиаде М. Шаманизм. Архаические техники экстаза. Киев: София, 1998.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 2009.
Этнические и региональные конфликты в Евразии: В 3 т. Т. 1. Центральная Азия и Кавказ; Том 2. Россия, Украина, Белоруссия; Том 3. Международный опыт разрешения этнических конфликтов. М., 1997.
Юдин Ю.И. Русская бытовая сказка. М., Академия, 1998.
Юнг К. Воспоминания, сновидения, размышления / Пер. В. Поликарпов. Мн., 2009.
Юнг К. Г. Работы по психиатрии. СПб.: Академический Проект, 2000.
Юнг К.Г. AION. Исследование феноменологии самости. М., 1997.
Юнг К.Г. Mysterium coniunctions. М.–К., 1997.
Юнг К.Г. Алхимия снов. СПб., 1997.
Юнг К.Г. Аналитическая психология. Прошлое и настоящее. М., 1997.
Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991.
Юнг К.Г. Бог и бессознательное. М., 1998.
Юнг К.Г. Божественный ребенок. М., 1997.
Юнг К.Г. Дух Меркурия. М., 1996.
Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996.
Юнг К.Г. О современных мифах. М., 1994.
Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. СПб., 2002.
Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1994.
Юнг К.Г. Синхронистичность. М., 1997.
Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуации. М., 1996.
Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. Киев, 1995.
Юнг К.Г. Человек и его символы. СПб., 1996.
Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985.
Якобсон Р. О. Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии. // VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. Т. 5. М., 1970.
Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
Библиография на иностранных языках
Abaev V.I. Zur Palaontologie des Liebes und des Hasses//Izbrannye sotchineniya, v. 2, Vladikavkaz, 1995.
Adam B. Time in Social Theory. Philadelphia: Temple University Press, 1990.
Adorno T.W. Negative Dialectics. New York: Seabury Press, 1979.
Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York: Verso, 1991.
Anderson B. Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1990.
Apocalypse Culture edited by Adam Parfrey. Los Angeles, 1988.
Archer Margaret Scotford, Tritter Jonathan Q. Rational choice theory: resisting colonization. London and New York: Routledge, 2000.
Armstrong J.A. Nations before Nationalism. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982.
Babich B. From Phenomenology to Thought, Errancy, and Desire. Dordrecht: Springer, 1995.
Bacal A. Ethnicity in the Social Sciences. A View and a Review of the Literature onEthnicity. Centre for Research in Ethnic Relations, University of Warwick, 1990.
Bachelard G. La Poétique de la reverie. Р.: PUF, 1960.
Bachelard G. La Poétique de l'espace. Р.: PUF, 1957.
Bachelard G. La Psychanalyse du feu. Paris: Gallimard, 1949.
Bachelard G. La Terre et les rêveries de la volonté: essai sur l'imagination de la matière. Paris: J. Corti, 1947.
Bachelard G. La Terre et les rêveries du repos: essai sur les images de l'intimité. Paris: J. Corti, 1948.
Bachelard G. L'Air et les songes: essai sur l'imagination du mouvement. Paris: J. Corti, 1943.
Bachelard G. L'Eau et les rêves: essai sur l'imagination de la matière. Paris: J. Corti, 1942.
Bachofen J.J. Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur. Basel: B. Schwabe, 1897.
Bachofen J.J. Mutterrecht und Urreligion. Leipzig: Kroner, 1927.
Barth F. Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity // The anthropology of ethnicity: beyond «Ethnic groups and boundaries». Amsterdam: Het Spinhuis, 1994.
Barth F. Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture difference. Oslo: Universitetsforlaget, 1969.
Bastian A. Der Mensch in der Geschichte. Zur Begrundung einer psychologischen Weltanschauung. 3 Bände. Leipzig: Wigand, 1860.
Bastide R. Bresil, terre des contrastes. Paris: Hachette, 1957.
Bastide R. Images du nordeste mystique en noir et blanc. P.: Pandora éditions, 1978.
Bastide R. L’Ethnohistoire du nègre brésilien. P.: Bastidiana, 1993.
Bastide R. Psychanalyse du Cafuné. P.: Editions Bastidiana, 1996.
Bateson G. Mind and Nature: A Necessary Unity (Advances in Systems Theory, Complexity, and the Human Sciences). New Jersey: Hampton Press, 1979
Bateson G. Naven: A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three Points. Stanford: Stanford University Press, 1936.
Bateson G., Mead M. Balinese Character: A Photographic Analysis. New York Academy of Sciences, 1942.
Bauer Erwin, Fischer Eugen, Lenz Fritz. Grundriss der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene. Munchen: Lehmann, 1921.
Bech J.M. De Husserl a Heidegger: la transformación del pensamiento fenomenológico. Barcelona: Edicions Universitat, 2001.
Benedict R.F. Patterns of culture. New York: Mentor. 1960.
Bierschenk Thomas, Elwert Georg. Entwicklungshilfe und ihre Folgen. Frankfurt / New York: Campus, 1993.
Boas F. Kwakiutl Ethnography. Chicago: University of Chicago Press, 1966.
Boas F. Race, language, and culture. New York: Macmillan, 1940.
Boas F. Changes of bodily forms of the descendants of immigrants. Washington, DC: Government Printing Office, 1911.
Boas F. General Anthropology. Boston: Heath, 1938.
Boas F. Race, Language and Culture. Toronto: Collier MacMillan, 1940.
Boas F. The Central Eskimo. Lincoln: U. Nebraska Press, 1888.
Boas F. The Mind of Primitive Man. New York: Macmillan, 1938.
Boas F. The social organization and secret societies of Kwakiutl Indian. Washington, DC: Smithsonian Institution, 1897.
Bollenbeck Georg. Eine Geschichte der Kulturkritik. Von Rousseau bis Günther Anders. München: C.H. Beck Verlag, 2007.
Boulainvilliers Henri de. Histoire de l'anciein gouvernement de la France. тт. 1–3. La Haye–Amsterdam, 1727.
Bourdieu P. Algérie 60: structures économiques et structures temporelles. Paris: Minuit, 1977.
Bourdieu P. Choses dites. P.: Minuit, 1987.
Bourdieu P. La Distinction; Critique sociale du jugement. Minuit, 1979.
Bourdieu P. L'Esquisse d'une théorie de la pratique. Genève: Droz, 1972.
Brass P. R. Ethnicity and Nationalism. Theory and Comparison. Sage publications. New Delhi/Newbury Park/London, 1991.
Braudel F. Le Temps du Monde. Paris: Armand Colin, 1979.
Brentano F. Die Lehre vom richtigen Urteil. Bern: Francke, 1956.
Brentano F. Versuch über die Erkenntnis. Leipzig: Meiner, 1925.
Brentano F. Vom sinnlichen und noetischen Bewußtsein. (Psychologie vom empirischen Standpukt, vol. 3). Leipzig: Meiner, 1928.
Brentano F. Wahrheit und Evidenz. Leipzig: Meiner, 1930.
Breuilly J. Nationalism, power and modernity in nineteenth-century Germany. London: German Historical Institute, 2007.
Breuilly John. Nationalism and the State. 2nd ed. Chicago: Chicago University Press, 1994.
Chamberlain H.S. Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. Bd. 1–2. Munchen: Bruckmann, 1899.
Chatterjee P. Nationalist Thought and the Colonial World. London: Zed Books, 1986.
Cochin Augustin. La Révolution et la Libre-Pensee. Paris: Plon-Nourrit, 1924.
Cohen R. Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology// Annual Review of Anthropology 1978. №7. C. 379–403.
Cole D. (ed.) Franz Boas' Baffin Island Letter-Diary, 1883–1884/ Stocking George W.Jr. Observers Observed. Essays on Ethnographic Fieldwork. Madison: The University of Wisconsin Press, 1983. C. 33.
Connor W. Ethnonationalism. The Quest for Understanding. Princeton: Princeton University Press, 1994.
Corbin H. Le paradoxe du monothéisme, Р.: l'Herne, 1981.
Corbin H. L'homme de lumière dans le soufisme iranien. Р.: Éditions Présence, 1971.
Corbin H. L'Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn'Arabî. Р.: Flammarion, 1977.
Corbin H. Temps cyclique et gnose ismaélienne. Р., 1982.
Cornell S., Hartmann D. Ethnicity and Race: Making Identities in a Changing World. Thousand Oaks, CA: Pine Forge, 1998.
Darwin Charles. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. London: John Murray, 1859.
Deleuze G., Guattari F. L'Anti-Oedipe. Paris: Les Editions de Minui, 1972.
Derrida J. Spectres de Marx: l'état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale. Paris: Éditions Galilée, 1993
Dibie P., Wulf C. L’ethnosociologie des rencontres interculturelles. Paris: Anthropos, 1998.
Du Bois C. 1970 Ghost dance. Berkeley: University of California Press, 1930.
Du Bois C. The people of Alor; a social-psychological study of an East Indian island. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1944.
Dumezil G. Les Dieux indo-européens, Paris:Press Universitaire Francaise,1952.
Dumezil G. Esquisses de mythologie : Apollon sonore – La Courtisane et les seigneurs colorés – L'Oubli de l'homme et l'honneur des dieux – Le Roman des jumeaux. Paris: Gallimard, 2003.
Dumezil G. Flamen-Brahman. Paris: Geuthner, 1935.
Dumezil G. Jupiter Mars Quirinus. 4v. Paris:Gallimard, 1941–1948.
Dumezil G. Les Dieux des Indo-europeens, Paris: Presses universitaires de France. 1952.
Dumezil G. Loki. Paris: Flammarion, 1995.
Dumezil G. Mythe et épopée. I, II, III. Paris: Gallimard, 1995.
Dumezil G. Mythes et dieux des Germains – Essai d'interprétation comparative. Paris:Press Universitaire Francaise, 1939.
Dumezil G.Oubli de l’homme et l’honneur des dieux. Paris: Gallimard, 1985.
Dumont L. Essais sur l'individualisme. Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne. Paris: Le Seuil, 1983.
Dumont L. Homo Æqualis I: genèse et épanouissement de l'idéologie économique. Paris: Gallimard/BSH, 1977.
Dumont L. Homo Æqualis II: l'Idéologie allemande. Paris: Gallimard/BSH, 1978.
Dumont L. Homo hierarchicus. Essai sur le système des castes. Paris: Gallimard, 1971.
Durand G. Les Structures anthropologiques de l'imaginaire. Paris:Borda, 1969.
Durkheim E. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris: Libraire générale française, 1991.
Eliade M. L'Epreuve du Labyrinthe, Paris, 2006.
Eliade M. The Sacred and the Profane: The Nature of Religion . New York: Harper and Row, 1959.
Elwert G., Fett R. (eds.) Afrika zwischen Subsistenzökonomie und Imperialismus, Frankfurt: Campus Verlag, 1982.
Elwert Georg. Gewaltmärkte. Beobachtungen zur Zweckrationalität der Gewalt// Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 1997.
Elwert, Georg. Bauern und Staat in Westafrika – Die Verflechtung sozioökonomischer Sektoren am Beispiel Benin. Frankfurt a M.: Campus, 1983.
Eriksen Thomas Hylland. Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. London: Pluto Press, 1993.
Evans-Pritchard E. E. The Nuer A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: Oxford University Press. 1940.
Evans-Pritchard E. E. Kinship and Marriage among the Nuer. Oxford: Clarendon Press, 1951.
Evans-Pritchard E. E. Man and Woman among the Azande. ondon: Faber and Faber, 1974.
Evans-Pritchard E. E. The Comparative Method in Social Anthropology. London: Athlone Press, 1963.
Evans-Pritchard E. E. Theories of Primitive Religion. Oхford: Clarendon,1965.
Evans-Pritchard E. E. Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande. Oxford: Oxford University Press, 1937.
Featherstone Mike, Lash Scott, Robertson Roland (eds.), Global Modernities. London: Sage, 1995.
Fink E. Alles und Nichts. Den Haag, 1959.
Fink E. Erziehungswissenschaft und Lebenslehre. Freiburg, 1970.
Fink E. Grundfragen der antiken Philosophie. Würzburg, 1985.
Fink E. Grundfragen der systematischen Pädagogik. Freiburg, 1978.
Fink E. Grundphänomene des menschlichen Daseins. Freiburg, 1979.
Fink E. Hegel. Frankfurt, 2006.
Fink E. Heraklit. Seminar mit Martin Heidegger. Frankfurt am Main, 1970.
Fink E. Heraklit. Seminar mit Martin Heidegger. Frankfurt, 1970.
Fink E. Metaphysik und Tod. Stuttgart, 1969.
Fink E. Nachdenkliches zur ontologischen Frühgeschichte von Raum – Zeit Bewegung. Den Haag, 1957.
Fink E. Nietzsches Philosophie. Stuttgart, 1960.
Fink E. Sein und Mensch. Vom Wesen der ontologischen Erfahrung. Freiburg, 1977.
Fink E. Spiel als Weltsymbol. Stuttgart, 1960.
Fink E. Vom Wesen des Enthusiasmus. Freiburg, 1947.
Fink E. Welt und Endlichkeit. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1990.
Fortes M. Oedipus and Job in West African Religion. New York: Cambridge University Press,1959.
Fortes M. Time and Social Structure and Other Essays. London: Athlone,1970.
Fortes M., Evans-Pritchard E. E.(eds.) African Political Systems. London & New York: International African Institute, 1940.
Friedrich A. Das Bewusstsein eines naturvolkes von Haushalt und Ursprung des Lebens/ Mühlmann Wilhelm E., Muller Ernst W. (herausgeb.) Kulturanthropolgie. Koln/Berlin: Kiepenheuer&Witsch, 1966. C. 186–194.
Frobenius L. Der Ursprung der afrikanischen Kulturen. Berlin : Verlag von Gebrtider Borntraeger,1898.
Frobenius L. Kulturgeschichte Afrikas. Zürich: Phaidon, 1933.
Frobenius Leo. Paideuma: Umrisse einer Kultur- und Seelenlehre. München: Beck, 1921–1928.
Fukuyama F. 2004. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. New York: Cornell University Press, 2004.
Garfinkel H. Ethnomethodology's Program: Working out Durkheim's Aphorism. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2002.
Garfinkel H. Seeing Sociologically: The Routine Grounds of Social Action. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2006.
Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1967.
Geertz C. Agricultural Involution: the processes of ecological change in Indonesia. Berkeley, CA: University of Califomia Press, 1963.
Geertz C. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1975.
Geertz C. The Religion of Java. Glencoe: Free Press, 1960.
Geertz Clifford James Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Book, 1983.
Geertz Clifford James. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Book, 1973.
Gellner E. Culture, Identity, and Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
Gellner E. Encounters with Nationalism. Oxford (UK) and Cambridge, MA: Blackwell, 1994.
Gellner E. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell Press, 1983.
Gellner E. Plough, sword and book: the structure of human history. London: Collins Harvill, 1988.
Gellner Ernest. Saints of the Atlas. London: Weidenfeld and Nicholson, 1969.
Gellner Ernest. Words and Things. London: Gollancz, 1959.
Gerow Edwin. India As A Philosophical Problem: Mckim Marriott And The Comparative Enterprise// Journal of the American Oriental Society. 2000. July-Sept.
Giddens A. Central problems in social theories. London: macMillan Press, 1979.
Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford: Stanford University Press, 1991.
Glazer N. Ethnic Dilemmas, 1964–1982 Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.
Glazer N. Moynihan D.P. Ethnicity: theory and experience. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1975.
Glazer N., Moynihan Daniel P. (ed.) Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1975.
Gluckman M. Custom and Conflict in Africa. Oxford: Blackwell, 1966.
Gluckman M. Politics, Law and Ritual in Tribal Society. New York: Mentor, 1968.
Gluckman М. Order and Rebellion in Tribal Africa. M. London: Cohen and. West, 1963.
Gobineau Joseph Arthur de. Essai sur l'inégalité des Races humaines. Paris:Pierre Belfond, 1967.
Graebner Fritz. Methode der Ethnologie. Heidelberg: Winter. 1911.
Granet M. La Civilization Chinoise. Paris: La Renaissance du Livre, 1929.
Granet M. La pensée chinoise. Paris, Albin Michel, 1999.
Granet M. La Religion des Chinois. Paris:Gauthier-Villars, 1922.
Grant Madison. The passing of the great race or, The racial basis of European history. New York: Charles Scribner's Sons, 1916.
Greimas Algirdas J. De s dieux et des hommes : études de mythologie lithuanienne. Paris:Presse Universitaire Francaise, 1985.
Greimas Algirdas J. Du sens. P.: Éditions du Seuil, 1983.
Greimas Algirdas J. Réflexions sur les objets ethno-sémiotiques/Actes du 1er Congrès d' ethnologie européenne. Paris: Maisonneuve & Larose, 1973.
Greimas Algirdas J. Sémantique structurale : recherche et méthode. P.: Larousse, 1966.
Griaule M. Arts de l’Afrique noire. Paris: Editions du Chêne, 1947.
Griaule M. Masques Dogons. Paris: Institut d'Ethnologie, 1938.
Griaule M. Methode de l'Etnographie. Paris: Presses Universitaires de France, 1957.
Guenon R. Orient et Occident. Paris, 1976.
Guenon R. Introduction generale а l'etude des doctrines hindoues. Paris, 1964.
Guenther Н. Rasse und Stil: Gedanken uber ihre Beziehungen im Leben und in der Gesitesgeschichte der europeischen Volker. Munich: Lehmann, 1926.
Guibernau M., Hutchinson J. (eds.) Understanding Nationalism. London: Polity Press, 2001.
Gumplowich L. Der Rassenkampf. Soziologische Untersuchunge. Innsbruck: Wagner, 1883.
Gumplowicz L. Der Rassenkampf: Sociologische Untersuchungen. Innsbruck, 1883.
Gumplowicz, Ludwig. Der Rassenkampf. Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2007.
Gurvitch Georges. The Spectrum of Social Time. Dordrecht: Reidel. 1964.
Harris R. Boanerges. Cambridge, 1913.
Hechter Michael. Containing Nationalism. Oxford and New York: Oxford University Press, 2000.
Heidegger M. Brief über den Humanismus (1946). Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 1949.
Heidegger M. Der Begriff der Zeit (1924. Fr./M., 2004.
Heidegger M. Der Satz vom Grund (1955–1956). Fr./M., 1997.
Heidegger M. Die Geschichte des Seyns. Fr./M.: P. Trawny, 1998.
Heidegger M. Heraklit. 1. Der Anfang des abendländischen Denkens (Sommersemester 1943). 2. Logik. Heraklits Lehre vom Logos (Sommersemester 1944). Fr./M.: M. S. Frings, 1979.
Heidegger M. Holzwege. Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 2003.
Heidegger M. Identität und Differenz (1955–1957). F.-W. von Herrmann, Fr./M., 2006. (GA 11).
Heidegger M. Parmenides (Wintersemester 1942/43. Fr./M., 1982.
Heidegger M. Sein und Zeit (1927). Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 2006.
Heidegger M. Seminar: Vom Wesen der Sprache. Die Metaphysik der Sprache und die Wesung des Wortes. Zu Herders Abhandlung "Über den Ursprung der Sprache". Fr./M., 1999.
Heim M. The Metaphysics of Virtual Reality. Oxford, 1993.
Herder Johann Gottfried. Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit. Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 1967. С. 559.
Herder Johann Gottfried. Briefe zu Beforderung der Humanitat (1793 – 1797)/ Herder Johann Gottfried. Samtliche Werke. Bd.18. Berlin: B. Suphan, 1877 –1913. С. 308.
Herder Johann Gottfried. Ueber die Faеhigkeit zu sprechen und zu horen (1795)/ Herder Johann Gottfried. Samtliche Werke. Bd.18 Berlin: B. Suphan, 1877 –1913.
Herskovits Melville J. Acculturation: the study of culture contact. Gloucester: Mass, 1958.
Herskovits Melville J. American Negro. A Study in Racial Crossing. New York : Alfred A. Knopf, 1928.
Herskovits Melville J. Economic And The Human Factor in Changing Africa. New York: Knopf, 1962.
Herskovits Melville J. The Man and His Works. New York: Alfred A. Knopf, 1948.
Hertz R. The pre-eminence of the Right Hand: a Tsudu in Religious Polarity//Death ans Right hand. Glencoe, III, 1960.
Hill J.D. Rethinking history and myth: indigenous South American perspectives on the past. Urbana and Chicago: University of Illinois Press. 1988.
Hobsbawm E., Ranger T. O.The Invention of Tradition. Cambridge:University Press, 1983.
Hocart A.M. Kings and Councillors. Chicago/London,1970.
Hubert H. The History of the Celtic People. London: K.Paul, Trench, Trubner, 1934.
Hubert H. Étude sommaire de la représentation du temps dans la religion et la magie/ Hubert H., Mauss M. Mélanges d’histoire des religions. Paris: Librairie Félix, 1929.
Hubert H., Mauss M. A General Theory of Magic. London; New York: Routledge, 2001.
Hubert H., Mauss M. Mélanges d’histoire des religions. Paris : Librairie Félix, 1929.
Hubert H., Mauss M. Sacrifice: Its Nature and Functions. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
Hughes D.O., Trautmann T.R. Time. Histories and Ethnologies. Ann Arbor: University of Michigan Press. 1995.
Husserl E. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins. The Hague: M. Nijhoff, 1905.
Hutchinson J. Ethnicity. NY: Oxford University Press, 1996.
Inden R. Imagining India. Oxford.: Basil Blackwell, 1990.
Inden Ronald B. (ed.) Kinship in Bengali Culture. Chicago, University of Chicago Press, 1977.
Inden Ronald B. Imagining India. Oxford: Basil Blackwell, 1990.
Jaensch E. Zur Eidetik und Integrationtypologie. Leipzig., 1941.
Jaensch Erich R. Der Gegentypus. Leipzig: Barth 1938.
Jonker G. The Topography of Remembrance. The Dead, Tradition and Collective Memory in Mesopotamia. Leiden etc.: Brill. 1995.
Josseran T. La nouvelle puissance turque. P.: Ellipses, 2010.
Jung Carl. Archetypes and the Collective Unconscious. New York : Pantheon Books, 1959. С. 43.
Jung K.G. Wotan// Neue Schweizer Rundschau. 1936. Zurich. № III. March. С. 657–669
Jung K.G.. Aufsatze zur Zeitgeschichte. Zurich: Rascher, 1946.
Kardiner A. The Individual and His Society. New York: Columbia University Press, 1939.
Kedourie E. Nationalism. London:Hutchinson, 1960.
Kedourie E. Politics in the Middle East. Oxford: Oxford University Press, 1992.
Kluckhohn C. Culture and Behavior. New York: The Free Press of Glencoe, 1962.
Kluckhohn C. Navaho Witchcraft. Boston: Beacon Press, 1944.
Kluckhohn C., Kroeber A.L. A Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge, MA: Peabody Museum, 1952.
Koppers W., Schmidt W. Handbuch der Methode der kulturhistorischen Ethnologie. Miinster, Westfalen: Aschendorff, 1937.
Kroeber A. L. Configurations of Culture Growth. Berkeley:University of California Press, 1944.
Kroeber A. L. Primitive Society. New York: Knopf, 1920.
Kroeber A. L. The Superorganic. Berkeley: University of California Press, 1917.
Kroeber A.L. Anthropology. New York: Harcourt Brace and Company. 1923.
Kroeber A.L.(ed.) Handbook of the Indians of California// Bureau of American Ethnology. 1925. Bulletin No. 78. Washington.
Lapiere Richard T. Collective Behavior. New York; London: McGraw-Hill Book Co., 1938.
Lazarus M. Grundzüge der Völkerpsychologie und Kulturwissenschaft. Hamburg: Meiner, 2003.
Le Bon Gustave. Lois psychologiques de l'évolution des peuples. Paris: Felix Lacan, 1894.
Leach Edmund R. Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. Boston: Beacon Press, 1965.
Leach Edmund R. Pul Eliya village in Ceylon: a study of land tenure and kinship. NY: Cambridge University Press, 1961.
Leach Edmund R. Rethinking Anthropology. London: Athlone,1961.
Leach Edmund. R. Levi-Strauss. London: Fontana/Collins, 1970.
Leenhardt M. Do Kamo la personne et le mythe dans le monde melanesien. P.,1947.
Leenhardt M. Do Kamo, la personne et le mythe dans le monde melanesien. P:Gallimard, 1947.
Leenhardt M. Do Kamo. La personne et le mythe dans le monde melanesien. Paris, 1947.
Lefebvre H. La production de l'espace. Paris: Anthropos, 1974.
Lefebvre H. La production de l'espace. Paris: Anthropos, 1974.
Lenz F. Die Rasse als Weltprinzip. Zur Erneuerung der Ethik. Munchen: Lehmann 1933.
Leroi-Gourhan A. Archéologie du Pacifique nord. Paris: Institut d'Ethnologie, 1946.
Leroi-Gourhan A. L'Homme et la matière. Paris: Albin Michel, 1943.
Leroi-Gourhan A. Milieu et techniques. Paris: Albin Michel, 1945.
Levine R. A geography of time. New York: Basic Books, 1997.
Levine R., Wolff E. Social time: The heartbeat of culture // Angeloni E. (Ed.), Annual editions in anthropology 88/89. Guilford, CT: Dushkin, 1988.
Levi-Strauss C. Anthropologie structurale. Paris: Plon, 1958.
Levi-Strauss C. Les Structures élémentaires de la parenté. La Haye-Paris: Mouton, 1968.
Lévi-Strauss Claude. Les structures élémentaires de la parenté. Paris: Mouton, 1967.
Levi-Strauss Claude. Race et histoire. Paris: Gonthier, 1961.
Levy-Bruhl L. La Mentalite Primitive. Paris: Alcan, 1922.
Levy-Strauss C. Les Structures élémentaires de la parenté. Paris: PUF, 1949.
Levy-Strausse C. Anthropologie structurale deux. Paris: Plon, 1973.
Levy-Strausse C. La Pensée sauvage. Paris: Plon, 1962.
Levy-Strausse C. La Voie des masques. 2 vol. Paris: Plon, 1979.
Levy-Strausse C. Mythologiques, t. I : Le Cru et le cuit. Paris: Plon, 1964.
Levy-Strausse C. Mythologiques, t. II : Du miel aux cendres. Paris: Plon, 1967.
Levy-Strausse C. Mythologiques, t. III : L'Origine des manières de table Paris: Plon, 1968.
Levy-Strausse C. Mythologiques, t. IV : L'Homme nu. Paris: Plon, 1971.
Linton R. The Cultural Background of Personality. New York: Appleton-Century Crofts, 1945.
Linton R. The Study of Man. N. Y.: D. Appleton-Century, 1936.
Linton R. The Tanala: A Hill Tribe of Madagascar. Chicago: Field Museum of Natural History, 1933.
Lowie R. Are we civilized? New York: Harcourt, Brace & Co. 1929.
Lowie R. German People: A Social Portrait to 1914. N. Y.: Farrar & Rinehart, 1945.
Lowie R. Indians of the Plains. New York: American Museum of Natural History, 1954.
Lowie R. The Crow Indians. New York: Farrar & Rinehart, 1935.
Lowie R. The Origin of the State. New York, Harcourt, Brace & Co, 1927.
Maffesoli M. La Conquête du présent. Pour une sociologie de la vie quotidienne. Paris, 1979.
Maffesoli M. La Dynamique sociale. La société conflictuelle . Thèse d'Etat, Lille, Service des publications des theses, 1981.
Maffesoli M. Le Temps des tribus, Paris, 1988.
Maffesoli M. L'Ombre de Dionysos, Paris, 1982.
Maffesoli Ml. Apocalypse. Paris, 2009.
Malinowski Bronislaw. The Father in Primitive Psychology. New York: Norton, 1927.
Malinowski Bronislaw. The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia.
Mariott McKim (ed.) India through Hindu Categories. New Delhi/Newbury Park/London: Sage Publications, 1990.
Mariott McKim. The female family core explored ethnosociologically//Contributions to Indian Sociology. 1998.
Martino E. de. Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Torino 1997.
Marx W. Absolute Reflexion und Sprache. Frankfurt am Main, 1967.
Marx W. Das Spiel. Wirklichkeit und Methode. Freiburg, 1967.
Marx W. Ethos und Lebenswelt. Mitleidenkönnen als Mass. Hamburg, 1986.
Mason D. Race and Ethnicity in Modern Britain. Oxford: Oxford University Press, 1995.
Maybury-Lewis D., Almagor U. (eds.) The attraction of the Opposites. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1992.
Mead M. Coming of Age in Samoa (1927). New York, William. Morrow & Company, 1973 .
Mills C.W. The Power Elite. New York: Oxford University Press, 1956.
Mills C.W. The Sociological Imagination. Harmondsworth: Penguin, 1970.
Morgan Lewis Henry. Ancient Society. Tucson: The University of. Arizona Press, 1995.
Muhlmann W. Geschichte der Anthropologie. Bonn., 1968.
Muhlmann W. Methode der Volkerkunde. Stutgart, 1936.
Mühlmann Wilhelm E.Erfaruhng und Denken in der Sicht des Kulturanthropologen/Mühlmann Wilhelm E., Muller Ernst W. (herausgeb.) Kulturanthropolgie. Koln/Berlin: Kiepenheuer&Witsch, 1966.
Mühlmann Wilhelm Emil. Assimilation, Umvolkung, Volkwerdung. Ein globaler Überblick und ein Programm, Stuttgart, 1944.
Mühlmann Wilhelm Emil. Geschichte der Anthropologie. Wisbaden:Aula Verlag, 1986.
Mühlmann Wilhelm Emil. Methodik der Völkerkunde. Stuttgart: Ferdinand Enke, 1938.
Mühlmann Wilhelm Emil. Rassen, Ethnien, Kulturen. Neuwied, Berlin: Luchterhand, 1964.
Munn N. D. The cultural anthropology of time: a critical essay // Annual Review of Anthropology. 1992. № 21.
Nadel S.F.The Foundations of Social Anthropology. London: Cohen West, 1953.
Needham R. Counterpoints. Berkly/Los Angeles, 1987.
Needham R. Reconaissances. Toronto/Paris, 1980.
Needham R. Right and Left. Chicago, 1973.
Needham R. Symbolic classification. Santa Monica/California, 1979.
Newmann D. Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, 2006.
Nisbet R.A. Community and Power. New York: Oxford University Press, 1962.
Noel Donald L. A Theory of the Origin of Ethnic Stratification// Social Problems 1968. № 16 (2). С.157–172.
Ogden C.K. Opposition: a liguistic and psychological analysis. Bloomengton, 1967.
Oliveira de Andrade M. Roger Bastide e o Brasil. Joao Pessoa: Ed. Manufatura/Religare, 2004.
Oppenheimer F. History and Sociology. Cambridge, 1927.
Oppenheimer Franz. The State. Its History and Development viewed Sociologically. New York: Free Life Editions,1975.
Palumbo M., Shanahan O. (Eds.) Nationalism: Essays in Honor of Louis L. Snyder. Connecticut/London: Greenwood Press, 1981.
Pareto V. The Mind and Society (Trattato Di Sociologia Generale). Harcourt.: Brace,1935.
Park R.E. Race and Culture. N.Y.: The Free Press, L.: CollierMacmillan Limited, 1950.
Patterson Orlando. Dependence and Backwardness. Mona, Jamaica: Institute of Social and Economic Research, 1975.
Piaget J. The Language and Thought of the Child. New York: Ballantine, 1955.
Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Francke, 1959.
Portes Alejandro, Bach Robert L. Latin Journey: Cuban and Mexican Immigrants in the United States. Berkeley: University of California Press, 1985.
Radcliffe-Brown A.R. Method in Social Anthropology. Chicago: University of Chicago Press, 1958.
Radcliffe-Brown A.R. Structure and Function in Primitive Society. London: Cohen & West, 1952.
Radcliffe-Brown A.R. The Andaman Islanders. Cambridge: Cambridge University Press,1922.
Radcliffe-Brown, A.R. and Forde D. (eds.) African Systems of Kinship and Marriage. Oxford: Oxford University Press, 1950.
Radin P. Crashing Thunder: The Autobiography of an American Indian. New York; London: Appleton and Co., 1926.
Radin P. Monotheism among Primitive Peoples. London, 1924.
Radin P. Primitive Man as Philosopher. New York and London: D. Appleton and Company, 1927.
Radin P. Primitive Religion: Its Nature and Origin. New York: Dover, 1937.
Radin P. Social Anthropology. New York, 1932.
Radin P. The Trickster: A Study in American-Indian Mythology. London: Routledge & Kegan Paul, 1956.
Radin P. The World of Primitive Man. The Life of Science Library, no. 26. New York, 1953.
Radloff F.W. Das Schamanemtum und seine Kultus. Leipzig, 1885.
Ratzel F. Anthropogeographie. Stuttgart: J.Engelhorn, 1921.
Ratzel F. Politische Geographie. Munich: Oldenburg,1897.
Redfield R. Die Folk-Gesellschaft/ Mulmann, W. Muller E. (herausgb.) Kulturanthropologie. Koln; Berlin: Kiepenheuer&Witsch, 1966.
Redfield R. Peasant Society and Culture: An anthropological approach to civilization. Chicago: University of Chicago Press, 1956.
Redfield R. Tepoztlan, A Mexican village: A study of folk life. Chicago: Chicago University Press, 1930.
Redfield R. The Little Community. Chicago: University of Chicago, 1956.
Redfield R. The Primitive World and Its Transformations. Cambridge: Harvard University Press, 1953.
Redfield R., Linton R., Herskovits M.J. Memorandum for the Study of Acculturation//American Anthropologist. 1936. Vol. 38. No. 1.
Redfield R., Linton R., Herskovits M.J. Memorandum for the Study of Acculturation// American Anthropologist. 1936. Vol. 38, No. 1. С. 149–152.
Ricoeur P., Larre C., Panikkar R., Kagame A., Lloyd G.E.R., Neher A., Gardet L., Gourevitch A. Les Cultures et le temps. Paris: Payot/UNESCO, 1975.
Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London, 1992.
Rokeach M. Beliefs, attitudes and values: A theory of organization and change., San Francisco: Josey-Bass, Incorporated, 1972.
Rosenberg Alfred. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit. München: Hoheneichen-Verlag, 1934.
Rüstow Alexander. Ortbestimmung der Gegenwart. Eine universalgeschichtliche Kulturkritik. 3 Bde. Zurich:Ehrlenbach, 1949–1957.
Santoro P. El momento etnográfico: Giddens, Garfinkel y los problemas de la etnosociología// Revista española de investigaciones sociológicas. 2003. № 103. С. 239–255.
Sapir E. Selected Writings in Language, Culture and Personality, Вerkeley: University of California Press, 1949.
Schmidt W., Koppers. W Volker and Kulturen. Regensburg: Habbel, 1924.
Schutz A. The Phenomenology of the Social World. Evanston: Northwestern University Press. 1967.
Schutz Alfred. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Wien, 1932.
Schutz A. The Phenomenology of the Social World. Evanston: Northwestern University Press. 1967
Seidner S.S. Ethnicity, Language, and Power from a Psycholinguistic Perspective. Bruxelles: Centre de recherche sur le pluralinguisme, 1982.
Shils E. Primordial, personal, sacred and civil ties// The British Journal of Sociology. 1957. Vol. 8 No. 2 June. C. 130–145.
Shirikogorov S.M. Versuch einer Erforschung der Grundlagen des Schamanentums bei den Tungusen//Baessler-Archiv. 1935. Bd. 18. С. 79.
Simmel G. Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Leipzig, 1892.
Skinner B. Was ist Behaviorismus? Reinbek bei Hamburg: Rohwolt, 1978.
Smelser N. Social Change in the Industrial Revolution. London: Routledge and Kegan Paul, 1959.
Smith Anthony D. Nationalism: Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity, 2001.
Smith A. Nationalism and modernism. A critical survey of recent theories of nations and nationalism. London and New York., 1998.
Smith A.D. Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford. University Press,1999.
Smith A.D. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge, UK: Polity, 1995.
Smith A.D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell, 1987.
Smith Anthony D. Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford University Press, 1999.
Sombart Werner. Deutscher Sozialismus. Charlottenburg: Buchholz & Weisswange, 1934.
Sorel G. Les illusions du progres. Paris.: Marcel Riviere, 1908.
Sorokin P. A., Merton, R. K. Social Time: A Methodological and Functional Analysis// American Journal of Sociology.1937. № 42.
Spencer Herbert. A system of synthetic philosophy. V. 10. London-Edinburgh: Williams and Norgate, 1862–1896.
Sumner W. Folkways. Boston: Ginn, 1907.
Sztompka P. The Sociology of Social Change. Oxford and Cambridge.: Blackwell, 1993.
Thomas W. I., Thomas D.S. The child in America: Behavior problems and programs. New York: Knopf, 1928.
Thomas W. I., Znaniecki F. W. The Polish Peasant in Europe and America: A Classic Work in Immigration History. Urbana.: University of Illinois Press, 1996.
Thurnwald R. Die menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologischen Grundlagen, 5 B. Berlin: de Gruyter, 1931–1934.
Tönnies Ferdinand. Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1888.
Turner T. Ethno-Ethnohistory: Myth and History in Native South American Representation of Contact with Western Society/J.D.Hill (ed.) Rethinking history and myth: indigenous South American perspectives on the past. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1988.
Turner V.W. From ritual to the theatre. N.Y., 1992.
Turner V.W. Schism and Continuity in an African Society. Manchester, 1957.
Turner V.W. The anhtropology of performance. N.Y. 1992.
Turner V.W. The forest of symbols. Ithaca/N.Y., 1967.
Tylor Edward Burnett. Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization. London J. Murray, 1865.
Vierkandt Alfred. Familie, Volk und Staat in ihren gesellschaftlichen Lebensvorgängen: Eine Einführung in die Gesellschaftslehre. Stuttgart:Enke, 1936.
Vierkandt Alfred. Gesellschaftslehre. Hauptprobleme der philosophischen Soziologie. Stuttgart:Enke, 1923.
Weber M. Rationalisierung und entzauberte Welt. Schriften zu Geschichte und Soziologie. Leipzig: Phillip. Reclam Verlag, 1989.
Weber M. Wissenschaft als Beruf. München-Leipzig: Duncker & Humblot,1919.
Weber Max. Economy and Society (1922) vol. 2. Berkeley: University of California Press, 1978. С. 389.
Weber Max. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der Verstehenden Soziologie. Tübingen:Johannes Winckelmann, 1980. С. 237.
Wendorff R. Zeit und Kultur: Geschichte des Zeitbewußtseins in Europa. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1985.
Wexler P. The Ashkenazic Jews: A Slavo-Turkic People in Search of a Jewish Identity. Columbus.: Slavica, 1993.
Whorf B. The Phonetic Value of Certain Characters in Maya Writing. Millwood., 1933.
Wirth L. Urbanism as a Way of Life //American Journal of Sociology, 44. Chicago., 1938.
Wissler C. The Indians of the United States: Four Centuries of Their History and Culture. New York: Doubleday Doran, 1940.
Wissler C. Man and Culture. NY: Thomas Y. Crowell, 1923.
Wissler C. The American Indian: an Introduction to the Anthropology of the New. World . New York: Douglas C. McMurtrie, 1917.
Wittgenstein L. Philosophische Untersuchungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001.
Wundt W. Völkerpsychologie. 10 Bd. Leipzig: Engelmann, 190–920.
Yang Philip Q. Ethnic Studies: Issues and Approaches. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 2000.
Znaniecki F., Thomas W. The Polish Peasant in Europe and America. N.Y.: A.Knopf, 1927.
SUMMARY
The book is a scientific paper setting out the basic principles, methods and analytic techniques of the ethnosociology. The author understands ethnosociology as an independent field of sociology, based on the analysis of transformation of societies and social systems — from the simplest one (ethnic group) to the most complex (civil society and post-society or post-modern society) rather than the technical application of sociological principles to the study of nationalities and ethnic groups. The first section describes the major sources and schools related to ethnosociology (sociology, anthropology, ethnology, cultural, social and structural anthropology, etc.), both foreign and Russian. The basic terminological apparatus is outlined. Main research paradigms are descrided. The second section discusses the ethnosociological structure types of historical societies, regarded as the different orders of sophistication of the primary (atomic) structure (ethnicity here is taken as koinema). The axial chain of social transformations is described: ethnos-laos-nation (demos) — civil society (idiotes) — post-society. Each link is associated with particular model of identification (collective or/and individual). The third section is devoted to the application of ethnosociological conceptual tools to the analysis of contemporary Russian society and its historical roots. To present full range of the ethnosociological concepts, some of which the author introduces for the first time, is evoked a wide spectrum of knowledge from the different humanitarian fields: philosophy, history, economics, culture, linguistics, anthropology, the comparative religion studies.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел 1
ВВЕДЕНИЕ В ЭТНОСОЦИОЛОГИЮ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ
ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ 5
§ 1. Краткий экскурс в классическую социологию 5
Основные понятия социологии. Общее и частное 5
Человек как производная от общества 7
§ 2. Введение понятия «этнос». Дефиниция 8
Этимология слова «этнос» и его синонимы 8
Определение этноса (С.М. Широкогоров) 8
Этнос как открытая общность 10
Определение этничности (М. Вебер) 10
Теории этноса в российской науке. Теория этногенеза Льва Гумилева 10
§ 3. Этнос как концепт и этнос как феномен 17
Предмет и объект этносоциологии 17
Определения этносоциологии, которые следует отбросить 18
Этнос как явление и феноменологический метод 18
Примеры этноса. Современные чеченцы 20
Главные правила этносоциологии: плюральность этносов
и классификация этносов 21
Пример пространства этноса. Лезгины 23
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ЭТНОСОЦИОЛОГИИ 25
§ 1. Базовые понятия этносоциологии (типы обществ) 25
Концепты и термины этносоциологии 25
Проблема синонимического ряда 25
Структура основных этносоциологических терминов и концептов 26
Идентичность и идентификация 26
Этническая идентификация. До Камо 27
Внутренние структуры этноса: семья, род, клан 28
Этнос и родовая идентичность. Близнечные мифы 31
Народ как этносоциологическая категория 32
Три формы творения народа: государство, религия, цивилизация 34
Обратимость соотношений этноса и народа 34
Народность не является этносоциологической категорией 35
Нация: вторая производная от этноса 36
Национальность не является этносоциологической категорией 39
Гражданское общество как этносоциологический концепт 39
Реверсивность гражданского общества 40
Глобальное общество как апофеоз гражданского общества 41
Постобщество и социология постмодернизма 42
§ 2. Инструментальные концепты этносоциологии 43
Стереотип. Этнический стереотип 43
Установка (attitude). Этнические установки 45
Применимость этносоциологических методов к сложным обществам 48
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 50
Основные методы интерпретации этнических явлений 50
Сущность примордиалистского подхода 50
Разновидности примордиализма 51
Расистский аспект изучения человеческого гена 59
Критика расового и биосоциального подходов 59
Классический конструктивизм: Э. Геллнер, Б. Андерсон, Э. Хобсбаум 63
Границы релевантности конструктивизма 64
Возникновение инструментализма 66
Инструментальный перенниализм 67
Исторический контекст появления инструменталистского подхода 68
Релевантность инструментализма и ее границы 69
Инструментализм и социология народа 70
§ 1. Германская школа этносоциологии. Культурные круги. Этнопсихология 72
Иоганн Готфрид Гердер: народы как мысли Бога 72
Иоганн Якоб Бахофен: материнское право 74
Адольф Бастиан: элементарное мышление и народное мышление 75
Фридрих Ратцель: антропогеография и народоучение 76
Роберт Гребнер: методы этнологии 77
Вильгельм Шмидт: примитивный монотеизм 77
Лео Фробениус: теллуризм, хтонизм и пайдеума 78
Людвиг Гумплович: борьба этносов 78
Франц Оппенгеймер: государство как результат этнического завоевания 80
Александр Рюстов: кочевники и крестьяне как фундаментальный тип 81
Макс Вебер: определение этничности 81
Фердинанд Теннис: Gemeinschaft и Gesellschaft 83
Вернер Зомбарт: герои и торговцы 84
Морис Лацарус: народный дух 86
Вильгельм Вундт: психология народов 86
Альфред Фиркандт: феноменология этноса 87
Зигмунд Фрейд: отцеубийство в изначальной орде 87
Карл Густав Юнг: коллективное бессознательное 88
Рихард Турнвальд: систематизация этносоциологических знаний 89
«Жизненные формы» природных народов: типология этносов 90
Семья и хозяйство в простых обществах 91
Государство, культура и право в ранних формах дифференцированных обществ 92
Значение трудов Р. Турнвальда для этносоциологии 93
Вильгельм Мюльман: этнос, народ, этноцентрум 94
Георг Эльверт: этнические конфликты и «рынки насилия» 95
§ 2. Американская школа этносоциологии. Культурная антропология.
История религий. Этнометодология 96
Терминологическое пояснение 96
Льюис Морган: древнее общество 96
Уильям Самнер: folkways и mores 97
У. Томас: этнография цивилизованных обществ с развитой культурой 98
Ф. Боас: основатель культурной антропологии 99
Альфред Кребер: культурный паттерн и сверхорганика 101
Роберт Лови: исторический партикуляризм 102
Рут Бенедикт: персонификация культурного паттерна 102
Абрам Кардинер: базовая персональность 103
Ральф Линтон: статус и роль 103
Кора дю Буа: структура модальной персональности 104
Эдвард Сепир: гипотеза языковой непереводимости 104
Клайд Клукхон: метод ценностных ориентаций 105
Клиффорд Гирц: символическая антропология 107
Кларк Висслер: культурный ареал 108
Маргарет Мид: дети — капиталисты, материалисты, циники 108
Грегори Бэйтсон: критика монотонных процессов 109
Мелвилл Херсковиц: американский негр как «базовая персональность» 110
Роберт Рэдфилд: folk-society 111
Пол Радин: фигура трикстера 111
Мирча Элиаде: вечное возвращение 112
Гарольд Гарфинкель: этнометодология не имеет никакого отношения к этносоциологии 113
МакКим Мариотт: американская этносоциология сегодня 115
Рональд Инден: за ликвидацию колониальных штампов в этносоциологии 116
Резюме американской культурной антропологии 117
§ 3. Английская школа этносоциологии. Социальная антропология. Функционализм. Эволюционизм. 118
Эдвард Тейлор: эволюционные ряды культуры и анимизм 118
Джеймс Джордж Фрезер: фигура сакрального царя 119
Бронислав Малиновский: функционализм и социальная антропология 119
Альфред Рэдклифф-Браун: социальные структуры 120
Мейер Фортес: социология африканского времени 121
Эдвард Эван Эванс-Причард: трансляция культур 122
Макс Глюкман: социальная динамика 122
Эдмонд Лич: модель гумса/гумлоа 123
Эрнест Геллнер: от «Аграрии» к «Индустрии» 124
Бенедикт Андерсон: нация как воображаемая общность 126
Джон Брейи: автономия нации 127
Эли Кедури: искоренение национализма 128
Энтони Д. Смит: этносимволизм 128
Энтони Гидденс: двойная герменевтика не является этносоциологией 129
Резюме английской социальной антропологии, исследований нации и этносоциологии 129
§ 4. Французская школа этносоциологии. Классики социологии.
Структурная антропология 130
Эмиль Дюркгейм: социальные факты и дихотомия сакральное /профанное 130
Марсель Мосс: социология дара 131
Анри Юбер: социология религиозного времени 132
Леви-Брюль: мистическое соучастие 132
Марсель Гриель: мифология догонов 133
Морис Леенгардт: личность и миф в архаических обществах 133
Марсель Гране: китайское общество 133
Клод Леви-Стросс: ключевая фигура этносоциологии 134
Равенство культур: структурная антропология 134
Элементарные структуры родства 136
Атомарная структура гендерных отношений и их шкала 139
Материнское и отцовское в социуме 140
Кросскузинные и параллель-кузинные системы 141
Луи Дюмон: иерархический человек и холизм 142
Жорж Дюмезиль: трехфункциональная теория 145
Альгирдас Греймас: социология смысла и этносемиотические объекты 147
Андре Леруа-Гуран: техника и этничность 148
Роже Бастид: этносоциальная маркировка бразильского общества 149
Жильбер Дюран: антропологические структуры воображения 150
Пьер Бурдье: ангажированная этносоциология 152
Резюме. Этноанализ и пост-этнический анализ 153
§ 1. Предыстория российской этнологии 154
Начало русской исторической науки и этнографии 154
Ранние славянофилы: Киреевский, Хомяков, Аксаковы, Самарин 154
Поздние славянофилы. Н.Я. Данилевский 155
К.Н. Леонтьев: три типа общества 155
В.И. Ламанский: греко-славянская цивилизация и средний мир 156
Русские народники и их роль в становлении этносоциологии 158
Русские социологи-классики об этносах 160
Евразийство как гуманитарная парадигма: множественность этносов и культур 161
На пороге российской этносоциологии 162
§ 2. Создание в России систематизированной этнологии как науки 164
Роль С.М. Широкогорова в создании этнологии 164
Введение понятия «этнос» и этнология как наука 164
«Социальная организация» у Широкогорова 165
Теория равновесия культур — коэффициент этнического равновесия 167
Типы межэтнических взаимодействий 169
Психоментальный комплекс и шаманизм 171
Формулировка Широкогоровым основных моментов учения об этносе 172
Этнология Широкогорова и этносоциология 173
Лев Гумилев: новый этап этнологии 175
Определения этноса у Гумилева и их двусмысленность 175
Пассионарность и ее вариации 176
Неизвестная история Евразии 180
Терминология Гумилева и таксономия этносоциологии: коррекции и соответствия 180
Структурализм в СССР: В.Я. Пропп 182
В.В. Иванов, В.Н. Топоров: структуралистские исследования филологии и антропологии 183
Советская этнография и история этносов 185
Советская этнология: Ю.В. Бромлей 186
Институционализация этносоциологии в наше время 188
ЭТНОСТАТИКА. ЭТНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 191
Общая социология как подраздел этносоциологии 191
Формы изучения этноса как койнемы 191
Этноструктура и проблема этнокомпаративистики 192
Этнофеноменология и этническое мышление 193
Реверсивность этнической интенциональности 194
Оперативная магия языка и миф 196
Этноцентрум и сакральное пространство 197
Структура этноцентрума у эвенков 199
Этнос и время: этнотемпоральность 200
Этнотемпоральность и этноцентрум в аграрных и охотничьих обществах 202
Кочевые этносы и особенность их этноцентрума 203
Нуменозность и сакральность 204
§ 2. Антропология этноса. Шаман, пол, идентичность 205
Дуальность масок: swaihwe и dzonokwa 207
«Человек играющий» в этнической дуальности 209
Шаман — главная фигура этноса 211
Шаман — водитель душ и защитник этноцентрума 212
§ 1. Смысл этнодинамики в сохранении неизменной структуры этноса 216
Определение этнодинамики и феномен «опасности» 216
Шаман и его этнодинамические функции 217
Этносоциализация как процесс 218
Другие формы этносоцилизации 226
§ 3. Экономика дара: этнодинамика и обмен 227
Хозяйственный баланс архаической экономики 227
Жертвоприношение и «проклятая часть» 231
«Другой» как автономный этносоциологический феномен 236
«Другой» и раскол этноцентрума 237
§ 2. Этносоциология войны и фигура «раба» 238
Истоки войны и «противотип» 238
Оборона/нападения и «тайные общества воинов» 239
Новая этика военных союзов 240
§ 3. Л. Гумилев: старт этногенеза. Пассионарность 244
Терминологические соответствия в теории Л. Гумилева
и в этносоциологии 244
Пассионарность и этнокинетика 245
Раздел 3
ЭТНОС В КОМПЛЕКСНЫХ ОБЩЕСТВАХ. ПРОИЗВОДНЫЕ ЭТНОСА
§ 1. Народ как этносоциологическая категория 251
Важность понятия «народ» для этносоциологии 251
Этносоциология и таксономии других научных дисциплин 251
Внутренний и внешний «другой» 254
«Другой» и религия. Исключенные боги 256
Антропология народа: фигура героя 257
Этническая дуальность народа 258
Полюса народа и формы мышления 260
Социальные изменения в народе 261
Роль кочевников в лаогенезе 263
§ 2. Социологические формы исторических творений народа 264
Творения Народа: государство, религия, цивилизация 264
Социологические версии типа героя 265
Традиционное государство: миссия и насилие 267
Государство, феномен города и рождение демоса 268
§ 3. Государство как типичное творение народа 269
Распознать народ за государством 269
Вавилоно-аккадское царство 270
Тюркский каганат и Хазария 275
§ 4. Религия как этносоциологический феномен 276
Религиозность этноса и религиозность народа 276
Структура религиозного времени 277
Католичество и Православие 281
Позднейшие исламские государства 283
§ 5. Цивилизация и ее структура 283
Цивилизация и вызов расколотого мира 283
§ 1. Этносоциологический анализ нации. Вторая производная от этноса 288
Современное государство как социополитическое явление 288
Нация как особый тип общества 290
Политический и экономический характер нации. Власть и буржуазия 290
Буржуазия и ее этносоциологические характеристики 295
Национализм как инструмент создания нации 298
Две формы этносоциологического анализа нации 300
Особенности национализма и его отличие от аналогичных форм в иных
типах обществ 302
Ксенофобия, шовинизм, расизм 304
Большой национализм: консерватизм и радикализм 306
Малый национализм: автономизм, сепаратизм 308
Колониализм и антиколониализм 311
Этнические чистки, этноцид, геноцид 312
Пример Турции как иллюстрация этносоциологии нации 313
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГЛОБАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (СОЦИУМ) 316
§ 1. Социология гражданского общества 316
Гражданское общество как основной предмет социологии 316
Значение антропологии и этносоциологии 317
Гражданское общество как антитеза этноса 319
Гражданское общество и нация 320
Фигура Гражданина (А. Кожев) 321
Гражданское общество и пацифизм 323
Гражданское общество и либерализм 324
Гражданское общество и социализм 325
Гражданское общество и коммунизм 326
Гражданское общество и глобальное общество 327
Гражданское общество как фазовый переход к глобальному обществу 328
Евросоюз как этап глобального общества 331
Соединенные Штаты Америки как пример упешного гражданского
общества 331
Глобализация и районирование планеты: белый Север и небелый Юг 332
Демографические процессы в глобальном мире 335
Глобальное общество и его границы 336
§ 2. Этносоциологический анализ гражданского и глобального общества 337
Постэтничеcкий анализ производных этноса 337
Гражданское общество в цепочке этносоциологических производных 339
Трансформации языка: койне-идиом-искусственный язык 340
Современный английский как «искусственный язык» 341
Обнаружение этноса в гражданском обществе 343
Этнос и мировой пролетариат 344
Этнос на периферии глобального общества 345
Этнический жизненный мир и жизненный мир эгоцентрума 346
Бруно Латур: аналитика нонмодерна 349
Обнаружение сущности Конституции 350
§ 1. Феноменология будущего 352
Постгендер и чистая сексуальность 359
Социология клонов и сверхчеловек 360
Обобщающий образ постобщества 363
§ 2. Этносоциологическая цепь производных 364
Постобщество и глобальное общество 364
Эксцентрум в цепочке трансформаций этноса 365
Этническое измерение Постмодерна 367
КОНТЕМПОРАЛЬНЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ 370
§ 1. Современность и контемпоральность в этносоциологии 370
Теория и реальность этносоциологии актуальных обществ 370
Фукуяма и Хантингтон: спор о современности и контемпоральности 373
Потребность в критической теории археомодерна 374
Последовательность этносоциологических операций при изучении контемпоральных обществ 375
§ 2. Межэтнические отношения в контемпоральном обществе 376
Этносы и межэтнические отношения в современных обществах 376
Этническое меньшинство и практика толерантности 377
Юридическая классификация этноса в международном праве 378
Лаос и его формы в современном обществе 378
Десувернизация и демонтаж наций 380
Реальность этноса в гражданском обществе: европейские этносы 380
Иммигранты и классификация этноса 381
Этносоциология обществ археомодерна 385
Этнические конфликты и их правовая квалификация 389
Этнические конфликты в условиях археомодерна 391
Последовательность основных операций в этносоциологическом анализе этнических конфликтов 392
§ 4. Этнодемография, этномиграция 394
Этнос и демография в глобальном мире: проблема уровней 394
4 фазы демографического взрыва и фаза вымирания 395
Демографический взрыв в глобальном масштабе 397
Этнические аспекты демографии и миграции на Западе и в остальных регионах: мультикультурализм 398
§ 5. Этносоциология смешанных браков 399
Межэтнические браки и их аналитика: межнациональные браки 399
Версии межэтнических браков и их типологизация 400
Этнос и народ: гипергамия и гипогамия 401
Брак как инструмент модернизации 403
Брак как идеологический вызов 403
Смешанный брак и политические разногласия 404
Раздел 4
ЭТНОС И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ В РУССКОЙ ИСТОРИИ
ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРАЗИИ. ОСНОВНЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 407
§ 1. Индоевропейцы Евразии и их социальные структуры 407
Значение лингвистического фактора для этносоциологии 407
Основные языковые группы Северо-восточной Евразии 407
Общие черты индоевропейских народов: трехфункциональность 408
Индоевропейское кочевничество и тип «героя» 410
Коррекции трехфункциональной структуры: проблема третьей страты 412
Индоевропейцы как воины и солярные культы 414
Индоевропейский фактор и славяне 415
Балты и их этносоциологические особенности 418
§ 2. Урало-юкагирская языковая группа (финно-угорская эйкумена) 419
Евразия как финно-угорская эйкумена 419
Социальные особенности финно-угров 420
§ 3. Алтайская языковая семья: тюрки и монголы в структуре Евразии 424
Тунгусо-манчжурские этносы 424
Древние тюрки и Тюркский каганат 426
Гунны и их связь с древними тюрками 427
Тюркские народы и этносы востока Евразии 427
Хазарский каганат и его наследники 428
Азербайджан и азербайджанцы 430
Великая Булгария и ее отголоски 431
§ 3. Этносы и народы Кавказа 434
Различия в степени влияния на древних славян представителей разных языковых групп 434
Cеверо-кавказская языковая семья: абхазо-адыгская ветвь 434
Нахско-дагестанская ветвь: Кавказская Албания 437
Нахско-дагестанские этносы 438
Этносоциологические особенности палеоазиатских этносов 440
Значение палеоазиатских этносов для этносоциологии 441
ЭТНОС ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. ДРЕВНЕСЛАВЯНСКАЯ КАРТИНА МИРА.
СЛАВЯНСКИЙ ЭТНОЦЕНТРУМ. 442
§ 1. Этноцентрум восточных славян 442
Мировая река древних славян 443
Три пласта славянского язычества 445
§ 2. Племена и племенные союзы Древней Руси 446
Венеды — древнейшие славяне 446
Поляне как ядро будущего древнерусского народа 448
Северяне на границе со степью 449
Радимичи — пришельцы с Запада? 449
Кривичи — племена северо-западной Руси 449
Ильменские словене — создатели Новгородской культуры 450
Дреговичи — западный этнос болот 450
Древляне и брачные культы вод 451
Волыняне — племя семидесяти крепостей 451
Бужане в центре народа русичей 451
Белые хорваты и другие хорваты 451
Тиверцы — славянский контроль над Причерноморьем 452
Уличи — защита южного рубежа 452
Вятичи — самые восточные славяне 452
Этносоциологическая картина племен Древней Руси 453
§ 3. Славянские племена в политической системе древнего мира 454
Гардарика и политические истоки славянских городов 454
Структура древнейших славянских обществ 454
Скифия и первочеловек Тарх Тархович 455
Нашествие гуннов и империя Атиллы 456
Варяги и их функция в докиевский период 458
Этносоциологические парадигмы межэтнических процессов у древних восточных славян 458
§ 1. Образование Киевской Руси: этносоциологический анализ 460
Парадигма рождения народа в «Повести временных лет» 460
Три этносоциологических пласта древнерусского народа 462
Русские и Русь: эволюция понятия 466
Централизация Руси при Владимире 468
Религиозные реформы Владимира и принятие Православия 469
Владимир в богатырских былинах: функции русского эпоса
и осоциализация 470
Центробежные тенденции и парадигма Удельной Руси 472
Этносоциология удельных княжеств 472
Усобица Владимировичей и политика Ярослава 474
Социологическая специфика княжеств 475
Новгородская Республика: вечевая демократия 476
Западнорусская аристократия 477
Владимирско-Суздальское княжество: прообраз московского
самодержавия 477
Южные земли Руси: военная демократия 477
«Народы», которые могли бы состояться 478
Вопрос о феодализме Удельной Руси 480
Конец древнерусского народа 481
§ 3. Русь в эпоху монгольских завоеваний: этносоциологический анализ 481
Монгольский народ и монгольская империя 481
Этносоциология «Золотой Орды» 483
Принципы «Ясы» в «Золотой Орде» 484
Ассимиляция и использование русским обществом ордынских
социальных начал 486
Два пути русских княжеств в монгольский период 487
Происхождение литовской знати и гипотеза Европейской Сарматии 492
Великое княжество Миндовга 493
От Миндовга до Ягайло: возможность Западной Руси 495
Кревская уния и ее этносоциологические последствия
для Западной Руси 496
Литва в XV–XVI веках: к окончательной полонизации 497
§ 5. Этносоциология Московского царства 498
Флорентийская уния и ее отвержение Москвой 498
Освобождение от монголов и учение о Третьем Риме 499
Этносоциология великороссов в Московский период 499
Царствование Ивана IV: «турская правда и православная вера» 501
Политика Москвы в отношении этнических групп 503
Русский народ и восточнославянские этносы 505
Этносоциология раскола: этнос и старообрядчество 508
§ 7. Петровская Россия и Санкт-Петербургский период 509
Европеизация и модернизация Петра Первого 509
Этносоциология Петровских реформ: археомодерн 511
Многослойная структура Российской империи в XVIII–XIX столетиях 512
Этнос, народ, нация в Российской империи 513
§ 1. Российское (и советское) общество в первой четверти ХХ века 516
Российский народ на момент октября 1917 года 516
Марксистская теория общественного прогресса 518
Формации и этносоциологическая таксономия 519
Капитализм и Россия: идеологические парадоксы и этносоциологические трудности 520
Сталинское определение «нации» 525
СССР и советский этнопролетариат 525
Этническая структура коммунистической партии к моменту революции (новая элита) 527
Советский народ и традиционное общество 528
«Национальное» устройство СССР 529
§ 2. Сталин и модернизация 531
Социализм в одной стране: Троцкий и Сталин 531
Сталинская модернизация и ее парадоксы 533
Советский народ, но не советская нация 534
Сталинская национальная политика 534
Чистки элиты и «антисемитизм» Сталина 536
Мировая социалистическая система и этносы 537
§ 3. Этносоциологические особенности последнего советского периода
(1953–1991 гг.) 538
Археомодерн в последний период советской истории 538
Этносоциологическая подоплека распада СССР 539
ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 542
§ 1. Этносоциологическая структура современного российского общества 542
Социально-политическая панорама России 90-х годов ХХ века 542
Особенности археомодерна в новой России 542
Россияне: несостоявшаяся нация 544
Этносоциологические слои современного российского общества 546
§ 2. Этнос, его производные и политическая система современной России 548
Статус «нации» в Российской Конституции 548
Статус «народа» в Российской Конституции 550
Типы субъектов Федерации и их этносоциологическая специфика 550
Республики: виртуальная государственность 552
Автономная область и автономные округа: этнос и сепаратизм 554
§ 3. Этническая карта России 555
Славяне в современной России 555
Кавказцы: этносоциологический анализ 560
Палеоазиаты и тунгусо-манчжуры РФ 561
Динамика изменений этнического состава населения в Республиках РФ 562
§ 4. Типы национализма в современной России 566
Просвещенный консерватизм и его критики 566
Русский национализм: имперский, буржуазный, социальный, этнический 567
§ 5. Этнические и национальные конфликты в современной России 574
Конфликты на почве национализма: нация/этнос 574
Нация/нация: сецессионистские войны 574
Межэтнические конфликты: этнос/этнос 575
Межконфессиональные конфликты: исламский экстремизм 576
§ 6. Этнодемография, этномиграция, смешанные браки 576
Этнические особенности миграции великороссов 576
Надлом этномиграционных процессов среди русского населения СССР и современной России 578
Этнодемография архаических этносов России 580
Этнодемографические особенности других этносов РФ 581
Кавказская проблема: инструментализация этноса 582
Китайцы: ассимиляция, миграция, интеграция 585
Межэтнические браки и их классификация 586
Межэтнический брак и этносоциализация 587
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ГЛОБАЛИЗМ И ПОСТОБЩЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 589
§ 1. От российской нации к гражданскому обществу 589
Контемпоральный российский археомодерн: попытка обойти
национализм 589
Гражданское общество как виртуальная репрезентация 590
Гражданское общество в период президентства В. Путина 592
Гражданское общество в эпоху президентства Д. Медведева 593
§ 2. Глобализация и Россия 594
Глобальное общество как кульминация гражданского общества 594
Парадоксы глобализации применительно к контемпоральному
российскому обществу 595
Глобализм и российская олигархия: глобалистский класс 596
Является ли российский постмодерн постмодерном? 598
Российский этнопролетариат и постмодерн 599
Три источника российского постмодерна 600
Научное издание
Дугин Александр Гельевич
ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ
Компьютерная верстка
К.А. Крылов
Корректор
Е.Л. Тюрин
ООО «Академический Проект»
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Испытательного центра издательской продукции
Государственного учреждения НЦЗД РАМН
№ 282/106643 от 28.06.2010 г.
ООО Фонд «Мир»
111399, Москва, ул. Мартеновская, д. 3
По вопросам приобретения книги просим обращаться
в ООО «Трикста»:
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.
Тел.: (495) 305 3702; 305 6092; факс: 305 6088
E-mail: info@aprogect.ru
Интернет-магазин: www.aprogect.ru
Подписано в печать 12.04.11.
Формат 6090/16. Гарнитура Балтика. Бумага писчая.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 40,0. Тираж 1500 экз.
Заказ № .
Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.
