СОЦИОЛОГИЯ ВООБРАЖЕНИЯ (учебное пособие 2010)
Главные вкладки
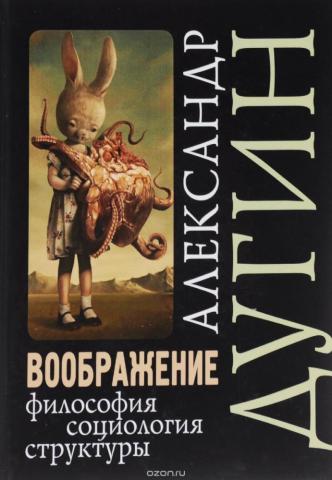
СОЦИОЛОГИЯ
Допущено Учебно-методическим объединением
по классическому университетскому образованию
к изданию в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 040200 (Социология)
МОСКВА
ТРИКСТА
2010
А.Г. ДУГИН
ВООБРАЖЕНИЯ
Введение в структурную
социологию
МОСКВА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
2010
УДК 316.3/.4
ББК 60.5
Д80
Печатается по решению кафедры Социологии
международных отношений социологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
Рецензенты:
д.ф.н. Ф.И. Гиренок,
д.ф.н. В.Г. Кузнецов
ISBN 978-5-8291-1245-5
ISBN 978-5-904954-03-1
Д80
Дугин А.Г.
Социология воображения. Введение в структурную социологию. — М.: Академический Проект; Трикста, 2010. — 564 с. — (Технологии социологии).
ISBN 978-5-8291-1245-5 (Академический Проект)
ISBN 978-5-904954-03-1 (Трикста)
Книга излагает основные принципы и методологию нового направления в социологии — «социологии глубин», основанного на структуралистском подходе к изучению общества и его проблем.
Общество, человек, время, пространство, социальные взаимодействия, структуры, институты, политические процессы, идеологии, отношения между полами, этнические и межнациональные взаимодействия рассматриваются одновременно на двух уровнях — на уровне «коллективного сознания» (Э. Дюркгейм) и на уровне «коллективного бессознательного» (К.Г. Юнг).
Автор книги строит новое направление социологии на основании трудов французского социолога Жильбера Дюрана, разработавшего концепции «имажинэра», «антропологического траекта» и режимов («диурн»–«ноктюрн») коллективного бессознательного.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей социологических, философских, политологических, исторических, филологических, культурологических и психологических факультетов вузов.
© Дугин А.Г., 2010
© Оригиналмакет, оформление. Академический Проект, 2010
© Трикста, 2010
УДК 316.3/.4
ББК 60.5
ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРАЛИСТСКАЯ ТОПИКА СОЦИОЛОГИИ 23
ГЛАВА 1.1. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ШКОЛЫ (КРАТКИЙ ОБЗОР) 25
Предмет социологии 25
Социальная философия и социология 26
Становление социологии как науки. О. Конт — «три эпохи» 27
Э. Дюркгейм: коллективное сознание 28
М. Мосс: дар и отдаривание 28
Г. Спенсер: либеральный социал-дарвинизм 29
Ф. Тённис: «община» и «общество» 29
К. Маркс: социологический максимализм 30
М. Вебер: понимающая социология 31
В. Зомбарт: «герои» и «торговцы» 31
Г. Зиммель: социология жизни 32
Чикагская социологическая школа
(А. Смолл, Д. Винсент, У. Томас, Ф. Знанецкий) 32
Дж.Г. Мид: символический интеракционизм 33
Колумбийская школа (Г. Гиддингс, П. Лазарсфельд, Дж. Морено, Р. Мёртон):
теории среднего ранга 33
Ч. Кули и Л. Уорд: холизм и социальная эволюция
по-американски 34
Т. Парсонс: структура социального действия 34
В. Парето: теория элит 35
Л. Гумплович: расовая борьба 35
П. Сорокин: социальная и культурная динамика 35
ГЛАВА 1.2. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛОГОС И СТРУКТУРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
(В КЛАССИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ) 37
Социология изучает социальный логос 37
Схема социального логоса 37
Индивидуальный социальный логос 38
Социум как структура 39
Структурная лингвистика: речь и слово (высказывание, дискурс) 39
Социум как язык 40
Психологический человек и «тюрьма без стен» 41
ГЛАВА 1.3. ОБЛАСТЬ СОЦИОЛОГИИ, ОБРАЩЕННАЯ К ИРРАЦИОНАЛЬНОМУ 42
Исчезновение атомарных фактов 42
Голос иррационального (психология толпы) 42
Иррациональность общественного мнения
и пралогос примитивов 43
Гетеротелия и энантиодромия 43
Потребность в новой социологии 44
ГЛАВА 1.4. ОСНОВЫ СТРУКТУРАЛИЗМА. СТРУКТУРАЛИЗМ
КАК МЕТОД 45
Появление структурализма 45
Миф как структура 45
П. Рикёр — керигма и структура 47
Структура структуры 48
Ф. Ницше: аполлоническое и дионисийское / воля к власти 48
ГЛАВА 1.5. КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ 51
Сюрприз психоанализа 51
З. Фрейд: открытие Es 51
К.Г. Юнг: коллективное бессознательное 52
Карта подсознания и «работа сновидений» 53
Понятие архетипа 54
Человек в психоаналитической топике Юнга 54
Индивидуация 58
Социокультурная топика Юнга 59
Человек как непустое множество 59
Пятая ось — ось инициации 60
Инициация и ее функции 61
ПРИЛОЖЕНИЕ. ЯЗЫК ЛОГОСА И ЯЗЫК МИФОСА 63
Аристотель: от логоса к логике 63
Законы логики 64
Миф как отрицание логики 65
Тропы как структуры мифа 66
РЕЗЮМЕ 69
РАЗДЕЛ 2. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ВООБРАЖЕНИЯ 71
ГЛАВА 2.1. СЕМИНАР «ERANOS». ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ ВООБРАЖЕНИЯ (ПРЕДПОСЫЛКИ) 73
Разработка теории воображения 73
Р. Вильгельм: китайская мысль 73
Р. Отто: концепция сакрального 74
М. Элиаде: миф вечного возвращения 74
А. Корбен: mundus imaginalis 75
К. Кереньи: новое открытие греческой мифологии 76
П. Радин: фигура трикстера 76
М. Бубер и Г. Шолем: хасидизм и каббала 77
А. Портман: концепция неотении 78
В. Паули: синхроничность и спин 78
Фигуры ученых, близких к проблематике семинара «Эранос» 78
Г. Башляр: теоретик науки и грез 79
Ж. Дюмезиль: антиевгемеризм и трехфункциональная гипотеза
социального класса 79
К. Леви-Стросс: мифологика 80
Ж. Дюран: создание «социологии воображения» 81
ГЛАВА 2.2. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ВООБРАЖЕНИЯ:
СТАТУС МИФОСА И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАЕКТ 83
Ж. Дюран: от топики к теории
(гранд-теория социологии воображения) 83
Институционализация социологии воображения 84
Статус имажинэра: его первичность 85
Понятие антропологического траекта 87
Имажинэр и смерть 88
Статус мифоса / динамика мифоса 88
Режимы и группы внутри имажинэра: диурн/ноктюрн 89
Рефлексы и доминанты и их связь с группами мифов
и режимами воображения 90
ГЛАВА 2.3. ДИУРН / ГЕРОИЧЕСКИЕ МИФЫ 91
Диайрезис 91
Герой 91
Постуральность 92
Смерть как другое 92
Великий свет 93
Полет, ангел, стрела 93
Бездна 94
Очищение 94
Меч и скипетр 95
Зоофобия и реальность дракона 95
Поход против ночи и раскол воображения 96
Мизогиния и аскетизм 97
Идентичность и паранойя 97
Дуализм 98
Мускулиноидность 98
Значение открытия режима диурна для науки 99
ГЛАВА 2.4. НОКТЮРН / МИСТИЧЕСКИЕ МИФЫ 100
Эвфемизм 100
Мистический ноктюрн (ноктюрн I): единение 101
Антифраза 101
Дигестивный рефлекс как доминанта мистического ноктюрна 102
Режим матерей 102
Утробный пацифизм 103
Цвет и свет, от солнца к огню 103
Чаша как эвфемизация бездны 104
Благие животные 104
Проглатывающий–проглоченный 105
Мальчик-с-Пальчик 106
Номенклатура символов ночи 106
Расслоение идентичности и глишроидные свойства 107
Феминоиды 108
ГЛАВА 2.5. РЕЖИМ НОКТЮРНА 2 / ДРАМАТИЧЕСКИЕ МИФЫ 109
Драматический ноктюрн как умеренный эвфемизм 109
Копулятивная доминанта 109
Архетип танцора 110
Смерть и воскресение 110
Номенклатура символов драматического ноктюрна 111
Драматическая идентичность: Гермес и его жезл 111
Мир невест и путешествия 112
Мифы о прогрессе и Прометее 112
Циклотимия или норма? 113
Драматические феминоиды 114
ГЛАВА 2.6. ОБЪЯСНЕНИЕ ЛОГОСА ЧЕРЕЗ МИФОС 115
Логос как продукт режима диурна 115
Диурн и социум 115
Анатомия прогресса 116
Режимы воображения и социальные классы 117
Объяснение гетеротелии и сбоев в работе социального логоса 118
Логос как патология 118
ГЛАВА 2.7. РЕЖИМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО И ФИГУРЫ
РИТОРИКИ 120
Риторическая антитеза в режиме диурна 120
Война с микробами 120
Паранойя как социальная конвенция 121
Плеоназм и закон тождества 122
Гипербола и ее нелогичность 122
Эвфемизм как феминоидный язык 123
Антилогия 123
Катахреза 124
Литота 124
Гипотипоз 125
Эналлага 126
Гипербат 127
Мифокритика 127
Мифоанализ 128
РЕЗЮМЕ 129
РАЗДЕЛ 3. СОЦИУМ В ИСТОРИИ. РАЗНОВИДНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 131
ГЛАВА 3.1. ПРЕМОДЕРН–МОДЕРН–ПОСТМОДЕРН: СТРУКТУРА ИСТОРИЧЕСКОЙ СИНТАГМЫ ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА 133
Время как социальный конструкт 133
Парадокс позиции социолога 133
Стартовые представления об исторической синтагме 134
Модерн как точка отсчета 134
Концепт Премодерна и его время 134
Модерн как антитеза Премодерну 135
Нарастание рефлексии внутри Модерна 136
Концепт Постмодерна 137
Эон и хронос (ризоматическое время Ж. Делёза) 137
Карта исторической топики 138
Социальный логос в истории Запада, аккультурация
и гибридные общества 138
ГЛАВА 3.2. АРХАИЧЕСКОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВРЕМЕНИ 140
Проблема автохтонных незападных социумов 140
Два типа традиционного общества: архаическое и религиозное 140
Три группы мифов и их время (по Ж. Дюрану) 141
Хроноклазм 141
Проклятая часть 142
Вечное возвращение 143
Деваяна и питрияна 143
Мистический ноктюрн 144
Религиозное время 145
Линейное время монотеизма 145
Иоахим де Флора и учение о трех веках 146
ГЛАВА 3.3. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ВРЕМЕН 148
Синтагма Премодерн–Модерн–Постмодерн есть
экстраполяция западного логоса 148
Восемь времен Ж. Гурвича 149
Времена, текущие в разные стороны 150
Социология свалки 151
ГЛАВА 3.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЦИКЛЫ 152
Марксизм и теория экономических формаций 152
Иоахимитская природа марксистского мифа 153
Советский период: баланс логоса и мифоса 153
Археомодерн по-советски 154
Три экономических уклада 155
Предындустриальный уклад: аграрное общество 155
Индустриальный уклад 155
Постиндустриальное общество 156
Диахроническая схема экономических укладов 156
ГЛАВА 3.5. СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА МИФОВ 158
Три типа общества по Питириму Сорокину 158
Идеационный тип 158
Идеалистический тип 159
Чувственный тип 159
Последовательность типов по Питириму Сорокину 159
«Апокалипсис» Питирима Сорокина 160
Эстетические циклы Шарля Лало 160
Динамика мифа у Дюрана (семантические бассейны) 160
Иоахимитский миф 161
Миф о Прометее 162
Мифы о Дионисе 162
Мифологический прогноз Жильбера Дюрана 163
Миф о Гермесе 163
Классовая борьба 164
Расовая борьба 164
От биологического расизма к культурному 165
Традиционалистский миф о «конце света» 165
РЕЗЮМЕ 167
РАЗДЕЛ 4. СОЦИУМ КАК ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ.
СОЦИОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА 169
ГЛАВА 4.1. ПРОСТРАНСТВО КАК МЕТОД. СОЦИАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА 171
Можно ли говорить о социологии пространства? 171
Социальная морфология Дюркгейма 171
М. Хальбвакс: коллективная память и топология Святых мест 172
Структура социальной морфологии 172
Система в социологии 173
Социология завтрака 174
Парето и Уорнер: примеры социальной статики
и устойчивости социальных структур 175
Крах СССР как урок наглядной структурной социологии 176
Структурализм как пространственный метод 177
Гипотеза оси Z в структуралистской социологии 177
Диахронизм vs синхронизм 178
Пространство — наш друг 179
Воображение — карта 179
Является ли пространство социальным конструктом? 180
Метод изучения пространства
через историческую топику 180
ГЛАВА 4.2. ПРОСТРАНСТВО ПРЕМОДЕРНА 181
Архаика и имажинэр 181
Мифологическое пространство 181
Героическое пространство / образы вертикали 182
Драматическое пространство 183
Мистическое пространство 185
Селение / мир / жилище / рисунок 186
Город 186
Логосная систематизация пространства 187
Пространство и стихии 187
Религиозное пространство 188
Монотеизм и пространство 188
ГЛАВА 4.3. ПРОСТРАНСТВО МОДЕРНА 190
Битва с Аристотелем 190
Возрождение и появление перспективы в живописи
(угашение воображения) 190
Галилей — творец пространства Модерна 190
Г. Галилей и П. Гассенди: атомизм 191
Р. Декарт: res extensa 191
И. Ньютон: res gravis и принцип локальности 192
Научное пространство 192
Промышленное пространство / город Модерна 193
И. Кант: априорная форма чувственности 193
Квантовая механика и нелокальность пространства 194
Космическое пространство 194
Пространство Модерна и коллективное бессознательное 195
ГЛАВА 4.4. ПОСТМОДЕРН ПРОТИВ ПРОСТРАНСТВА 197
Николас Луман: социология систем 197
М. Кастельс: общество как сеть 198
Сеть заменяет индивидуума 198
Пространство потоков 198
Глобальный город 199
Ж. Делёз: «Тело без органов» 199
Постмодернистский марксизм Делёза 199
Территориализация 200
Изборожденное пространство (espace strie) 200
Детерриториализация 200
Гладкое пространство (espace lisse) 201
Складка (le Pli) 201
Ризома 201
И. Пригожин: физика времени и синергетика 201
Наркопространство и революция 202
Виртуальное пространство 204
Великая пародия на пространство 204
ПРИЛОЖЕНИЕ. СОЦИОЛОГИЯ ГЕОПОЛИТИКИ 206
Геополитика как социологический метод 206
Геополитика как социология пространства 207
Ф. Ратцель: политическая география 207
Р. Челлен: государства как формы жизни 208
А. Мэхэн: «морское могущество» 208
Х. Макиндер: создатель геополитической топики 209
Геополитическое пространство как социальное пространство 210
Карл Хаусхофер (1869–1946) 211
Карл Шмитт: Левиафан и Бегемот 211
Геополитика и режимы воображения 212
Евразийство и пространство 213
РЕЗЮМЕ 216
РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ЧЕЛОВЕК КАК СТРУКТУРА 217
ГЛАВА 5.1. HOMO SOCIOLOGICUS 219
Статус и роль 219
Типы статусов 219
Антропология и социальная антропология: определения 220
Социум как письмо бесписьменных культур 221
Табу и нао 222
Do Kamo 222
Проблема индивидуума: пустое место 224
Идея социобиологического индивидуума: феральный человек 224
Конрад Лоренц: зоосоциология 225
Homo vivens 226
Индивидуум как статус в «понимающей социологии» М. Вебера 227
Индивидуум в марксистской теории 228
ГЛАВА 5.2. ЧЕЛОВЕК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ИНДИВИДУАЦИЯ 229
Попытка обосновать индивидуума в бихевиористской
(классической) психологии 229
Психология глубин 229
Человек по Юнгу 230
Аналогия между обществом и сновидением: ее пределы 231
Социум гомологичен режиму диурна 232
Архаическое общество как нормативное 233
Проблема ноктюрна 233
Социализация драматических копулятивных мифов 233
Кукушкины похороны 234
Структурная социология семьи 234
Темная мистика обеда 234
Живот и тень 235
Социум тождественен психике 236
Антропологический траект: структуралистский гуманизм 237
ГЛАВА 5.3. ПЯТАЯ ОСЬ 238
Инициация как социологическое явление 238
Типы инициации 239
Пятая ось как основа социальной антропологии 239
ГЛАВА 5.4. ЧЕЛОВЕК В СЕРИИ ПРЕМОДЕРН–МОДЕРН–
ПОСТМОДЕРН 241
Homo initiatus 241
Усложнение инициатических систем 242
Редубляция инициаций 242
Типы параллельных инициатических иерархий
в монотеистических традициях 243
Социология ереси 244
Человек современный и его инициатические истоки 244
Новое как вечное 245
Декарт: открытие субъекта 246
Руссо и добрый дикарь 247
Многообразие масонских типов 248
Иммануил Кант и угроза утраты субъекта 248
Этапы десакрализации человека 249
Психология против души 250
Антропологические версии философии XIX–XX веков 250
Появление социологии 251
Юнгианство и его значение 251
Структурализм и постструктурализм 252
Ничто, человек и социум 253
Киборги 254
Do Kamo в Постмодерне 254
Закончен ли спор о Постмодерне? 255
ПРИЛОЖЕНИЕ. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
АРХЕОМОДЕРНА 257
Антропологический гибрид и «мерзость запустения» 257
Do Kamo болеет 257
Низы и верхи общества археомодерна 258
Р. Бастид: социология Бразилии 258
Российское общество как Археомодерн: несчастное общество 259
РЕЗЮМЕ 260
РАЗДЕЛ 6. СОЦИОЛОГИИ И ИДЕОЛОГИИ 261
ГЛАВА 6.1. ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 263
Дестют де Траси: появление термина «идеология» 263
Понимание идеологии Марксом: ложное сознание 263
Несостоятельность определения идеологии у Мангейма 264
Значение идеологии для социологического анализа 265
Три идеологии 265
Невозможность исследовать идеологии с нейтральных позиций
(таких позиций нет) 266
ГЛАВА 6.2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИДЕОЛОГИЙ 268
Социологический анализ идеологий и социометрия 268
Рост идеологизации в Модерне 269
Марксизм (социализм): эсхатологический миф 269
Либерализм: апологетика буржуазного строя 270
Фашизм: альянс консерватизма и модернизма 270
Протестантские истоки трех идеологий 271
Социальный логос в трех идеологиях 271
ГЛАВА 6.3. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИДЕОЛОГИИ 274
Мифоанализ идеологий 274
Мифоанализ марксизма 274
Либерализм и его режим: первая фаза 276
Либерализм li-li 277
Фашизм и миф 278
Фашизм и национал-социализм: нюансы и различия 279
ГЛАВА 6.4. МАРКСИСТСКАЯ (И ПОСТМАРКСИСТСКАЯ)
СОЦИОЛОГИЯ 281
Социология марксизма 281
Исторический момент в марксистской социологии 282
Дьёрдь Лукач: пролетариат и гносеология 283
Франкфуртская школа: критика тоталитаризма 283
Фрейдомарксизм 285
ГЛАВА 6.5. ЛИБЕРАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ 288
Основные пункты либерального подхода к социологии 288
Чикагская школа 289
Типология индивидуума и социальная ситуация 290
Ф. Хайек: космос против таксиса 291
Айн Рэнд: Атлас расправил плечи (объективизм) 293
ГЛАВА 6.6. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ТРЕТЬЕГО ПУТИ 295
Третий путь как обобщение 295
Вильфредо Парето: неомакиавеллистская социология 295
Ж.А. де Гобино: расовое неравенство 296
Социология антисемитизма 296
Вернер Зомбарт: социология третьего пути 298
Карл Шмитт: консервативная социология 299
Отмар Шпанн: социальная цельность 301
Новая аристократия 301
Основные принципы учения об обществе в идеологиях третьего пути 302
ГЛАВА 6.7. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ВЗАИМООЦЕНКИ ИДЕОЛОГИЙ:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ СЕТКА 304
Критика идеологических моделей: обоснование метода 304
Либерализм против фашизма и коммунизма («открытое общество
и его враги») 304
Марксизм против либерализма и фашизма 305
Идеологические версии «еврейского заговора» 305
ПРИЛОЖЕНИЕ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ТРЕХ ИДЕОЛОГИЙ
(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 307
Экономика как идеологическая дисциплина 307
Экономика марксизма: смена формаций, рабство–вассалитет–рынок–план 307
Экономика либерализма: от не-рынка через несвободный рынок к неограниченному рынку 308
Экономика «третьего пути» 309
РЕЗЮМЕ 311
РАЗДЕЛ 7. СОЦИОЛОГИЯ ЭТНОСА 313
ГЛАВА 7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТНОСА И СМЕЖНЫЕ ПОНЯТИЯ 315
Понятие этноса 315
Этнос–народ–нация–раса 316
Этнос–народ–(народность)–нация–(национальность)–раса 316
Научная дефиниция этноса 316
Народ — общность судьбы 316
Народ, государство, религия, цивилизация 317
Нация как государство-нация 318
Раса и расовые теории 319
Расизм биологический и культурный 321
Терминологические проблемы советской этнологии 322
Этнос и раса 323
ГЛАВА 7.2. ЭТНОС И МИФОС 324
Этнос и мифос 324
Миф и мифема в структуре этноса 325
Дуальная структура этноса: фратрии 326
Этнос, общинность, семья 327
Инициация в этнической структуре 327
Границы этноса и масштабирование браков 328
Медведи как люди 329
Этнос и режимы бессознательного 331
Культурные круги 332
Различия этносов и коллективное бессознательное 334
Межэтнические взаимодействия по Широкогорову 335
Этносы и война 336
ГЛАВА 7.3. НАРОД И ЕГО ЛОГОС 338
Всходы и жатва 338
Греки как народ 339
Народ Индии 339
Формирование исламской уммы 340
Империя Чингисхана 340
Баланс логоса и мифоса у народа 342
Л. Гумилев: пассионарный толчок 342
Механика этногенеза по Гумилеву 343
Пассионарность и диурн 344
Народ и диурн 344
ГЛАВА 7.4. НАЦИЯ ПРОТИВ МИФА 346
Перенниальность этноса 346
Народ как пробабилистская категория 346
Генезис нации 347
Государство-нация как машина этноцида 348
Государство как антиимперия искусственно порождает нацию 348
Гражданин — логический артефакт нации 349
Гипотипоз «народа» в Конституциях 349
Причины путаницы в определениях нации (национализма) в политологии 350
Причины путаницы в определениях нации (национализма) в этнологии 350
Судьба мифоса в модерне 352
Этнос как подсознание нации 353
Нация и диурн 354
Residui 355
Нация киборгов 356
РЕЗЮМЕ 358
РАЗДЕЛ 8. СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ 359
ГЛАВА 8.1. ПОЛИТИКА КАК ВЛАСТЬ. СТРУКТУРА И СТИХИЯ
ВЛАСТИ 361
Определение политики 361
Власть как стихия и власть как структура 361
Социология царя дождей 362
Каста в социологии Л. Дюмона 363
Политика и деяние недеяния 364
Властные страты 365
Властные институты: сакральный царь 366
Жречество как властный институт 367
Царская власть и воины 368
Институт тружеников 369
ГЛАВА 8.2. СОЦИОЛОГИЯ ЭЛИТЫ 371
Элита и массы 371
Ротация элит 372
Воля к власти 373
Раб и Господин в философии Гегеля 373
Чарльз Миллс: властвующая элита 374
Аллогенная элита у Гумпловича 374
Дуальность в трехчастной системе Ж. Дюмезиля 375
Диурн и господство 376
Деградация элит и переключение режимов 377
Логос и элиты 377
ГЛАВА 8.3. ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 379
Различия между социологией политики и политологией 379
Политические системы по Аристотелю 379
Политические системы и пространство 382
Социология политики в русской истории 382
Прямая и косвенная власть: легальность и легитимность 384
Социология политики и недоверие 385
Конспирология как наивная социология 386
ГЛАВА 8.4. СТРУКТУРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ СИНТАГМЕ 388
Кастовая система 388
Сословия 390
Классы 390
Бесклассовое общество 391
Политическая стратификация в истории 392
Политические системы в истории 393
Минимализация Политического 394
Политика в Постмодерне упраздняется 394
ГЛАВА 8.5. ПОЛИТИКА И РЕЖИМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 396
Царство в инициации 396
Война и инициация 396
Жрецы и свет в политике 397
Молния: политический символизм 398
Логос в политике 398
Диурн, логос и элиты 399
Политический логос и правовое государство 399
Возможна ли политика без политики? 400
«Тайная власть» 400
Постполитика 401
Ноктюрн как аполитейя 401
Всплытие ноктюрна в Постмодерне 402
РЕЗЮМЕ 404
РАЗДЕЛ 9. СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 405
ГЛАВА 9.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИИ. САКРАЛЬНОЕ
И ПРОФАННОЕ 407
Определение религии в социологии 407
«Здесь» и «там»: имманентность границы 407
Социальность природы 408
Сакральное и профанное: разграничение сфер 408
Религия и магия 409
Где начинается «там»? 409
Сакральное как «дальнее» и «великое» 410
«Там» и «другое здесь» 410
Сакральное как тайное 411
Единство сакрального 412
Религия и воображение 412
Режимы бессознательного в религии 413
Религия в узком и в широком смысле 414
ГЛАВА 9.2. РЕЛИГИЯ И ПОЛЮС САКРАЛЬНОГО 415
Жрецы и полюса сакрального 415
Дуализм жречества: белые и черные шаманы 415
Deus otiosus 416
Дихотомия король–жрец 417
Второй тип дихотомии: далекое/тайное 418
Экзотеризм и эзотеризм 418
Дуалистические религии 419
Два типа религий 419
Варианты суперпозиции религиозных структур 420
Религия элит и религия масс 421
ГЛАВА 9.3. ТИПОЛОГИЯ РЕЛИГИЙ И ИСТОРИЧЕСКАЯ
СИНТАГМА 423
Религиозный максимализм: архаические формы 423
Укрепление границы:
фиксация сакральных институтов 424
Сакральное и профаническое в дуалистических религиях 425
Монотеизм: creatio ex nihilo 425
Мистика и ересь 426
Трансформации религии в Премодерне 426
Деизм 427
Изменение социального значения религии 428
Протестантская этика и Модерн 428
Атеизм 430
Трансформации религии в Модерне 430
Религия и Постмодерн (Квентин Тарантино) 431
New Age 432
Религия как симулякр 432
ГЛАВА 9.4. СОЦИУМ В ХРИСТИАНСТВЕ 433
Три исторических периода христианства. Катакомбы 433
Византизм: христианство и империя 434
Монашество как социальный норматив 435
Нормативный социум в католичестве 435
Нормативный социум в Православии 436
Социология Третьего Рима 436
Протестантское общество 437
Третий период христианской истории: социология апостасии 437
Социология старообрядчества 438
Вандея и апостасия Революции 439
Религиозный взгляд на Постмодерн 440
ГЛАВА 9.5. СОЦИУМ В ИСЛАМЕ 442
Различия исламского и христианского социумов 442
Шариат 442
Учение о «трех домах» 443
Социологические различия в суннизме и шиизме 444
Феномен ваххабизма и исламский фундаментализм 445
Ислам и Модерн 446
ГЛАВА 9.6. СОЦИУМ В ИУДАИЗМЕ 447
Значение иудаизма
для других монотеистических религий 447
Иудейская история и социальные типы 447
Последнее рассеяние
и создание государства Израиль 448
Иудаизм и Модерн 449
Евреи и идея прогресса 449
Традиция и Модерн в современном израильском обществе 450
РЕЗЮМЕ 452
РАЗДЕЛ 10. СОЦИОЛОГИЯ ПОЛА 453
ГЛАВА 10.1. ГЕНДЕР И ЕГО РОЛЬ В СОЦИУМЕ 455
Пол и гендер 455
Гендер как первичный социальный статус 455
Андрогин («третий пол») 456
Оргия — погружение в докосмический хаос 456
Пол и таксономия 457
Гендер как язык 458
Гендер и коннотация 458
Социальное неравенство полов 459
Семья как парадигма гендерных отношений 459
Голография семьи и общества 460
ГЛАВА 10.2. ГЕНДЕР В ПСИХОАНАЛИЗЕ 461
Роль пола в психоанализе Фрейда: эрос и танатос 461
Гендер у Юнга 462
Пол и душа 463
Три образа женщины 463
Внутренняя женщина 464
Индивидуация и брак 465
Три образа мужчины 466
Внутренний мужчина 466
ГЛАВА 10.3. ГЕНДЕР И РЕЖИМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 468
Мускулиноид: режим диурна 468
Феминоид I: мистический ноктюрн 470
Феминоид II: драматический ноктюрн 471
Гомогенизация и гетерогенизация в структуре гендера 473
Фрейд–Юнг–Дюран 473
ГЛАВА 10.4. СЕМЬЯ И СТРУКТУРЫ РОДСТВА 475
Слова и женщины 475
Ограниченный обмен 476
Обобщенный обмен 477
Атомарная структура гендерных отношений и их шкала 477
Материнское и отцовское в социуме 479
Кросскузенные и параллель-кузенные системы 480
Родство в комплексных обществах 480
ГЛАВА 10.5. ТРАНСФОРМАЦИИ СЕМЬИ И ГЕНДЕРНЫХ
СТРАТЕГИЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ СИНТАГМЕ 483
Архаическая природа семьи 483
Проблема патриархат/матриархат 483
Женщины и элита (комплекс Брунгильды) 484
Экзорцизм феминоидности 485
История как нарастание патриархата 486
Логос как мужчина 487
Патриархат буржуазного строя 487
Феминизм как форма патриархата 489
Гомосексуальный социум 490
Менеджер как мужчина — либеральный гендер 490
Сны Веры Павловны 491
Гендер в фашизме 492
Гендер в Постмодерне генетически связан с либерализмом 493
Постмодерн и логема 494
Мужчина-компьютер и инфемы 495
Компьютерный патриархат 496
Иллюзия матриархальности в Постмодерне и ее основания 496
Исчезновение гендера 498
РЕЗЮМЕ 499
РАЗДЕЛ 11. ПОСТОБЩЕСТВО 501
ГЛАВА 11.1. СОЦИОЛОГИЯ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА 503
Второй фазовый переход 503
Необходимость четкого понимания структуры трех парадигм 503
Трансформация объекта социологии в Постмодерне 504
Постобщество и постсоциология 505
Поправка археомодерна 506
Археомодерн усложняет социологическую картину 506
Археомодерн и Постмодерн: обманчивая видимость сходства 507
Социология глобализации (Постмодерн и археомодерн) 507
ГЛАВА 11.2. ПОСТМОДЕРН И ЛОГОС 509
Этапы диурна: от логоса к логистике 509
От логистики к логеме 510
Ничто и его социология 511
Компетенции логемы 513
Феноменологическая социология Альфреда Шюца 514
Повседневное становится еще более повседневным 515
Мишель Маффесоли: завоевание настоящего 516
Постмодернизм молодежных масс и «олбанский язык» 518
Сети и логемы 518
Тень Диониса 519
Постмодерн и археомодерн в глобализации 520
ГЛАВА 11.3. КУЛЬТУРА АПОКАЛИПСИСА 522
Социология Апокалипсиса 522
Адам Парфри: звериный дом 523
Магистральность маргинального 523
Социология дьявола 524
«Культурный идиот» как парадигма 525
Freak out show 525
Фрики в кинематографе 526
Фрики и пролетарская революция будущего
(«множества» А. Негри и М. Хардта) 527
Постмодерн и археомодерн в современном кино 529
ГЛАВА 11.4. ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАЧАЛ СОЦИАЛЬНОГО В ПОСТМОДЕРНЕ 531
От общества к постобществу 531
Постмодерн и бессознательное 532
Режимы воображения и Постмодерн: «муси-пуси» 534
Поствремя и постистория 535
Постпространство 536
Окончание человека как цели 537
Постчеловек: Mad Max и Тетсуо 538
Конец идеологий и постидеологии 539
Постмодерн и религия (симулякр и сатанизм) 540
Постполитика (поствласть) 542
Гендер в Постмодерне 543
Постмодерн как серьезная социологическая проблема 544
РЕЗЮМЕ 546
БИБЛИОГРАФИЯ 547
РАЗДЕЛ 1
СТРУКТУРАЛИСТСКАЯ ТОПИКА СОЦИОЛОГИИ
ГЛАВА 1.1
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ШКОЛЫ (КРАТКИЙ ОБЗОР)
ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ
Что изучает социология? Как правило, ответ дается таким образом: предметом социологии являются социальные явления, социальные процессы, социальные отношения, социальные факты, социальные закономерности. И тем не менее различие подходов и определений показывает, что предмет социологии не определен и довольно размыт. Он схватывается скорее интуитивно или конституируется в ходе самих социологических построений.
Питирим Сорокин (1889–1968), признанный классик современной социологии, в своей ранней работе «Преступление и кара»1 иронично играет с определением социологии как «науки, изучающей межиндивидуальные отношения и связи», указывая, что такое определение делает возможным говорить о «зоосоциологии» (социологии животного мира), «фитосоциологии» (социологии растений) и т. д.: ведь индивидуумы (дословно — «неделимые единицы») есть и в животном,
и в растительном мирах. Сам он склоняется к пониманию социологии как дисциплины, исследующей и систематизирующей все формы взаимодействия психических индивидуумов (то есть живых мыслящих существ) и, соответственно, интерментальных процессов.
Социология исследует общество, socium, но и этот предмет представляет собой нечто неопределенное.
Можно предложить для начала такую дефиницию: объект социологии есть то обобщающее целое, которое, дробясь, дает индивидуума2. Это «обобщающее целое» (греческое koinÒn — «койнон») и есть «общество» (socium) как нечто первичное и интуитивно понятное, предшествующее выделению отдельной единицы — индивидуума как «социологического человека» (Р.Г. Дарендорф). Социология начинает с исследования целого и общего и от него переходит к выделению частного, продвигаясь от классов, страт, статусов, ролей, функций, отношений к социальному атому — человеку. В этом социология отличается от других наук о человеке, которые начинают с индивидуума и, отталкиваясь от него, следуют по пути обобщений.
Классический пример минимального общества — семья. Она состоит из нескольких индивидуумов, но действует как единое целое. Общность имущества, жизненных интересов, плотность психических контактов, социализация и интеграция детей в единый социальный организм — все это делает из семьи коллективного индивидуума. По мере расширения границ коллективного индивидуума (от нуклеарной семьи к «большой семье», далее к «роду», племени и так вплоть до государства или империи) общественная модель усложняется, но на определенном уровне остается чем-то цельным и относительно однородным — «социальным целым». Его-то приоритетно и изучает социология.
Пример определения религиозного социума мы видим в словах Христа из Святого Евангелия: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»3. Это классическое определение сущности Церкви, но оно также может быть глобальной тематизацией социологии. Эти слова можно понимать как метафору: там, где больше одного индивидуума, их совокупность представляет собой нечто большее, чем простое сложение, и приобретает новое, «трансцендентное», если угодно, качество, в котором мы имеем дело не с суммой индивидуумов, а с новой сущностью — «сообществом», «социумом».
Отсюда, в частности, «соборный» характер Церкви (по-гречески καθολικός, дословно — «все-целый»: от κατά — «все» и ὅλος — «целый»). Православная Церковь есть Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь.
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
Социология выделилась из философии — из той ее части, которая особое внимание уделяла обществу, то есть из социальной философии. С философской точки зрения социология и есть социальная философия, разработавшая собственную терминологию, методологию и обосновавшая свою специфику. Социология, в том числе и прикладная, всегда «разрешается» (если использовать гегелевский термин) в философии, где лежат ее корни.
Последний уровень любого социологического действия (анализа, опроса, исследования) представляет собой философский уровень.
Философия может иметь своим предметом различные области мироздания: природу, историю, экономику, знание (как в целом, так и в его различных проявлениях в виде науки, культуры, искусства) и т. д. Социальная философия выбирает своим предметом преимущественно общество и концентрируется на тех сферах, которые имеют социальный характер. Но в отличие от социологии социальная философия приоритетно занимается принципами, началами, концепциями, гносеологическими проблемами общества, сохраняя верность своим фундаментальным методологиям — как в онтологическом, так и в гносеологическом аспекте. Иными словами, если философ, исследующий общество, поменяет предмет исследования, ничего принципиально не изменится: философ останется философом, чем бы он ни занимался. Социолог, отталкиваясь от философии, делает решительный шаг в сторону «общества», он необратимо связывает свою научную и интеллектуальную судьбу с тематикой «общества» и не может больше осмыслять что бы то ни было в отрыве от того главного предмета, который для него становится единственным — в отрыве от «общественного целого».
Без философии социолог не может полноценно действовать, но все же он отрывается от философии и становится на иную почву. Отныне сама философия видится ему как социальное явление, предопределенное общественным целым. Он социологически интерпретирует философию, из социального философа превращаясь в социолога философии.
СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ. О. КОНТ ― «ТРИ ЭПОХИ»
Обратимся к основным классическим теориям социологии, которые подведут нас к главной теме данного раздела — описанию социокультурной топики, лежащей в основе структуралистского метода социологии.
Огюст Конт (1798–1857) — ученик и последователь Сен-Симона (1760–1825), автор терминов «социология» и «позитивизм». Науку социологию Конт обосновывает с помощью собственной философии истории, согласно которой человечество в развертывании своей истории проходит три стадии:
• период Веры, где преобладает религия;
• период Метафизики, где преобладает философия (начало Нового времени, эпоха деизма);
• период Позитивной Науки.
Третий период, по Конту, характеризуется появлением социологии как «науки наук», главенствующей над всеми остальными областями знаний, которые она обобщает в строго научную синтетическую картину.
Социолог для Конта представляет собой «жреца» позитивистской эры. Он хранит знание кодов, по которым действует человеческое общество во всех его измерениях — экономическом, технологическом, научном и культурном.
Социологию Конт связывает с позитивизмом по следующей логике: позитивные (естественные) науки самым строгим и «объективным» образом исследовали природу вещества, телесности, взаимодействий между телами, что развеяло «мифы» и «предрассудки» ранних эпох. Но строгость свойственна только естественным наукам. В области социальных и гуманитарных наук, по Конту, все еще царят «произвол» и «мифотворчество». Поэтому следует распространить ясность и однозначность позитивистских методов на общество, которое необходимо представить как механизм. Именно тогда человечество получит объективные знания об обществе и обоснует, по замыслу Конта, «позитивную науку» применительно к социальной и гуманитарной сферам. Это и есть социология — первая строгая, «позитивная» наука, примененная к обществу.
Любопытно, что в Бразилии, стране удивительного религиозно-мистически-секулярного синкретизма, метафору Конта восприняли как прямое руководство к действию и даже причислили ее автора к «лику святых» (куда в Бразильском пантеоне входят как католические святые, так и идолы кондомбле, макумбы и батуке, а также великие деятели Просвещения в лице Вольтера (1694–1778) и основатели спиритизма вроде Аллана Кардека (1804–1869). Так О. Конт, более других мыслителей настаивавший на демистификации социума, именно вследствие своей успешной деятельности стал объектом ремистификации в Южной Америке4.
В основе понимания О. Контом социологии как таковой лежит идея прогресса, поступательного развития общества, в ходе которого накапливаются знания, предопределяющие новые качественные сдвиги исторического процесса. Сама социология мыслится Контом как вершина прогресса и авангард прогрессивной мысли и методологии в будущем.
Э. ДЮРКГЕЙМ: КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ
Инициативу Конта подхватывает и развивает Эмиль Дюркгейм (1858–1917), французский классик социологии, один из отцов-основателей этой науки. Главная идея Э. Дюркгейма состоит в том, чтобы выделить социальный факт (по аналогии с тем, как позитивисты-естественники выделяют атомарный факт) и установить зависимость между ним и другими фактами. Э. Дюркгейм видит главную задачу в построении рациональной системы, в которой общество будет описано как механизм, между различными явлениями, группами явлений и факторами которого установлены рациональные связи и выявлены закономерности взаимодействия. Социальные факты, по Дюркгейму, обладают в отношении отдельной личности нормативно-принудительной силой.
Для Дюркгейма, как и для Конта, все в обществе функционально, то есть предопределено не индивидуальными особенностями участников («акторов»), явлений и отношений, но общими закономерностями. Этот подход получил название функционализма.
Дюркгейм выделает коллективное сознание как свойство, присущее обществу в целом и по сути являющееся кодом общественного устройства и парадигмой социальных процессов. Дюркгейм считает коллективное сознание «отдельной реальностью, не зависящей от воли и сознания индивидуумов». Изучение коллективного сознания и есть изучение общества в его социологической сущности, так как в основе общества, по Дюркгейму, лежат рациональные структуры и закономерности, которые отдельный индивидуум может не осознавать, но которые полностью предопределяют его социальное бытие.
Коллективное сознание свойственно как обществу в целом, так и отдельным социальным группам. В переходные периоды (реформ, революций, катастроф) структуры и нормы социального сознания меняются, что часто вызывает социальные патологии, которые Дюркгейм называл «аномиями».
Главным социообразующим фактором Дюркгейм считал «солидарность». Она может быть автоматической, то есть основанной на функциональном тождестве социальных ролей (в традиционном обществе), или искусственно и сознательно выстроенной (как в обществе современном). В первом случае индивидуальные свойства вообще отрицаются, во втором — признаются, но ложатся в основу искусственной социальной конструкции, основанной на их гармонизации.
В конце жизни Дюркгейм заинтересовался социологией примитивных народов, исследуя их мифологические представления и их влияние на структуры социума. Большое значение он уделял религии, считая ее ключом к дешифровке устройства социальных систем.
М. МОСС: ДАР И ОТДАРИВАНИЕ
Племянник и ученик Дюркгейма Марсель Мосс (1872–1950) продолжает развивать функционалистский подход, преимущественно обращаясь к теме исследования социологии примитивных обществ, которой закончил Дюркгейм.
Изучение примитивов приводит Мосса к идее о существовании древнейшей социоэкономической системы, основанной на даре и отдаривании. Речь идет не о классическом обмене, но о циркуляции силы, где центральные функции выполняют символ, ритуал и так называемая мистическая сопричастность [Леви-Брюль (1857–1939)]. Согласно Моссу, дар в примитивных культурах формально является произвольным, но по сути обязательным. Ярче всего это проявляется в обряде «потлач», в ходе которого владелец уничтожает свое имущество перед лицом конкурента, демонстрируя тем самым свою мощь и свое превосходство. Тот, кто дарит, символически побеждает и покоряет того, кто этот дар принимает. Поэтому второй должен симметрично ответить первому, чтобы обосновать свою независимость.
Социология примитивов, граничащая с антропологией и этнологией, открывает социологический выход в новое постпозитивистское направление, вплотную подводящее нас к структуралистской социологической топике.
Г. СПЕНСЕР: ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СОЦИАЛ-ДАРВИНИЗМ
Несколько иной подход свойственен английскому социологу Герберту Спенсеру (1820–1903). Он разработал биосоциальную концепцию общества как пространства внутривидовой борьбы за выживание человеческих особей в ходе продолжающейся эволюции видов животного мира, перенесенной из природы на территорию общества и воплощенной в новые формы.
Для Спенсера естественный отбор представляет собой базовое социальное явление: в ходе борьбы за существование преобладает принцип выживания сильнейшего.
Социология Спенсера берет в качестве модели для исследования общества не механические законы позитивистской физики и математики, но дарвинистскую теорию эволюции, прилагая ее к изучению социума. Социал-дарвинизм приводит Спенсера к обоснованию своеобразной версии либерализма, согласно которой индивидуумам в обществе надо предоставить максимум свободы (принцип «laissez-faire»), и тогда победа сильнейших приведет к оптимизации социальных условий, будет способствовать новым открытиям и накоплению материальных и нематериальных благ.
Либерализм соседствует у Спенсера с антидемократизмом и «элитизмом»; он считает, что оптимальная модель общества такова, чтобы давать дорогу сильным, богатым и активным, не обращая внимания на слабых и немощных.
Как и О. Конт, Г. Спенсер верит в прогресс, но толкует его иначе — в оптике социал-дарвинизма.
Теории Спенсера оказали огромное влияние на социологическую мысль и стали особенно популярными в американской социологии. В политической философии либерализма (особенно американского) они составляют важнейший концептуальный блок.
Среди прочих его идеи в США развивал социолог Уильям Самнер (1840–1910), разработавший на основании социал-дарвинистского подхода теорию «социального отбора». Самнер создал важную для социологической науки типологию «мы-группа» / «они-группа» для описания распределения типичных социальных отношений дружбы/вражды между отдельными коллективами или этническими общинами.
Ф. ТЁЁ¨ННИС: «ОБЩИНА» И «ОБЩЕСТВО»
Немецкий социолог Ф. Тённис (1855–1936), принадлежавший к органицистской школе, так же как и Спенсер, относится к обществу не как к механической, но как к органической, витальной системе. Для него общество как объект изучения социологии есть живая взаимодействующая с миром реальность, цельный организм. В отличие от Спенсера Тённис полагает, что витальные связи общества нельзя свести к дарвиновской модели эволюции видов, и необходимо изучать весь социальный организм в целом, включая сильных и слабых его участников, поскольку и те и другие несут определенные жизненно важные функции.
Для Тённиса свойственен холистский (от греческого Óloz, «холос», — «целое») подход к обществу.
Важной моделью в социологии Тённиса является вычленение двух фундаментальных типов отношений: общинных, развивающихся в общине (нем. Gemeinschaft), и общественных, рождающихся в обществе (нем. Gesellschaft). В немецком языке эти два термина различаются этимологически: Gemeinschaft — от gemeine («общее», «естественным образом разделяемое многими») и Gesellschaft — от gesellen («сочленять», «искусственно соединять»). Латинские термины «communitas» («община») и «socium» («общество») имеют сходную этимологию. В русском же языке содержательный нюанс ускользает из-за единства корней («община» и «общество»). Община (Gemeinschaft), по Тённису, основана на метафоре семьи; это такое явление, когда группа отдельных индивидуумов естественно и изначально образует нерасчленимое целое, «коллективного индивидуума» с одинаковыми материальными интересами и культурными свойствами. Общество (Gesellschaft), напротив, — коллектив искусственный, основанный на договоре, контракте. Ярким примером его является метафора «торговой компании», члены которой объединяются на временной основе из разрозненных индивидуумов.
Переход от общины к обществу, по Тённису, есть социологическое содержание Нового времени, хотя примеры подобной динамики можно найти и в древности. Заметим, что лично Тённис, вслед за Руссо (1670–1741), симпатизирует общине, считая ее более органичным и гармоничным социальным явлением, чем общество.
К. МАРКС: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МАКСИМАЛИЗМ
Для всех социологов (хотя и в разной степени) характерно завышение роли общества по отношению к индивидууму и объяснение частного, индивидуального исходя из целого, социального целого. Это общее свойство социологии как метода. Внутри же социологии как подхода есть граничные примеры. На одном конце спектра находятся теории, которые сводят к социальному началу все содержание индивидуума без исключения. Такие теории отличаются социологическим максимализмом: в них индивидуум есть только функция, «социологический человек», и ничего более. На другом полюсе спектра находятся теории, допускающие значительную самостоятельность индивидуума, вплоть до способности активно влиять на общественное целое и качественно изменять его по собственной автономной воле. Эти теории характеризуются «социологическим минимализмом».
Крайний пример социологического максимализма представляет собой теория Карла Маркса (1818–1883), марксизм. Согласно Марксу, принадлежность индивидуума к социальному классу полностью предопределяет все аспекты его социальной жизни (культуру, поведение, философию, мышление). «Класс» Маркс понимает в жесткой привязке к средствам производства, к экономическому базису. Но с социологической точки зрения важен не столько экономический детерминизм Маркса, сколько тот безусловный приоритет, который Маркс отдает социальности в сравнении с индивидуальностью. Содержание индивидуума, по Марксу, полностью — на 100 % — предопределяется обществом (в классовом обществе — классовой принадлежностью).
Маркс выделяет два основных антагонистических класса: эксплуататоров (в Новое время — преимущественно буржуазию) и эксплуатируемых (в Новое время — преимущественно пролетариат). Классовая борьба в философии Маркса становится главным содержанием социальной истории.
Маркс разделяет идею прогресса, считая, что в ходе исторического развития классовые антагонизмы постоянно нарастают (копятся) и рано или поздно выливаются в революции, приводящие к смене общественно-экономических формаций, а на этапе капитализма классовые противоречия приводят к социалистической революции и в конечном счете — к коммунизму. В коммунизме классы исчезают, но общество (как всечеловеческая община — сommunitas) остается и продолжает предопределять мирное и творческое бытие человеческого целого (которое станет целиком и полностью сознательным и свободным).
М. ВЕБЕР: ПОНИМАЮЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Прямо противоположного подхода — «социологического минимализма» — придерживается классик социологии Макс Вебер (1864–1920), основатель «понимающей социологии». Вебер настаивает на значительном и постоянно возрастающем в обществе весе целерациональной и ценностно-рациональной деятельности, то есть на фундаментальном значении индивидуального рационального начала в жизни общества.
По Веберу, индивидуум есть самостоятельная социальная величина, которая выражает свое содержание в общении с другими индивидуумами, создавая тем самым общественную реальность.
Появление «протестантской этики» и промышленного капитализма, а также выросшей из них буржуазной демократии, по Веберу, не просто историческая случайность, но высшее историческое достижение человечества, позволяющее индивидууму впервые построить договорное общество вместо различных видов «патерналистских общин» (в терминологии Тённиса). Ретроспективно Вебер видел зачатки такого демократического процесса и в древних обществах, но всякий раз какие-то социальные, идеологические, религиозные или исторические факторы препятствовали необратимому становлению общества как «контрактного» явления. Это стало возможным только в Новое время в Западной Европе. В основе подобной реализовавшейся модели Вебер видит протестантскую теологию личного спасения, критического разума и персональной ответственности, обоснованных в сотериологическом индивидуализме учений Лютера (1483–1546) и Кальвина (1509–1564).
Колоссальная заслуга Вебера в том, что он показал, как на основании богословских конструкций возникают секуляризированные социоэкономические и социокультурные системы, развивающие заложенные в религиозных учениях предпосылки в новых областях и на новых уровнях применения. В социологии идеи Вебера имеют основополагающее значение.
В. ЗОМБАРТ: «ГЕРОИ» И «ТОРГОВЦЫ»
Близкие к Веберу, но в чем-то противоположные по знаку теории развивал крупнейший немецкий социолог Вернер Зомбарт (1863–1941). Если Вебер, бывший личным другом Зомбарта, приветствовал буржуазный порядок и либеральную демократию, то Зомбарт их жестко критиковал.
Он выделял два социальных типа — героев (Helden) и торговцев (Haendler), которые создают два типа общества — героическое, религиозное, рыцарское (например, европейское Средневековье) и торговое, «контрактное», индивидуалистическое, буржуазное. Доминация того или иного типа предопределяет ценностную систему общества, его социокультурный профиль, политический и экономический строй.
Буржуазное общество и его идеологические предпосылки, возводимые Зомбартом не только к протестантской этике, но и к католической схоластике с ее имплицитным индивидуализмом, являются чистым примером «общества торговцев», где идеи обмена, всеобщего материального эквивалента (деньги), моральной гибкости, социальной адаптивности, технического развития и т. д. обретают право главенства над альтернативными семействами ценностей. Общество «героического» типа, напротив, выше материи ставит честь; мораль видит ригидной и неизменной; высокие идеалы превозносит над материальными интересами; жертвенность, мужество, служение и честь провозглашает более важными, чем прибыль и технические изобретения; деньгам придает меньшее значение, чем власти и престижу.
Зомбарт считает, что проводниками «торгового общества» являются чаще всего социальные, религиозные и этнические меньшинства, ущемленные в правах в «героическом обществе» и воплощающие свою энергию в системы обходных маневров через единственное, что им остается, — торговлю, экономику, финансы. Так, по Зомбарту, некогда еврейские менялы и ростовщики, а позже протестантские миноритарные секты добиваются вначале равноправия в «героической» цивилизации Западной Европы, а потом начинают сами диктовать социальные, политические и экономические стандарты, оттесняя тип «героев» на периферию и ниспровергая соответствующие ценности.
Зомбарт отвергал пролетарский социализм Маркса и настаивал на «германском социализме», который в качестве социально-политического субъекта выбирал не «класс», но этнокультурную группу, объединенную общей коллективистской ценностной системой. В таком социализме Зомбарт считал целесообразным лишить отдельных индивидуумов каких-либо прав и регулировать отношения государства только с конкретными социальными группами. При этом Зомбарт был чужд расизма и понимал принадлежность к народу не как расовую предопределенность, но как дело свободного духовного и культурного выбора.
Работы Зомбарта по социальной и экономической истории Европы являются общепризнанной классикой в социологии.
Г. ЗИММЕЛЬ: СОЦИОЛОГИЯ ЖИЗНИ
Еще один органицист в социологии — философ Георг Зиммель (1858–1918). Он принадлежал к направлению «философии жизни» и исследовал спонтанный и немеханический характер социальных связей и отношений.
В центре социологической конструкции Зиммеля стоит понятие взаимодействия (Wechselwirkung), то есть обмена индивидуумов жизненными импульсами — жестами, идеями, предметами.
В своем труде «Философия денег»5 Зиммель показывает, как экономическая деятельность, переходящая определенную социальную черту, искажает жизненные свойства человека.
ЧИКАГСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
(А. СМОЛЛ, Д. ВИНСЕНТ, У. ТОМАС, Ф. ЗНАНЕЦКИЙ)
В США социология стала развиваться раньше других стран, но изначально носила преимущественно прикладной характер. Первая в мире кафедра социологии появляется в США в 1892 г. в Чикагском университете. Ее основателем был социолог Альбион Смолл (1854–1926). С ним тесно сотрудничали американские социологи первого поколения Джордж Винсент (1864–1941), Уильям Томас (1863–1947), Флориан Знанецкий (1882–1958) и другие.
С философской и экономической точки зрения представители этой школы были последовательными либералами, закладывали принцип индивидуальной свободы и личного благосостояния в основу социологического метода. С самого начала социологи Чикагской школы тесно сотрудничали с административными инстанциями города Чикаго (крупнейшего финансового и промышленного центра США), развивая научные теории в прямой связи с решением практических управленческих, социальных и отчасти политических задач.
Это направление положило начало практической социологии, нацеленной не только на корректное описание и изучение социума, но и на активное участие в его изменении. Так, американские социологи первой волны исходили из убежденности в необходимости целенаправленной политики по смягчению классовых противоречий, которые порождает капитализм, что было необходимо в первую очередь для сохранения самого капитализма как такового. Они разработали и частично реализовали социальные проекты и программы, направленные на достижение этой цели.
ДЖ.Г. МИД: СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ
Одной из весьма показательных фигур американской социологии считается философ Джордж Герберт Мид (1863–1931), также бывший профессором Чикагского университета. Он учил, что общество конституируется через «символическое взаимодействие» между его членами (акцент ставится на конститутивном значении индивидуума и межиндивидуальных коммуникаций). По Миду, общество есть постоянно корректирующийся договор различных индивидуумов и социальных групп, вырабатывающих через систему обобщенных в «социальных символах» взаимодействий структуры и коды общественной жизни.
Ко второму поколению этой школы относят таких социологов, как Роберт Эзра Парк (1864–1944), Эрнест Берджесс (1886–1966) и Уильям Огборн (1886–1959).
КОЛУМБИЙСКАЯ ШКОЛА (Г. ГИДДИНГС, П. ЛАЗАРСФЕЛЬД, ДЖ. МОРЕНО, Р. М¨РТОН): ТЕОРИИ СРЕДНЕГО РАНГА
К второй по значению социологической школе США принадлежала группа социологов, работавшая в Колумбийском университете. Ключевой фигурой среди них был Генри Гиддингс (1855–1931), последователь, как и Самнер, Г. Спенсера и активный пропагандист позитивистских методов в социальных науках. Эта школа дала таких знаменитых социологов, как Пол Лазарсфельд (1901–1976) (первый систематический исследователь социальной роли масс-медиа и автор классического для социологии концепта «лидер общественого мнения» и т. д.) и основатель социометрии Джейкоб Леви Морено (1892–1974), который ввел в социологию практику ролевых игр и социальной терапии.
К этой же школе примыкал Роберт Мёртон (1910–2003), выдвинувший теорию «самосбывающегося пророчества»(selffulfilled prophecy), согласно которой социальные и даже научные прогнозы сплошь и рядом являются формой косвенного влияния на ход событий в заведомо заданном ключе), и введший в научный оборот такие формулы, как «ролевая модель», «непреднамеренное следствие», «социальная дисфункция», «латентные функции» и др., которыми пользуется большинство современных социологических систем. Мертон предложил делать акцент в социологическом анализе на «теориях среднего ранга», воздерживаясь от глобальных обобщений, хотя и не ограничиваясь простым описанием эмпирических фактов.
Ч. КУЛИ И Л. УОРД: ХОЛИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
ПО-АМЕРИКАНСКИ
Приоритетной моделью американской социологии является социологический минимализм, или представление о том, что именно индивидуум или взаимодействие между индивидуумами порождают постоянно меняющиеся социальные системы, обретающие формы и содержание только в силу межиндивидуального обмена и постоянно воспроизводящегося или изменяющегося «коллективного договора». Это справедливо для большинства школ и направлений, хотя здесь есть и несколько исключений.
Так, огромный вклад в американскую и мировую социологию внесли такие социологи, как Чарльз Кули (1864–1929), стоявший на органицистских (холистских) позициях, рассматривавший социальные группы и все общество как единые живые существа, управляемые «коллективным сверх-Я», и настаивавший на чисто социальной природе человека; а с другой стороны — Лестер Уорд (1841–1913), основоположник «психологического эволюционизма», который стремился придать социал-дарвинистским концепциям «гуманистическое» измерение, сочетая идеи Г. Спенсера с идеями О. Конта и полагая, что в обществе человек преодолевает свое биологическое (животное) начало и от спонтанного «генезиса» животных видов переходит к осознанному «телезису» (от греческого слова «t◊loz» — «цель»), то есть волевому и рассудочному движению к заведомо поставленной цели, осуществляемому в ходе создания государства и движения по пути социального прогресса в сторону классового равенства.
Т. ПАРСОНС: СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Отдельно следует рассмотреть фигуру крупнейшего американского социолога Толкотта Парсонса (1902–1979). Парсонс поставил перед собой трудно выполнимую задачу — свести в обобщенную теорию социологическую модель Э. Дюркгейма с его функционализмом и социологическим максимализмом и «понимающую социологию» М. Вебера с ее повышенным вниманием к индивидууму, его мотивациям, рациональности и целеполаганию, то есть отличающуюся социологическим минимализмом.
Парсонс разработал теорию структуры социального действия, где описывал общество как «систему действий» человеческих индивидуумов друг на друга, включенную во внешнюю органическую среду. «Социальное действие» в социологии Парсонса было призвано служить той инстанцией, которая объединила бы системные закономерности социума и свободу волевых действий отдельных личностей.
Ключевым в теориях Парсонса было понятие системы, то есть открытой совокупности организующихся элементов, постоянно меняющихся, развивающихся и эволюцинирующих (в дальнейшем мы увидим, как и в чем система и системный подход противостоят структуре и структурному подходу).
Основополагающей матрицей «системы» Парсонс считал так называемую AGIL-парадигму. Эта аббревиатура расшифровывается как A — Adaptation (адаптация — англ.), G — Goal Attainment (достижение цели — англ.), I — Integration (интеграция — англ.), L — Latency Pattern Maintenance (сохранение латентного паттерна — англ.). Иными словами, система (куда включаются общество в целом, социальные группы, классы, страты, отдельные социальные явления или сферы деятельности) основана на четырех функциональных императивах: 1) приспосабливаться к внешним условиям среды — социальной или природной, вписываться в них; 2) достигать поставленных автономно целей; 3) интегрировать, включать в себя (всегда частично) данные, получаемые извне; 4) сохранять постоянно действующую матрицу системного кода (в случае общества — культуру, коды коллективного сознания и т. д.).
В. ПАРЕТО: ТЕОРИЯ ЭЛИТ
Крупнейший итальянский социолог В. Парето (1848–1923) вслед за экономистом Л. Вальрасом (1834–1910) и совместно с социологами Г. Моской (1858–1941) и Р. Михельсом (1876–1936) в полемике с Марксом и его гегелевской конфликтологией и эсхатологическим идеологизмом выстроил теорию социального равновесия.
По Марксу, социум абсолютным образом предопределяет индивидуума; классовая борьба составляет стержень истории; общество развивается поступательно и подлежит прогрессивной качественной динамике, а его идеология отражает сущность социальных процессов — прямо или завуалированно.
У Парето все наоборот. Общество всегда одинаково, несмотря на смену идеологий. Классы не зависят от экономики, но формируются между элитой и массами под любыми идеологическими прикрытиями и идеями — монархическими, аристократическим, демократическими или социалистическими. Идеологии, религии и ценностные системы лишь прикрывают вечную борьбу высших классов (элит) с низшими (массами). И эта борьба ни к чему не ведет, но лишь восстанавливает периодически нарушаемое равновесие. У истории нет поступательного развития, есть только мирная или насильственная ротация элит.
Л. ГУМПЛОВИЧ: РАСОВАЯ БОРЬБА
Другая (более ранняя хронологически) версия социологии элит дана у польско-австрийского социолога Людвига Гумпловича (1838–1909) (кстати, учителя Э. Дюркгейма). Гумплович также полемизировал с Марксом, но предлагал вместо тезиса о «классовой борьбе» (Klassenkampf) альтернативный тезис — о «расовой борьбе» (Rassenkampf). Под расой Гумплович подразумевал этнос. Он считал, что элита, доминирующая в обществе, всегда имеет в истоках аллогенное (чужеродное, иностранное) происхождение. Меньшинство завоевателей устанавливает свой порядок над большинством автохтонов.
Этот же принцип прямой доминации верхов над низами сохраняется и на последующих этапах, когда антагонизм между завоевателями и завоеванными забывается. В этом случае он переносится с этнических групп на группы социальные, но модель поведения и тех и других остается принципиально той же самой. Так как принцип этнической (социальной) доминации является, по Гумпловичу, главным социальным законом, то он отождествляет общество с государством как институтом насилия. Альтернативой насилию со стороны государства он считает анархию и беспорядок.
Свои социологические концепции Гумплович обосновывал огромным историческим материалом из истории происхождения государств и этнической истории народов.
П. СОРОКИН: СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА
Русская социология (основателями которой были выдающиеся ученые Ковалевский, Де Роберти) дала мировой науке великое имя — Питирим Сорокин. Сорокин по праву считается крупнейшим социологом XX века. В юности он был активным сторонником партии эсеров, народником, противником большевиков, но вместе с тем и апологетом русского социализма (подобно тому как другой выдающийся социолог, Вернер Зомбарт, был апологетом социализма германского).
Главная идея социологии П. Сорокина — отсутствие прогресса, ограниченность возможностей общества и его социокультурной динамики. Согласно Сорокину, существует всего несколько типов политического устройства (шесть, по Аристотелю: монархия, аристократия, полития, тирания, олигархия, демократия) и несколько типов философии — идеализм, эмпиризм, номинализм, реализм (концептуализм Абеляра), скептицизм и критика чистого разума Канта. Общества перебирают эти возможности, иногда на чем-то задерживаясь, иногда стремительно переходя к следующей комбинации. Но так как набор выбора ограничен, то в основных, сущностных чертах социокультурные циклы повторяются. Каждый день, по замечанию Сорокина, мы завтракаем и обедаем, а по ночам спим. Но всякий раз мы делаем это чуть-чуть по-разному: меняются меню, сновидения, обстоятельства. Однако основной паттерн одинаков. Так же и общество. Один диктатор отличается от другого, а одна модель демократии — от другой. Но отличия существуют лишь в деталях — при этом сами социокультурные типы неизменны.
Социум, по Сорокину, имеет три вечные сменяющие друг друга модели: идеационную, идеалистическую и чувственную. В идеационной модели преобладает принцип религиозной веры, вплоть до фанатизма, аскетизма, героизма, пренебрежения материальным. Такой тип дает расцвет империй, царств, религий. В идеалистической модели доминирует рассудок, сознание, высшие идеалы гармонично соотносятся с материальными ценностями и эмпирическими данными, процветают науки. Чувственная модель главное значение придает телесной, материальной, эмпирической стороне вещей. Принцип наслаждения (гедонизм, эвдемонизм) преобладает над всем остальным. Три типа обществ сменяют друг друга в следующей последовательности: идеационный — идеалистический — чувственный и снова идеационный и т. д. Каждый тип деградирует по своей внутренней логике, и то, что приводит к расцвету очередной общественной модели, в дальнейшем обусловливает ее конечный упадок.
Сорокин вводит понятие социальной мобильности — вертикальной и горизонтальной. Вертикальная мобильность представляет собой способность субъекта перемещаться по социальным стратам, горизонтальная — менять местожительство, профессию, социальные среды, оставаясь при этом в одной и той же страте.
Контрольные вопросы
1. Какие три эпохи выделял О. Конт в человеческой истории?
2. Кто считается основателем «понимающей социологии»?
3. Что такое социологический максимализм и социологический минимализм? В чем состоит основное различие между этими подходами?
ГЛАВА 1.2
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛОГОС И СТРУКТУРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
(В КЛАССИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ)
СОЦИОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ЛОГОС
Согласно Дюркгейму, «коллективное сознание» является синонимом рационального кода общества, поэтому мы можем говорить о социальном логосе. Хотя общество шире, чем его социальный логос, тем не менее именно в социальном логосе концентрируется рациональная составляющая социума, которая не только ответственна за его упорядоченное функционирование, но и лежит в основе познаваемости общества, его интеллигибельности. Для классической социологии характерна следующая формула: социум тождественен социальному логосу.
На этот социальный логос проецируются различные стороны человеческого общества (у разных социологов по-разному), но все социологические теории сходятся в том, что социум как главный интуитивный объект изучения социологической науки лежит в области сознания, то есть имеет рациональную природу.
СХЕМА СОЦИАЛЬНОГО ЛОГОСА
Существует классическая схема описания социального логоса, лежащая в основе социологического метода исследования. Эта схема называется схемой социальной стратификации6 и обобщает те фундаментальные константы, которые не зависят от того, какое общество мы исследуем, и присутствуют (хотя и в разной степени) практически во всех типах обществ — от древних до современных. Схема представляет собой четыре вертикальные оси: власть — богатство — образование — престиж (см. схему 1).
Структурирование социального логоса таково, что в большинстве обществ высокий (или низкий) уровень нахождения индивидуума (социологического человека) на одной из этих осей влечет за собой симметричное нахождение на других осях. Обладание властью чаще всего сопряжено с высоким престижем, материальной обеспеченностью и высоким уровнем образования. И наоборот, безвластие, неизвестность, бедность и безграмотность сплошь и рядом соседствуют друг с другом. На основании этой закономерности производится замер социальной стратификации общества — выделение уровней относительно высоких и низких позиций на всех четырех осях. Так, в любом обществе можно выделить устойчивые страты, которые будут определять его количественную и качественную структуру и соответственно выражать конкретное издание социального логоса.
Социальный логос различается в своих проявлениях по ряду параметров — в частности, по наличию вертикальной и горизонтальной мобильности (П. Сорокин), по приоритету значимости одной из четырех осей и т. д.
В некоторых случаях социальный логос может искусственно видоизменяться. Например, при социализме была сделана попытка отменить имущественное неравенство и сгладить другие формы стратификационных различий. Но почти сразу после большевистской революции оси власти и престижа были восстановлены в полной мере, а к концу советского периода дало о себе знать расслоение в уровнях образования и материальной обеспеченности. После распада СССР все четыре стратификационные оси в российском обществе восстановились с явным отставанием оси образования, которая замедляет рост по сравнению с осями дохода, власти и престижа. Правда, в последние годы намечается тенденция к росту социальной значимости образования и науки. По этому признаку можно судить о свойствах и качествах социального логоса современной России.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЛОГОС
В рамках социального логоса социологический человек представляет собой социальный статус (М. Вебер), понятый как совокупность социальных ролей. Социальный статус или несколько статусов (каждый из которых есть сумма социальных ролей) составляют содержание индивидуального социального логоса, или структуру социального сознания индивидуума. Этот малый социальный логос определяется не изнутри индивидуума, но извне — через соучастие в большом социальном логосе, в социальном целом, то есть через социализацию. Все статусы и роли объективны и экзогенны в отношении человека. Индивидуальными являются лишь их набор и качество их исполнения.
Малая социальная рациональность индивидуума есть неотъемлемый компонент целостной структурной рациональности всего общества, и социальный логос в целом предопределяет его частный — «ролевой» — извод.
Между социологами-функционалистами и представителями «понимающей социологии» ведется спор относительно меры автономности индивидуального социального логоса и общего социального логоса. Он напоминает спор атомистов и волновиков в физике: для одних социальный человек — это волна, а для других — частица. Первые утверждают, что изменение социального статуса, переход от группы или страты в другую, смена набора социальных ролей по сути создает новую социальную личность (функционалисты), а для вторых (понимающих социологов) индивидуум по сути своей сохраняется, меняются только его атрибуты, и его индивидуальный социальный логос, в свою очередь, аффектирует (как постоянная величина) социальное целое.
В любом случае система социального логоса рациональна, в ее основе лежит «коллективное сознание», она построена на «рацио» и может быть изучена с помощью рациональных методов.
СОЦИУМ КАК СТРУКТУРА
Классическая социология почти всегда имеет структурный характер. Структурность вытекает из того, что при изучении общества используется некая константная модель, служащая неизменной системой координат при изучении динамических процессов — трансформаций, качественных и количественных изменений (флуктуаций, сдвигов, разрывов, катастроф).
Но особенно наглядно структурный характер имеют те социологические теории, которые приоритетно настаивают на функционализме и на постоянстве основных социальных параметров. Неслучайно поэтому первым термин «структурная социология» употребил Питирим Сорокин, концепция которого сочетает в себе ярко выраженный функционализм и отрицание однонаправленного общественного прогресса. В том же направлении развивал идеи Сорокина его ныне здравствующий ученик — американский социолог Эдвард Тириакьян.
Что значит «общество есть структура»?
Это значит, что в основе социума лежит неизменная (по крайней мере, очень долговременная) модель, составляющая его постоянную часть, структуру, а динамика, изменения и трансформации протекают на поверхности этой неизменной модели (структуры), получая свое социальное содержание из соотношения с глубинными свойствами и закономерностями константного социального логоса.
Если использовать понятия структурной лингвистики, то для такого подхода общество, социум — это язык, а различные его виды — это дискурсы.
СТРУКТУРНАЯ ЛИНГВИСТИКА: РЕЧЬ И СЛОВО (ВЫСКАЗЫВАНИЕ, ДИСКУРС)
Структурная социология может быть рассмотрена как результат применения к обществу принципов структурной лингвистики (Ф. де Соссюр (1857–1913), Р. Якобсон (1896–1982), Н. Трубецкой (1890–1938) и другие). Структурные лингвисты выделяли два основных уровня: 1) структурный и неизменный (синхронический), потенциальный — это уровень языка (la langue — фр.) и 2) переменный, развертывающийся во времени и необратимой логической последовательности — это уровень речи, дискурса (la parole, le discours — фр.).
Язык парадигмален — он диктует морфологию речи, правила высказывания, возможности постановки различных лексических единиц, предопределяет сопряжение членов и их порядки. На одном и том же языке можно произнести бесконечное количество речей, которые будут использовать конечное количество базовых элементов.
Уровень дискурса — это уровень синтагмы. Синтагма имеет всегда конкретные члены, выбранные из вариантов, содержащихся в языке, и располагает их в строго определенном логическом порядке. Дискурс получает смысл только исходя из его соотношения с языком. Дискурс всегда актуален, а язык — потенциален.
Язык дает о себе знать только тогда, когда на нем начинают говорить (читать, общаться), но вместе с тем он существует независимо от речи (письма, общения) и никогда не выступает в этом процессе прямо.
СОЦИУМ КАК ЯЗЫК
Проекция вышеобозначенной систематизации на социум дает основы для структурной социологии.
В социуме мы выделяем парадигмальное и синтагматическое измерения. На уровне парадигмы (общество как язык) социум представляет собой карту возможностей, совокупность строго определенных маршрутов и закономерностей. В эту парадигму включено и то, что исторически реализовалось ранее, и то, что реализуется сейчас, и то, что будет реализовываться в будущем (а также то, что могло бы реализоваться на основании внутренней организации возможностей общества, но что не реализовалось ранее и, вероятно, не реализуется в ближайшем будущем).
Социальная парадигма есть постоянная часть социального логоса. Социальная синтагма есть переменная его часть.
Конкретное общество есть момент общества в целом. Смысл социологическому исследованию придает размещение собранных данных в парадигмальном контексте социального логоса, что предполагает не только ретроспективное знакомство с социальной историей данного общества, но и предвосхищение его проективных моделей (поскольку будущее предопределено социальной парадигмой, так же как и прошлое).
Конкретное общество (как синтагма) всегда есть лишь бесконечно малый момент «большого общества» (как парадигмы). Поэтому актуальное расшифровывается в социологии через потенциальное, то есть не просто через историческое, бывшее, прошлое, но через возможное, могущее быть, будущее. А само историческое лишь иллюстрирует, что и как могло (а значит и может) быть.
Социум всегда имеет большую длительность. Что значит большую? Большую, чем что?
Большую, чем длительность человеческой жизни и сроки конкретного социального периода, в котором актуальная социальная модель остается относительно постоянной. Социум существует не только как он есть «здесь» и «сейчас», но как он был «до» и будет «после».
Реализовавшееся и наличествующее в обществе всегда является бесконечно малым по сравнению с тем, что вообще возможно. Так же и в языке: невозможно перебрать все сочетания всех слов — всегда будут создаваться новые возможности, новые контексты и новые варианты.
Более того, смысл социума открывается отнюдь не в каждом его конкретном моменте. Смысл социальному моменту придает его соотнесение с социологическим целым7 — с тем, чем общество является принципиально, в масштабе истории, чем оно являлось в прошлом и чем оно будет являться в будущем.
В социальном моменте заложены социальное прошлое и социальное будущее, они-то и придают обществу смысл и составляют содержание общественного (коллективного) сознания — социального сознания, которое обращено в историю и несет в себе проект будущего.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК И «ТЮРЬМА БЕЗ СТЕН»
Российские ученые-социологи В.И. Добреньков и А.И. Кравченко в первом томе своей «Фундаментальной социологии»8 показывают важную особенность поля применения социологии как науки: движение от социологии в сторону индивидуальности достигает предела в чистой индивидуальности, которая ускользает от компетентности социолога и которой занимается преимущественно психология. Там, где кончается социологический человек, завершается компетентность социального логоса, причем, возможно, завершается и сам логос как таковой (об этом, как мы видели, ведут между собой спор «функционалисты» и «понимающие социологи»).
В любом случае человеческий атом, двигаясь в сторону от общества, от социума, укрывается в области психологии, где получает научное убежище, прячась от социальных детерминант коллективного (социального) сознания.
Так, индивидуальная психология есть предел социума и сфера сугубо индивидуального — в личной психологии человек пытается убежать от статусов, ролей и страт, классов и социальных групп, то есть от функционального детерминизма, от парадигм и синтагм социального логоса.
Бегство в личную психологию — особенно в ее бихевиористском варианте — есть бегство человека от структуры, от своей социологической предопределенности, но вместе с тем и от своего социального смысла. Чисто психологический человек был бы абсолютно бессмысленен; обращенный сам на себя, он способен только продолжать работу по избавлению от социальных детерминаций, выкорчевывая остатки социального логоса, но и в этом случае — обратным образом — он зависел бы от социума. Полностью освобожденый от общества, человек представлял бы собой пустое множество, «тюрьму без стен» [по выражению Ж.П. Сартра (1905–1980)].
Контрольные вопросы
1. В чем состоит основной метод структурного подхода в лингвистике?
2. В чем основное различие социологического и психологического подходов к человеку?
3. Что такое социальный логос?
ГЛАВА 1.3
ОБЛАСТЬ СОЦИОЛОГИИ, ОБРАЩЕННАЯ К ИРРАЦИОНАЛЬНОМУ
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ АТОМАРНЫХ ФАКТОВ
Мы бегло пролистали основные страницы классической социологии. Здесь стоит напомнить, что за этими скупыми схемами стоят горы детальных трудов и самих классиков, создателей так называемых «гранд-теорий», и их последователей, и представителей множества промежуточных школ, и отдельных социологов-практиков, разрабатывавших частные темы. В результате был наработан серьезный объем социологических знаний в рамках классической системы социологии.
Но в определенный момент классическая социология стала сталкиваться с системными проблемами, которые постепенно сложились в серьезный совокупный вызов.
Исследования социального логоса, начиная с Огюста Конта (с его социологическим оптимизмом), постепенно все чаще наталкивались на новые, с трудом осмысляемые факторы.
В первой четверти ХХ века позитивизм начал сдавать свои позиции даже в естественно-научных дисциплинах. Так, философ-позитивист Людвиг Витгенштейн (1889–1951) обнаружил невозможность вычленения так называемых атомарных фактов — безусловных, не зависящих от субъекта кирпичиков мироздания, на основании которых он, по заветам О. Конта, планировал создавать «позитивную», освобожденную от субъективизма, мифологизма и метафизики науку.
Соответственно, социологическая идея (в частности, у Дюркгейма) выделить безусловные и абсолютные «социальные факты» («атомарные социальные факты») и выстроить железную систему их взаимодействия (по аналогии с классической механикой — через каузальные цепи, «физику» действий и противодействий и т. д.) оказалась сомнительной. Первые социологи хотели спроецировать строгость естественных наук на общество, но именно в этот исторический период (первая треть XX века) сама естественно-научная строгость стала размываться, в частности, теорией относительности Эйнштейна (1879–1955) с относительным временем и квантовой механикой с ее принципом нелокальности — относительности пространства, и далеко ушла от механицистской ясности ньютоновской Вселенной и mathesis universalis.
Задача социологов усложнилась: они не могли больше использовать механические методы «старой физики» применительно к обществу (где они, впрочем, и так далеко не безотказно работали). А с новейшими открытиями в естественных науках прямолинейная позитивистская проекция научных стратегий на общество и вовсе стала неуместной.
ГОЛОС ИРРАЦИОНАЛЬНОГО (ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ)
Одновременно ряд социологических исследований подводил к пониманию того, что социальное сознание, социальный логос в значительной степени аффектируется импульсами и побудительными энергиями нерационального порядка.
Здесь определенное значение имели исследования социолога Густава Лебона (1841–1931), разработавшего социологию толпы. В явлении «массовой психологии» прослеживались постоянные сбои в коллективном сознании, его отступление в область иррационального, нерассудочного. «Совокупность интеллектуалов, собранных в толпу, ведет себя как стая зверей, а не как синклит мудрецов», — замечал Лебон9. При этом структуры «толпы» зависели от «расы». Англосаксонские толпы, по замечанию Лебона, формируют механические, иерархически упорядоченные общества, а латиноамериканские толпы в Южной Америке порождают общества хаоса, коррупции и безделья10.
Лебон говорит, что в некоторых случаях общество начинает руководствоваться системой мотиваций, далеких от рационального и каузально просчитанного поведения, оптимального для достижения поставленных целей. Следовательно, в сфере социального логоса открылись алогичные дыры.
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
И ПРАЛОГОС ПРИМИТИВОВ
Изучение общественного мнения, которым занимались социологи, вскрыло, со своей стороны, важную закономерность: общественное мнение наряду с рациональной информацией и рассудочными выводами оперирует огромным количеством предрассудков, нелепостей, невероятных подозрений и самых бессмысленных слухов, и часто на этом нерациональном основании принимаются решения, имеющие конститутивное значение для социального логоса.
Здравый рассудок или то, что считается таковым, сплошь и рядом оказываются далекими от здравости, так как выясняется, что они часто заключают в себе болезненные преувеличения, аберрации, грубые и нелепые предрассудки11.
Исследования позднего Дюркгейма и Мосса открыли важнейшее значение примитивных обществ, в которых социальная структура была настолько причудливой, особенной и отличной от европейских обществ, что некоторые этнологи, изучавшие эти общества (в частности, Люсьен Леви-Брюль), заговорили о пралогосе и пралогике (хотя можно было сделать вывод и о наличии в них какой-то иной логики, иного логоса).
В любом случае нерациональный характер архаических, а в определенных случаях и современных обществ требовал новых социологических методологий.
ГЕТЕРОТЕЛИЯ И ЭНАНТИОДРОМИЯ
Социологи заметили также постоянно повторяющееся явление гетеротелии: общество (институт, личность) ставит перед собой одну социальную цель, но в ходе ее реализации добивается чего-то совершенно иного (если достигнутая цель прямо противоположна поставленной, это называется энантиодромией).
Известное высказывание «Хотели как лучше, а получилось как всегда» как раз иллюстрирует феномены гетеротелии и энантиодромии.
Внимательное исследование общества показывает, что социальная гетеротелия — норма социальных процессов, в которых сбои в рациональном функционировании представляют скорее закономерность и правило, чем исключение.
В явлении гетеротелии ясно видна работа какой-то иной силы, которая воздействует на социальный логос как своего рода посторонний аттрактор (Б. Мандельброт). Это поставило классических социологов перед проблемой выявления, описания и изучения этого аттрактора.
ПОТРЕБНОСТЬ В НОВОЙ СОЦИОЛОГИИ
Как бы то ни было, социальный логос (коллективное сознание) оказался не в состоянии объяснить самого себя на основании только рациональных (логосных, логических) моделей и принципов. Выяснилось, что на него фундаментально влияют факторы, находящиеся вне его собственных границ. Причем речь шла не просто о среде (которая, напротив, вполне интегрировалась в социальные системы — как показала социология Т. Парсонса), но о действии какого-то сугубо человеческого и даже социального механизма, который вместе с тем подчинялся иным законам и иным принципам, нежели рациональная структура социального логоса.
С этой констатации начинается новое направление в социологии, вставшее на путь прямого столкновения с проблемой недостаточности социального логоса, с проблемой его ограниченности, его научного несоответствия решению тех задач, которые поставила перед собой социология.
Новая социология основывается на базе методик и знаний, накопленных и обработанных классической социологией, по аналогии с тем, как теории Эйнштейна и Бора (1885–1962), основанные на классической механике, подвергают пересмотру некоторые из ее классических постулатов (Эйнштейн — принцип необратимости времени за пределами конуса Минковского, Бор — принцип локальности пространства на квантовом уровне).
Контрольные вопросы
1. Что такое атомарный факт? Какова судьба этой позитивистской концепции у позднего Витгенштейна?
2. Рационально ли общественное мнение? Обоснуйте ответ, приведите примеры.
3. Что такое гетеротелия?
ГЛАВА 1.4
ОСНОВЫ СТРУКТУРАЛИЗМА. СТРУКТУРАЛИЗМ
КАК МЕТОД
ПОЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРАЛИЗМА
Параллельно тому, как социология столкнулась с проблемами в исследовании социального логоса исключительно логическими методами, в других областях гуманитарной науки вставали аналогичные проблемы. Как одно из наиболее перспективных направлений преодоления типичных проблем в этих сферах формируется течение структурализма.
Смысл структуралистского подхода состоит в релятивизации принципов прогресса и эволюционизма.
Структурализм утверждает, что в истории доминирует не поступательное развитие общества, а частичные и чаще всего обратимые изменения (флуктуации) в рамках устойчивой структуры. В основе структурализма лежит метафора языка и структурной лингвистики Ф. де Соссюра.
Структуралисты делают важнейший вывод о том, что логос есть частный случай какой-то более фундаментальной структуры, находящейся в состоянии потенциальности. Логос есть лишь одна из версий более общего комплекса. И для корректного понимания философии, культуры, права, политики и т. д. необходимо не только вычленить и выявить логос, управляющий данной областью и организующий ее, но исследовать почву, из которой он произрастает, спуститься вниз к его корням. В этих структурных корнях доминирует принцип синхронизма, постоянства, а в самом крайнем случае — циклических колебаний.
Именно поэтому П. Сорокин, критиковавший идею прогресса, назвал свою социологию структурной.
МИФ КАК СТРУКТУРА
Важнейшей сферой внимания структуралистов стала область мифа [К. Леви-Стросс (1908–2009), Р. Барт (1915–1980), В. Пропп (1895–1970), А. Греймас (1917–1992) и т. д.]. Миф и в архаических обществах, и в обществах современных12 представляет собой ту область человеческого духа, где сознательное и логичное тесно соседствует с бессознательным и иррациональным, представляя собой развитую структуру, отталкиваясь от которой можно проследить и траекторию дальнейшего становления логоса (философии, рационализма), и развертывание образов бессознательного. Поэтому интерес к структурализму мы видим и у психоаналитиков, в частности у Ж. Лакана (1901–1981).
Миф (màqoz) по-гречески означает «рассказ», «повествование», и подразумевается такой рассказ, который лежит в основании той или иной социальной практики, обычая или института. Наряду с вполне рациональными элементами и самой задачей — разумно объяснить то или иное явление — миф несет в себе отсылки к разнообразным темам, персонажам, событиям и связям, которые ускользают от рационального анализа, содержат в себе иррациональные, неверифицируемые элементы. Структуралисты считали, что миф требует не столько рациональной критики, сколько тонкого и внимательного проникновения в его специфическую стихию, представляющую собой не хаос и искажения «действительности», но своеобразный порядок, при этом отличный от привычного для современной цивилизации логического порядка.
Структурализм противостоит историцистским и прогрессистским моделям, которые располагают миф (мифос)13 всегда хронологически перед логосом, видят историю как процесс перехода от мифоса к логосу. Для эволюционистов мифос и логос в философиях истории стоят строго на одной плоскости — чем больше мифоса, тем меньше логоса, и наоборот. В истории цивилизации логос вытесняет мифос, снимает мифос (в гегелевском понимании термина «снятие»). В этой модели движение общества от архаики к современности есть движение к логосу, который последовательно и необратимо все более и более очищается от мифоса, становится все более и более логичным.
В противовес этому структуралисты утверждают, что логос и мифос — это два одновременно существующих этажа, или две части, единой «дроби», организующих жизнь общества: в «числителе» логос, в «знаменателе» — мифос.
Вместо эволюционистской формулы
где оба члена находятся на одной плоскости, структуралисты предлагают другую:
где они сосуществуют параллельно друг другу на разных этажах, в разных плоскостях, оказывая друг на друга существенное влияние.
Логос в таком случае не снимает мифос, но переводит его в тень, на «подвальный этаж», откуда тот постоянно дает о себе знать. Воздействие мифоса на логос в ситуации, когда с точки зрения эволюционизма его вообще не должно было бы быть, и ответственно за сбои в работе логоса, с точки зрения структуралистов. Это и есть искомый социологами «посторонний аттрактор».
П. РИК¨Р ― КЕРИГМА И СТРУКТУРА
Философ-структуралист Поль Рикёр (1913–2005) так обобщает сущность структуралистского подхода14.
Историцизм считает прошедшее исчезнувшим, а будущее — всегда открытым. Структуралисты же представляют себе картину в виде дроби. В числителе находится то, что вслед за Р. Бультманом (1884–1976) можно называть «керигмой»15. По-гречески это означает «провозглашение», «восклицание», а в христианской традиции керигма подразумевает распространение христианского послания, «благой вести». Протестантский теолог Рудольф Бультман толкует керигму как «содержание христианского учения, полностью очищенное от мифологических напластований». Иными словами, керигма есть религия минус мифос, чистый религиозный логос:
В знаменателе данной дроби располагается мифос, то есть то, от чего очищается керигма. Но, как бы керигма ни пыталась очиститься, она всегда выступает в окружении мифологических коннотаций, всегда готова соскользнуть в миф, откуда она появилась, и этот процесс бесконечен. В христианстве Бультман видит приблизительно 5 % керигмы и 95 % мифоса. (В этом состоит общий теологический настрой протестантизма, стремившегося изначально рационализировать христианскую традицию, «освободить» ее от того, что, по мнению протестантов, было «вторичным напластованием», «поздним привнесением» и, шире, чем-то «необязательным» для сущности послания Исуса Христа; это лежит в основе развитого в протестантизме метода «критики текста».)
Пространство знаменателя, куда помещают мифос, Рикёр соотносит со структурой в специфически структуралистском смысле: структура и есть миф, пралогика или предлогика (мифологика, по Леви-Строссу). Теперь мы можем записать все ту же формулу следующим образом:
Эта формула по своему значению полностью аналогична формуле логос/мифос, что можно выразить следующим образом:
Если признать за мифосом и структурой первичность в генезисе логоса и керигмы и рассмотреть их соотношения синхронически, а не диахронически, то мы получим чрезвычайно важный результат. Логос произрастает из мифоса, а керигма из структуры не в исторической последовательности, но постоянно, всегда. При этом трансформации логоса и керигмы, которые четко фиксируются в истории культуры и общества, следует рассматривать как различные версии, вытекающие из одной и той же структуры (из одного и того же мифоса). А значит, пралогика может порождать не одну логику (рациональность), а несколько, целый веер. Из такого умозаключения мы приходим к важнейшему для структуралистской философии выводу: то, что в Новое время европейцы считали универсальным рассудком, навсегда и окончательно победившим и изжившим «мифы» и «сказки» прежних эпох, оказывается лишь одной из версий керигмы, порождаемой структурой.
Так возникла идея «множественных рациональностей», то есть не универсального разума, а вариативного набора рациональностей, выпрастывающихся из мифологической структуры по той или иной схеме.
СТРУКТУРА СТРУКТУРЫ
Если у П. Сорокина в схеме четырех осей социальной стратификации мы видели структуру логоса, то у структуралистов мы сталкиваемся со структурой, которая порождает логос, то есть со структурой, которая первична по отношению к логосу и, соответственно, по отношению к структуре логоса. Это структура более общего порядка, и для нее сама структура социального логоса (которая есть язык для конкретного социума) есть не что иное, как дискурс.
Это можно отразить в следующих двух схемах. Первая показывает соотношение социального логоса и подлежащего ему мифоса:
Вторая визуально описывает то же самое (наличие у социальной структуры дополнительного измерения вглубь), только графически, помещая схему четырех осей социальной стратификации в числитель.
Ф. НИЦШЕ: АПОЛЛОНИЧЕСКОЕ И ДИОНИСИЙСКОЕ / ВОЛЯ К ВЛАСТИ
П. Рикёр в качестве провозвестников структурализма называет «философов подозрения» — Ницше (1844–1900), Маркса (1818–1883) и Фрейда (1856–1936).
Философия Ницше бросает вызов логоцентризму. Ницше утверждает существование двух типов культуры: аполлонической (где логос доминирует) и дионисийской (где влияние логоса ограничено). Они не только конфликтуют, но сосуществуют друг с другом, проступают сквозь друг друга.
Второй структурный ход Ницше как социолога — это его концепция воли к власти, с помощью которой он объясняет все остальное — политику, культуру, мораль, искусство. Воля к власти — это общий знаменатель социума, его структура. Сама по себе, будучи иррациональной и «инстинктивной», воля к власти организует общество, мораль, политику, культуру.
В графическом виде структуралистский характер философии Ницше, как ее понимает Рикёр, можно отразить в следующих двух схемах. Первая иллюстрирует синхроническое сосуществование аполлонического и дионисийского начал.
Драма соотношений аполлонического и дионисийского, парадоксы их оппозиций и встреч в мышлении, искусстве, культуре, истории, психологии стали личной судьбой Ницше как философа и человека и получили монументальное выражение в главном персонаже его философской поэмы «Так говорил Заратустра»16. Само психическое расстройство, пережитое Ницше в конце жизни, он осмыслял «философски». Провозгласив в припадке «ясновидения» (или «умопомешательства») самого себя «Дионисом», Ницше трагически засвидетельствовал свой личный спуск в структуру, прямое проникновение в сферу мифоса, низвержение в пралогос.
Вторая формула подчеркивает, что в качестве структуры, предопределяющей человека и общество, Ницше берет «волю к власти».
Воля к власти в книге с аналогичным названием17 и в других произведениях служит для Ницше системой координат, объясняющей всю совокупность человеческих поступков и саму судьбу мира, так как воля к власти для Ницше тождественна воле к жизни. Воля к власти иррациональна, она не объясняется разумом, но она-то и порождает разум, причем стремится сделать это снова и снова в попытках достичь самого далекого предела. Для Ницше сам человек и общество суть не что иное, как временная стоянка, момент развертывания воли к власти, горизонтом которого является фигура, превосходящая человека, — Сверхчеловек18.
У Маркса структурой выступает «базис». Структурализм Маркса может быть схематически описан так:
.
Французские и английские термины для «надстройки» и «базиса» (superstructure и infrastructure) уже в самих своих корнях несут отсылки к структуре и облегчают тем самым структуралистское прочтение марксизма.
О Фрейде речь пойдет в следующей главе, где мы подходим к самому главному в нашем исследовании — выяснению социокультурной топики новой социологии.
Контрольные вопросы
1. Как понимал П. Рикёр керигму и структуру?
2. Что выступало в роли структуры в философии Маркса? У Ницше?
3. Что такое миф в социологическом смысле?
ГЛАВА 1.5
КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
СЮРПРИЗ ПСИХОАНАЛИЗА
Мы уже говорили о соотношении социологии и психологии. Когда индивидуум хочет ускользнуть от социологии, он попадает в область психологии. Но речь идет только об особой психологии, которая занимается индивидуумом как чем-то отдельным, обособленным (о микропсихологии, то есть классической психологии и бихевиоризме). Другие виды психологии — о них пойдет речь в этой главе — устроены иначе и могут уготовить индивидууму, стремящемуся «спастись» от социологического детерминизма, неожиданный сюрприз. Как только он ускользнул от социологической хватки и механики социальных статусов и ролей, социального логоса в целом, он тут же попадает в систему не менее жесткую, функциональную и детерминированную — в область психоаналитики, где он снова оказывается под властью внеиндивидуальных структур.
З. ФРЕЙД: ОТКРЫТИЕ ES
Важнейшим открытием в этой области была психоаналитическая топика Зигмунда Фрейда.
Фрейд явился типичным структуралистом в том, что он разработал базовую структуралистскую «дробь» применительно к психологии индивидуума. Фрейд открыл Es (нем.), Id (лат.), «Оно» как то, что действует в знаменателе описываемой нами «дроби». Это подсознание.
Психоаналитическая топика Фрейда видит человека так: внизу Es (Id), подсознание; сверху Эго (сознание, логос), над ним — супер-Эго, сверх-Я, нечто аналогичное коллективному сознанию Дюркгейма.

Важно обратить внимание на то, где мы располагаем черту дроби, отделяющую бессознательное от сознания. Соотношение Эго и супер-Эго относится к области числителя и, соответственно, к сфере сознания и рациональности. Соотношением частного и общего, индивидуального и коллективного философы и социологи занимались и до Фрейда, и помимо Фрейда. Заслуга Фрейда — именно в обнаружении игнорируемого до него знаменателя, в «откапывании» Es, в спасении его от пренебрежения европейской рациональной культурой.
По Фрейду, деятельность Эго, индивидуального логоса есть не свободное и автономное развертывание структур в пространстве числителя, но постоянное соотнесение с тем, что находится в знаменателе. Мучительный диалог Эго со своим собственным подсознанием, откуда, как «стук из-под пола», постоянно поднимаются запрещенные желания, смутные импульсы, невнятные побуждения, темные страсти, Фрейд называл работой сновидений. События, развертывающиеся по вертикали (между эго и Es), оказываются более важными, нежели события, развивающиеся на горизонтали Эго, и именно они и предопределяют основное содержание Эго.
Фрейд считает, что основным содержанием Es являются индивидуальные младенческие переживания, связанные с первыми сексуальными чувствами — наслаждением, страхом, болью, желанием и т. д.
Фрейдизм — это структурализм, но пока он остается в рамках индивидуальности, хотя сам Фрейд в согласии со своей теорией пытается интерпретировать не только сюжеты религии, искусства и культуры, но и политические процессы и социальные закономерности, открывая возможность дальнейшему развитию его интуиций применительно к обществу19.
В этой топике Фрейда структура, мифос, знаменатель получили впервые конкретное и внятное описание. Фрейд составил карты подсознания, провел огромную таксономическую работу, составил реестр и интерпретационную модель основных психоаналитических сюжетов и ситуаций. Тем самым он подготовил почву для новой социологии, которая смогла отныне формализовать и истолковать с помощью психоаналитического инструментария то неопределенное, что социологи фиксировали как сбой в функционировании социального логоса, как гетеротелию, дисфункции, аномии и иные труднообъяснимые или патологические процессы.
Именно постоянная, не прекращающаяся ни на мгновение работа подсознания, «работа сновидений», ответственна, по Фрейду, за сбои в социальном логосе, который вынужден постоянно отвлекаться на тайное (и подчас постыдное) собеседование со своим «подвалом», где шевелятся слепые желания и темные импульсы.
К.Г. ЮНГ: КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
Настоящим и решающим прорывом в новой структурной топике было открытие «коллективного бессознательного» К.Г. Юнгом (1875–1961)20.
Юнг описывал это открытие как следствие одного сна, приснившегося ему в 1909 году, когда он вместе со своим учителем Фрейдом пересекал Атлантику на корабле. Ночью Юнг увидел, что ниже личного бессознательного, наполненного детскими переживаниями и первыми телесными опытами новорожденного, в еще большей глубине пребывают архетипы, «великие сны», которые могут увидеть самые разные люди и которые не имеют никакого отношения к их личной — даже психоаналитической, младенческой — истории. Этот пласт строго внеиндивидуален и представляет собой гигантское мифологическое поле, отражающееся в сказках, легендах, преданиях, вымыслах, сюжетах искусства, видениях психических больных, мистических учениях и т. д. Поле коллективного бессознательного представляет собой структуру мифоса, симметричную структуре логоса. И самое главное: бессознательное так же внеиндивидуально, как общие законы социума по отношению к отдельному индивидууму — социологическому человеку.
Итак, Юнг углубил понимание Оно (Es) Фрейда, выявив его фундаментальное и решающее свойство — свойство коллективности.
Коллективное бессознательное в такой модели и стало той структурой, которая предопределяет логос (Эго) со стороны «знаменателя». Особенно важно при этом, что коллективное бессознательное является таким же «общим», то есть, в определенном смысле, таким же «социальным», как и социальный логос, но только с обратной стороны сознания. Бессознательное, по Юнгу, есть онирический (сновидческий), мифологический социум, состоящий из особых фигур (архетипов), классов, статусов, ролей и функций.
КАРТА ПОДСОЗНАНИЯ И «РАБОТА СНОВИДЕНИЙ»
Юнг очертил карту коллективного бессознательного как параллельную топографию социума, расположенного с обратной стороны сознания.
Как человеческий рассудок работает в состоянии бодрствования, так сновидения, грезы, работают ночью. Во сне мы часто видим обрывки дневных мыслей — точно так же днем можно столкнуться с обрывками сновидений. Феномены «дежавю», оговорки, сбои в памяти, идиосинкразия, безотчетная неприязнь к неизвестному человеку и многие другие легкие сбои в строгом функционировании сознания известны всякому нормальному человеку. Психические отклонения, со своей стороны, показывают, насколько интенсивной может быть работа сновидений и наяву. Психически больные проламывают границы Эго и развертывают архетипы бессознательного напрямую, безо всякой цензуры. Огромный клинический опыт Юнга в области психиатрии оказал ему неоценимую услугу в формулировке основных психоаналитических и философских теорий.
Работа сновидений — это динамика мифоса, которая запущена в дело. Она-то и аффектирует общество, влияя на социальный логос таким образом, чтобы соотнести его с бессознательным. Любой прорыв мифоса в логос нарушает работу логоса, выводит на поверхность (в «числитель») процессы, которые обычно проходят невидимо и незаметно (в «знаменателе», в «подвале» социума).
Схематически топика Юнга будет выглядеть следующим образом:
Переход от Оно Фрейда, интерпретируемого им самим как совокупность индивидуальных комплексов, к коллективному бессознательному Юнга имел огромное теоретическое и методологическое значение. В области бессознательного Юнг постулировал наличие самостоятельной и универсальной реальности, не зависящей от поворотов личной психоаналитической истории индивидуумов. Это позволяло ему вплотную подойти к конструкции, столь же функциональной и самостоятельной, как та базовая модель, которой оперируют социологи (в первую очередь школы Дюркгейма). Психоанализ Юнга имел все шансы стать прямым аналогом социологии, изучающим законы коллективности и социальности, но только с обратной стороны; не со стороны сознания, но со стороны бессознательного.
ПОНЯТИЕ АРХЕТИПА
Коллективное бессознательное, по Юнгу, населено архетипами.
Архетипы — это символические фигуры: Царь, Герой, Дама, Отец, Мать, Чудовище, Искатель, Помощник, Двойник, Обманщик, Злодей, Соблазнительница, стихии, свет, нечистоты, дворцы, горы, двери, животные, змеи, падения, карлики и великаны и другие устойчивые сюжеты «великих сновидений». Сам Юнг так определял то, что он понимает под «архетипами»:
«Понятие архетипа... выведено из многократно повторявшихся наблюдений, что, например, мировую литературу определяют те мифы и сказки, которые содержат в себе мотивы, вновь и вновь появляющиеся повсюду. Эти же самые мотивы мы встречаем в фантазиях, сновидениях, делириях и безумных идеях современных людей. Эти типичные образы и взаимосвязи характеризуются как архетипные представления. Чем они отчетливее, тем в большей мере им присуще сопровождаться особенно живыми эмоциональными тонами... Они оставляют впечатления, оказывают влияние и завораживают. Они проистекают из неосознаваемого самого по себе архетипа, бессознательной предформы, которая, по-видимому, относится к унаследованной структуре психики и вследствие этого может манифестироваться повсюду как спонтанное явление»21.
Архетипы сгруппированы в семейства, и их появление во снах или отражение в культуре всегда связано внутренней логикой — закономерностью мифа. Архетипами могут быть символы — крест, свастика, чаша, колесо, гора, пещера, зеркало, могут быть человеческие персонажи, животные, природные явления, пейзажи, самостоятельные абстрактные сценарии и сюжеты. Все они группируются между собой по вполне определенным закономерностям, составляя в совокупности словарь бессознательного. Те или иные символы и архетипы могут сочетаться или не сочетаться с другими. В мире архетипов есть свои правила и порядки.
За видимым хаосом бессознательного Юнг стремился выявить порядок, но только порядок иного уровня, нежели привычный нам «керигматический» логос, дневная рациональность. Бессознательное, по Юнгу, не противостоит рассудку, оно охватывает, обнимает, интегрирует этот рассудок в себя как свой частный случай. И лишь тогда диалог с архетипами приобретает драматический характер противостояния, когда сам рассудок ополчается на свое бессознательное и начинает, со своей стороны, безжалостную войну с ним. Как правило, это приводит к параноидальным расстройствам и различным типам маний.
ЧЕЛОВЕК В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТОПИКЕ ЮНГА
Более подробно мы рассмотрим антропологическую модель юнгианской философии в разделе 5 («Социальная антропология»). В данный момент сделаем предварительные замечания, необходимые для того, чтобы лучше понять, как устроена сама психоаналитическая топика Юнга, обладающая центральным значением для новой социологии.
Юнг так описывает структуру человеческой личности: сверху (как и у Фрейда) располагается Эго, рациональная часть, индивидуальный логос.
Эго обращено к обществу одной своей стороной — эта сторона есть персона (личность). В социологии можно сказать, что персона есть совокупность всех социальных ролей и статусов. Социологический человек, по Юнгу, тождественен персоне.
Схема 3. Структура человеческой личности, по Юнгу
В Эго Юнг выделяет четыре главных качества:
• разум;
• эмоции;
• ощущения;
• интуиции22.
Схема 4. Основные качества Эго, по Юнгу
Обратим внимание, что к упорядоченным и логос-образующим свойствам Эго Юнг относит и ощущения, и эмоции, и интуиции. Все они строго упорядочены в рамках Эго, хотя их порядок качественно различен. На основе этих четырех фундаментальных свойств Эго Юнг строит свою знаменитую теорию психологических типов23.
Ниже идут внутренние пласты Эго — память, субъективные компоненты функций, аффекты и инвазии (вторжения из бессознательного).
Далее, еще ниже и глубже, располагаются пласты личного бессознательного, а еще глубже — коллективного бессознательного.
Такова психоаналитическая стратификация личности.
Эго контактирует с бессознательным через обобщающие образы — аниму / анимус и тень (die Schatten).
Анима — это женский образ мужской души. Анимус, наоборот, мужской образ женской души. По Юнгу, мужское эго представляет собой коллективное бессознательное в образе женщины (матери, старухи, невесты, жены, дочери). Это анима, женовидная душа. Женское Эго воображает свое бессознательное в образе мужчины, анимуса, души мужского рода. Это фигура старика, отца, мужа, жениха, прекрасного принца, младенца, часто крохотного человечка гомункула, мальчика-с-пальчик и т. д.
Тень — продукт подавлений со стороны Эго импульсов, возникающих в бессознательном. Тема тени связана с дьяволом и его образом в религии и культуре. Тень — это альтер-Эго (другое «Я») человека. Как оно действует, можно проследить на примере известной повести Р. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»24. Все неудачи и проблемы в диалоге Эго с коллективным бессознательным копятся в тени, структурируют ее, насыщают новыми и новыми энергиями. Тень может захватить контроль над человеком и над его Эго. Это одна из форм психических заболеваний и постоянный сюжет легенд и художественных произведений.
Юнг считал, что причиной большинства психических расстройств — и легких неврозов, и тяжелых психозов — является понижение ментального уровня (abaissement du niveau mental — фр.). Это означает ослабление контроля Эго над импульсами бессознательного. Тогда тень и другие составляющие бессознательного начинают бесконтрольно подниматься на поверхность.
Юнг полагал, что Эго — это один из комплексов и что теоретически у человека может быть несколько «я», как это часто бывает во сне или при некоторых психических заболеваниях, когда человек слышит голоса, видит, как он раздваивается или встречается сам с собой. Так как бессознательное коллективно, то идентичность Эго укоренена в топике коллективного бессознательного, а не в какой-то другой реальности. Эго, по Юнгу, лишь функция от коллективного бессознательного, точно так же, как социологический человек есть функция от социума.
ИНДИВИДУАЦИЯ
Задача человека, по Юнгу, — перевести содержание коллективного бессознательного в область сознания25.
Таким образом, Эго — динамика, а не статика. Человеческое Эго непостоянно и перманентно изменяется. Более того, Эго, по Юнгу, множественно, так как процессы индивидуации могут развертываться по-разному.
Индивидуация есть смысл и содержание жизни. Это то, что человек осуществляет непрестанно и безостановочно во сне и наяву, как правило, с переменным успехом.
Гендерные архетипы души предопределяют широкий спектр эротических переживаний и напряжений: человек видит в личности другого пола (иногда в обобщенном типе) проекцию своего бессознательного, которым стремится обладать.
Настойчивое желание расставить внутренние архетипы «по местам» провоцирует на рациональном уровне волю к упорядочиванию внешнего мира — его рационализации, техническое обустройство.
Разрушительная работа человеческого духа диктуется наущениями тени.
Сны о горах и полетах толкают человека к покорению социальных вершин. Ночные сюжеты о водах и норах возвращают его к грезам о пребывании в материнской утробе — тогда человек наяву копает землянки, траншеи или строит метро.
Вся область внешних (социальных) и внутренних (психических) действий представляет собой в такой картине лишь детали общего процесса индивидуации. Эти процессы ориентированы по вертикальной оси нашей «дробной» топики, и, стартуя из глубин коллективного бессознательного, они провоцируют в дальнейшем горизонтальное развертывание логических структур во внешнем (социальном) пространстве.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТОПИКА ЮНГА
Юнг приоритетно занимался психоанализом личности. Но он много говорил о психоанализе культуры или этносов.
Так, по его мнению, коллективное бессознательное немцев одержимо архетипом воинственного бога Вотана, и это может сказаться в истории (он предупреждал об этом задолго до появления национал-социализма). При этом Юнг указывал на наличие в этническом бессознательном различных пластов, наиболее глубокие из которых присущи всему человечеству.
Благодаря социокультурной топике Юнга мы окончательно получаем надежную концептуальную базу для новой социологии, способной не только учесть рациональный срез социального бытия человека, но и достроить вторую, психическую, половину антропологической структуры в строгой привязке к упорядоченным массивам корректно исследованного внутреннего мира.
Новая социология — это структурная социология (точнее сказать, структуралистская социология), или социология глубин (Юнг свою теорию называет психологией глубин — Tiefenpsychologie, по аналогии можно сказать, что речь идет о Tiefensoziologie)26.
Здесь социальный логос, тщательно исследованный классической социологией, дублируется коллективным бессознательным, помещенным в «знаменателе», не менее тщательно исследованным психологией глубин. Это пространство динамической работы мифов и сновидений, грез и архетипов, желаний и интуиций, которые составляют постоянно действующую структуру, аффектирующую, а то и полностью предопределяющую рациональные стороны социальных процессов — институтов, явлений, фактов и взаимодействий.
Структурная социология благодаря Юнгу открыла новый этаж вглубь. И тщательное изучение содержания этого этажа поможет намного глубже понять сущность общества и решить ряд социологических задач и парадоксов, не решаемых иными, конвенциональными методами.
ЧЕЛОВЕК КАК НЕПУСТОЕ МНОЖЕСТВО
Если в классической психологии, казалось, индивидуум нашел себе убежище от социального детерминизма, в психоанализе глубин он снова стал не более чем функцией от бессознательного.
Так друг на друга наложились два функционалистских подхода — социологический функционализм и психоаналитический функционализм. В одном случае индивидуум рассматривался как производная от надындивидуального социума (от коллективного сознания), во втором случае — как производная от коллективного бессознательного.
Через коллективное бессознательное мы, вслед за Юнгом, извлекли индивидуума из его психологического укрытия и поместили его во внеиндивидуальный контекст архетипов. Тем самым, человек в своем психическом мире из пустого множества, каким он представал в конвенциональной психологии, оторванной от социума, становится множеством непустым, но, напротив, наполненным «до краев» жизнью и энергией мифоса, «работой сновидений», творческим источником грез.
ПЯТАЯ ОСЬ ― ОСЬ ИНИЦИАЦИИ
К классической схеме социального логоса из четырех осей теперь можно добавить теперь пятую ось — ось индивидуации.
Если социум (как логос) составлен из стремления к занятию высших этажей социальной стратификации (на практике это возможно в открытых и невозможно в закрытых обществах), то задача мифоса — это индивидуация содержания коллективного бессознательного.
Если рассмотреть социальную структуру как непрерывную работу по выстраиванию и сохранению социальных осей — через утверждение ценности именно такой структуры общества в общем случае, а в частном — через стремление занять в этой структуре верхние этажи, то можно сказать, что она дублируется, более того, вдохновляется и в конечном счете предопределяется стремлением к утверждению, построению и укреплению империи души, внутренней империи. По мере осознания архетипических структур бессознательного человек осуществляет путь, вполне аналогичный социализации на внешнем уровне, — он постигает внутренний мир и движется к занятию в нем высочайших статуарных позиций.
Пятую ось, вдоль которой происходит процесс индивидуации, можно назвать осью инициации.
Инициация — это обряд, практиковавшийся в древних обществах, да и в ныне существующих религиях (или иных формах), призванный осуществить нисхождение человека в бессознательное (символическая смерть) с последующим возвратом его в дневное сознание (воскрешение), в процессе чего человек переживал опыт столкновения со своей структурой, сознательно отталкиваясь от которой он мог укрепиться отныне в сфере рассудка, утверждаемой на этот раз в согласии с травматически пережитым опытом27. Инициация и есть индивидуация, а ее мифы, обряды, символы и ритуалы призваны окунуть человека в свежесть витального хаоса великих сновидений, познакомить его со стихией мифа, чтобы открыть путь постепенному переводу архетипических содержаний на уровень рационального и социального бытия. Инициация (индивидуация) — это обряд рождения логоса из хаоса, который должен пройти каждый полноценный член общества и который призван сформировать полноценную психологическую и социальную личность.
ИНИЦИАЦИЯ И ЕЕ ФУНКЦИИ
Ось инициации, добавленная к четырем осям классической социологии, достраивает модель структурной социологии до исчерпывающей полноты. В традиционных обществах эта ось присутствовала эксплицитно: все социальные институты в высших и низших стратах начинались с инициации — будь то посвящение во власть (в частности, помазание на царство), посвящение в священники (хиротония) и монахи, посвящение в профессию (цеховые обряды, давшие начало масонству и компаньонажу)28 или в воины, и т. д. К современным религиозным формам инициации, сохранившимся до сих пор, относятся крещение у христиан и обрезание у мусульман и евреев. Сегодняшние посвящения в студенты или армейская дедовщина пародийно и поверхностно воспроизводят прежние инициатические ритуалы.
Значение пятой оси (инициации) можно оценить, если представить себе множество людей, обладающих властью, деньгами, престижем, получивших прекрасное образование, но остающихся глубоко несчастными. И это несчастье — не случайная прихоть обособленной психики, но абсолютно обоснованная вещь: их бессознательное дисгармонично и растерзанно; оно концентрируется на уровне тени, которая высасывает все жизненные соки; процесс индивидуации блокирован. Не получив инициации или не реализовав ее внутренних возможностей, упустив ее поворотный урок в судьбе, человек даже на верхних стратах общества будет невыносимо страдать.
Или, наоборот, представим себе монаха, отшельника или юродивого. Безвластный, нищий, никому не известный, неграмотный, он живет на дне общества или вообще за его пределами, но, реализуя духовный потенциал, заложенный в бессознательном, выпуская на волю глубинные архетипы, такой человек будет счастливым и полноценным, свободным и совершенным образцом для остальных людей и идеалом успешной индивидуации.
Эти примеры показывают центральное значение обозначенной оси. И здесь мы имеем дело не с компенсирующей психологией, а с особой социологией инициации, ведь в большинстве традиционных обществ именно ритуалы инициации и являются базовым инструментом социализации. Инициация предшествует власти; в ходе инициации люди получают первичное образование (знакомство с мифами, легендами, религиозными доктринами), и только получившие инициацию пользуются престижем в обществе. И наконец, часто прохождение инициации сопряжено с правом распоряжения частной собственностью.
Утрачивая инициацию как центральный социальный институт, общество отрезает доступ к знаменателю дроби, делает процесс индивидуации болезненным и проблематичным.
К теме инициации и ее значения для социологии мы будем не раз возращаться в других разделах. Сейчас подчеркнем лишь то, что психоаналитическая топика, включающая в себя дополнительное — внутреннее — измерение (зону мифоса), качественно изменяет пропорции базового социологического метода, что наглядно представлено в примере трансформации социальной структуры при включении в ее нормативный вид пятой оси (оси инициации).
Контрольные вопросы
1. Кто ввел понятие «коллективное бессознательное»? Что оно обозначает?
2. Что такое архетип в психологии глубин?
3. Как вы понимаете процесс индивидуации? Что такое пятая ось в социологии воображения?
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЯЗЫК ЛОГОСА И ЯЗЫК МИФОСА
АРИСТОТЕЛЬ: ОТ ЛОГОСА К ЛОГИКЕ
Величайший греческий философ Аристотель (384–322 до н. э.) первым среди известных нам мыслителей предпринял попытку описать структуру логоса, выделив те признаки, которые отделяют его от мифоса. Нечто подобное предпринималось и до него философами-досократиками, Пифагором ( 570–490 до н. э.) и особенно Сократом (ок. 469–399 до н. э.) и Платоном (428/427–348/347 до н. э.). Однако предшествующие Аристотелю реконструкции были вместе с тем и реструктуризацией мифоса, поскольку эти направления в ранней греческой философии были неразрывно переплетены друг с другом. Упорядочивание философии шло рука об руку с упорядочиванием мифологических и религиозных систем Древней Греции, в том числе и инициатических сценариев и обрядов. Поэтому, например, в учении Пифагора строго логические ряды, геометрические и математические соотношения и принципы соседствуют с предписаниями «не употреблять в пищу бобы» или «не позволять ласточкам вить гнезда под крышей дома». Леви-Стросс, исследовавший «дикарскую мысль»29, показал, как тотемистское мышление с помощью определенных растений и животных выстраивает таксономию вещей окружающего мира, в том числе социального и культурного, то есть сугубо человеческого. Поэтому фигура «вороны» или «медведя» у примитивов выполняет роль логического оператора в рациональных системах. Так, в пифагорействе мы встречаемся с собственно логосом, мыслью в ее рациональном виде, но вместе с тем и с элементами магического, мифологического и «тотемического» мышления. То же самое характерно для всех философов досократического периода.
Рефлексия мысли относительно своих внутренних закономерностей начинается у греческих софистов и достигает кульминации у Сократа и Платона, которые вплотную подходят к четкому различению рационального мышления и мифа, но решающего шага не делают. Ученик Платона Аристотель довершает начатое и выстраивает новое учение, которое представляет собой полную и законченную рефлексию логоса относительно себя самого. Это учение получает название «логики». По мнению большинства философов, сделанное Аристотелем было настолько фундаментальным, что вплоть до XIX века и появления философии Гегеля (1770–1831) представления европейского человека о логике практически не изменились. Аристотель описал структуру логоса, и эта структура оставалась постоянной, несмотря на все исторические изменения, на смену религий и политических режимов, культурных кодов и идеологических конструкций. По этой причине средневековая схоластика причислила учение «язычника» Аристотеля к освященной авторитетом Церкви общеобязательной теории, отражающей истинное устройство мира и человека.
Логика Аристотеля есть описание скелета логоса, его устройства, функционирования применительно к организации всей мыслительной деятельности. И вместе с тем именно логика прочерчивает строгие границы между логосом и мифосом. Все, что относится к сфере логоса, подчиняется законам логики. Это и есть область рационального знания. Там, где законы логики сбиваются или не выполняются, мы имеем дело с внелогичными, алогичными, иррациональными формами. Французский философ и антрополог Люсьен Леви-Брюль, исследовавший ментальность дикарей, называл это «пралогикой». На такой «пралогике» строятся структуры мифа, она же отражает в себе закономерности того, что Юнг назвал «коллективным бессознательным».
ЗАКОНЫ ЛОГИКИ
Напомним основные законы логики30. Четыре главные из них:
- закон тождества («А=А»);
- закон противоречия («A не есть не-A»);
- закон исключенного третьего («A или не-A»);
- закон достаточного основания («A истинно, потому что есть достаточное основание B»).
Три первых закона открыты Аристотелем, четвертый — сформулирован Лейбницем. Все операции разума строятся на соблюдении и применении этих фундаментальных аксиом, составляющих совокупно структуру логического мышления.
Закон тождества конституирует базовую реальность, с которой взаимодействует логос, — это нечто, что строго равно самому себе. Равенство самому себе при всей внешней самоочевидности есть специфическая черта логоса, который настаивает на строгом разделении. Смысл первого закона становится полностью понятен из второго закона — закона противоречия («А не есть не-А»). Тождество вещи с самой собой необходимо как предпосылка для отрицания ее нетождества с другими вещами. Оба закона совокупно — первый утвердительно, второй отрицательно — призваны точно фиксировать вещь, попадающую в зону внимания логоса, и жестко, радикально, бескомпромиссно отделить ее от всего остального, вырвать ее из окружающей среды.
Это действие составляет саму сущность логоса, который всегда, во всех режимах своего функционирования производит это базовое действие — вырывание рассматриваемой вещи из ее оригинального контекста, отрывание от него, изоляцию и помещение в новое пространство — в пространство рационального рассмотрения. Вещь в логосе как бы «вызывается на суд» перед лицом беспристрастных наблюдателей, отрываясь от привычной среды, где она могла бы маскироваться и ускользать от прямого и пристального внимания с помощью многочисленных органических связей, подразумевающих возможность метаморфоз и плавного перетекания в нечто другое.
Законы тождества и противоречия хирургически вскрывают ткань мифа, изымая из нее отдельный элемент, который очищается от связей и коннотаций и становится, по сути, чем-то совершенно новым. Логос конституирует с помощью двух первых законов логики новый объект, описываемый и определяемый именно этими законами и не существующий вне пространства логики.
В мифе его элементы — персонажи, действия, ситуации, ландшафты и т. д. — образуют неразрывную связь, плавно и незаметно перетекая друг в друга, и ряды совмещения этих элементов могут варьироваться по признаку мифологического сходства: вместо одного вполне можно поставить другое, если между ними существует символическое соответствие. Логос и логика отвергают такое явление, как символ, замещение одного другим, вариацию на основании функциональной близости и т. д. Они требуют от рассматриваемого объекта кристальной однозначности. «Либо это ты, либо это уже не ты, а кто-то другой», — сурово обращается логос к вещи или персонажу. Но такой дилеммы нет в мифе и у его участников, и поэтому в сферу логоса попадает не просто отдельно взятый элемент мифа, а нечто другое — что заведомо способно удовлетворить предъявляемым требованиям.
Отсюда другой аристотелевский термин — «категория», который этимологически означает «осуждение», «обвинение». Вещь, соответствующая законам логики, выставляется на беспристрастный суд, который изолирует ее от мифологических коннотаций, «осуждает» за них и превращает в логическую сингулярность — явление, совершенно не известное мифу.
Закон исключенного третьего еще более усиливает это требование к сингулярности, развивая законы тождества и противоречия. Кроме того, третий закон вслед за вторым активно вводит в оборот вторую сингулярность, не-А, которая получает автономное право присутствовать наряду с А в логическом пространстве.
Закон достаточного основания представляет собой основу дальнейшего развития логики и устанавливает взаимосвязь между двумя сингулярностями. Здесь вступает в силу иерархия логических сингулярностей, которые делятся на очевидные, аксиоматические (вытекающие из первых трех законов и построенные по их правилам), и те, которые требуют более развернутых обоснований. Обоснование строится по модели силлогизма. Простейший силлогизм состоит из трех членов — двух посылок и одного заключения. Например: «Всякий человек смертен (большая посылка); Сократ — человек (меньшая посылка); Сократ смертен (заключение)». Все участники силлогизма выступают как элементы логических конструкций, и каждый, прежде чем быть помещенным в силлогизм и участвовать в формулировке и доказательстве суждения, проходит процесс проверки на логичность. «Человек», «смертность», «всеобщность» и «Сократ» представляют собой логические единицы, тождественные только самим себе и не тождественные ничему другому. Предметы рассмотрения пойманы и захвачены жесткой решеткой логики. Сократ не может быть не-Сократом, смерть — бессмертием, человек — нечеловеком. В мифе все это вполне возможно, а в логосе — нет. Поэтому и доказательства суждений, и все дальнейшие, более сложные операции рассудка — вплоть до построения философских и религиозных систем — отталкиваются от совершенно специфических начал, жестко противостоящих противоречивой и ускользающей от логоса диалектике мифа31.
МИФ КАК ОТРИЦАНИЕ ЛОГИКИ
Язык мифоса определяется тем, что он является другим, нежели язык логоса, и не вписывается в те структуры, которые Аристотель постулирует как логику. Более того, само происхождение логики Аристотеля есть завершение гигантской философской работы древнегреческой культуры по преодолению мифоса. В таком случае мы вполне можем описать параметры «пралогики» или мифологического мышления, отталкиваясь от законов логики Аристотеля, но проделав этот путь в обратном порядке.
Миф строится на отрицании закона тождества, закона противоречия, закона исключенного третьего и закона достаточного основания.
В мифе А и равно А, и не равно А одновременно. Вещь есть одновременно она сама и не она сама. Это хорошо видно в понятии символ. Вещь мифа есть символ, в котором соединяется (греческое σύμβολοn означает «приведение к единству») сразу несколько сходных по структуре мифологической таксономии явлений. Поэтому А как символ есть одновременно не-А, а что-то еще. Такой подход опровергает и закон противоречия, так как А в таком случае есть не-А, и закон исключенного третьего — А вполне может быть одновременно и А, и не-А, следовательно, третье включено (tertium datur). Вопрос о достаточном основании в таком случае вообще теряет всякий смысл, так как справедливость или несправедливость суждения выводится из ткани мифа и периодов его развертывания, а не из корректных с логической точки зрения предпосылок и заключений. В условиях сновиденческой неопределенности символа строго обосновать суждение просто невозможно.
Рассмотрим пример силлогизма с Сократом. В мифе «человек» никогда не есть только человек. Он состоит из бренной оболочки и нетленной души, психеи (ψυχή по-гречески, дословно — «бабочка»), которая живет внутри него как в коконе. Более того, по душе, духу (а то и телу) в различных мифологиях человек родственен богам, духам, зверям, растениям, минералам, стихиям, светилам и т. д. Поэтому он попадает в непрерывную ленту метаморфоз, перетекает из вида в вид по таксономии «тотемизма», «мистического соучастия» или символических рядов. Значит, сказать что-то о человеке — это сказать в то же время и о нечеловеке. Что же касается его смертности, то это вообще является слишком многозначным утверждением, так как человек и смертен, и бессмертен одновременно. В сложных религиях есть учение о бессметрии души и смерти тела, а в более архаических культурах, где нет самой концепции индивидуального тела (а такое встречается сплошь и рядом), и с телом все обстоит намного сложнее. Итак, утверждение «всякий человек смертен» (большая посылка силлогизма) не выдерживает в мифе никакой критики и рассыпается на глазах. А так как на ней строится все остальное доказательство, то оно автоматически теряет силу. О Сократе уже вообще не может идти речи, так как миф любое собственное имя толкует в особом ассоциативном ряду.
И тем не менее у мифа есть своя структура, свои закономерности, свои основнополагающие элементы, свои нормативы и оппозиции. У мифа есть свой порядок. Более подробно речь об этом пойдет в следующем разделе, посвященном социологии воображения. Пока же обратимся к другой области, где действуют законы, существенно отличные от законов логики. Этой областью является риторика. Именно в риторике и ее структурах мы находим ключ к языку мифоса.
ТРОПЫ КАК СТРУКТУРЫ МИФА
Важнейшим инструментом риторики является троп. С греческого «τρόπος» переводится как «манера, форма действия, направление» (то есть отвечает не на вопрос что?, а на вопросы как? каким образом?). Этот термин означает в риторике переносное определение, которое дается вещи фигурально, искажая ее образ с целью подчеркнуть то или иное присущее ей качество. Сам Аристотель посвятил искусству риторики, основателем которой считается Эмпедокл (490–430 до н. э.), отдельную книгу и не видел в нем ничего несовместимого с другими областями своего интереса. Инструментарий риторики представляет собой противоложность логике и ее процедурам. Логика стремится освободить предмет от коннотаций, представить его как он есть, риторика же через троп, напротив, стремится изменить его, соотнести с другим, подчеркнуть отдельное качество и т. д.
Разновидностью тропа является метафора (μεταφορά — от metaφ◊rw, «я переношу», от μετά — «через» + φέρω — «я несу»). Метафора — это перенос свойств одного предмета на другой. Здесь мы имеем дело с наследием тотемистской таксономии, о которой говорили выше. И именно потому риторические приемы так влияли на публику, к которой обращались ораторы, что этот прием будил структуры бессознательного, топику сновидений, континенты мифов, которые в логической, рациональной культуре греков уже присутствовали по большей части в области «знаменателя».
Другим типичным тропом является метонимия (древнегреч. μετwνυμία — «переименование», от μετά — «над» и ὄνομα — «имя») — замещение всего предмета другим, связанным с ним тем или иным образом. Частным случаем метонимии является синекдоха (древнегреч. συνεκδοχή), то есть замещение всего предмета его частью. Метонимия часто служит основой таксономических цепочек, формирующих миф. Мальчик-с-Пальчик в сказке не только величиной с палец, но и рождается из отрубленного пальца бездетной старухи, и т. д. Палец далее может фигурировать отдельно для магических целей, может оживать, замещать своих носителей, говорить и т. д.
Другими тропами являются литота (от древнегреч. λιτότης — «простота», «малость»), преуменьшающая масштаб вещи, события, явления, личности, и гипербола (от древнегреч. Øερβολή —«переход», «преувеличение»), напротив, преувеличивающая его. Литота и гипербола дефигурируют объемы описываемых вещей — в мифе этим тропам соответствуют гиганты и карлики (по-русски — волоты и пыжики), а также множество сюжетов, связанных с огромными (драконами, ограми, горами и т. д.) и микроскопическими (орешек, иголка, кусочек кварца, горошина и т. д.) существами и предметами.
Катахреза (от древнегреч. κατάχρησις — «злоупотребление») — троп неправильного или необычного употребления слов или сочетания слов с несовместимыми буквально лексическими значениями. В этот троп укладывается семейство сбоев формальной рациональности в процессе развертывания мифа, которые свидетельствуют о его внутренней структуре. Фрейд через структуру оговорок изучал воздействие подсознания на человеческое Эго. Для психоанализа наличие катахрезы есть прямое указание на «работу сновидений», ведущуюся параллельно деятельности рассудка. В самом мифе, то есть внутри мира «сновидений», это указывает либо на наличие разветвлений в цепочке символов, либо на переход к иным символическим рядам.
Перифраз (от древнегреч. περίφρασις — «описательное выражение», «иносказание»: περί — «вокруг», «около» и φράσις — «высказывание») — троп, описательно выражающий одно понятие с помощью нескольких, что также относится к мифологической таксономии, периодическое перечисление рядов которой необходимо для трансляции культурного кода.
И пожалуй, самый важный из тропов, выражающий саму суть мифоса как явления, — это ирония (от древнегреч. εἰρωνεία — «притворство»). Риторика понимает иронию как троп, где истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) смыслу явному. Но это плод позднейшей рационализации. Смысл иронии выражает главное свойство мифа — его многослойность, наличие в нем периодов, которые представляют собой подобие переноса строки или рифмы в конце строки в поэтическом тексте. Леви-Стросс заметил, что миф следует читать как акростих — то есть и по горизонтали, где развертывается сюжет, и по вертикали, где выстраиваются оси символических соответствий между понятиями и фигурами, для рационального сознания представляющимися совершенно разрозненными, но в структуре мифа объединенными символическими соответствиями32. Ирония есть косвенное указание на вертикальную структуру партитуры мифа, то есть на наличие структурных симметрий между различными этажами — строками (подобно гармонии или аккомпанементу в музыкальных нотах). Смысл иронии в том, что сквозь одно суждение проглядывает другое, часто занижающее смысл первого, что указывает на присутствие дополнительного этажа (или нескольких этажей) в самом повествовании, связи с которым (или с которыми) неочевидны и требуют активной включенности и дополнительных знаний со стороны слушателя. То, что в рациональной структуре воспринимается как ироничность риторических тропов, в культуре мифологической служит указанием на дополнительные ряды, просвечивающие сквозь предметы, о которых формально идет речь, что и превращает их в символы. Привлечение внимания к дополнительным этажам повествования, имеющее подчас комический оттенок, на самом деле служит все той же цели — намекнуть на вертикальное прочтение партитуры, о которой в данный момент не говорится, но о которой могла идти речь в другом мифе или в другом разделе мифа.
В классической риторике прием иронии, как и тропа в целом, служил обращением к системе бессознательных структур, лежащих в топике «знаменателя».
Контрольные вопросы
1. Назовите основные четыре закона логики.
2. В чем миф расходится с логическим мышлением?
3. Каковы основные риторические тропы? Перечислите как минимум три из них.
РЕЗЮМЕ
В данном разделе мы описали предпосылки «новой социологии», которую можно определить как «структурную социологию» или «социологию глубин». Приблизительно по этой логике развивалась мысль тех социологов, которые, с одной стороны, отдавали себе отчет в ограниченности методов социологической классики, а с другой — учитывали выводы структуралистской философии, достигшей множества убедительных результатов в антропологии и этнологии [К. Леви-Стросс, Б. Малиновский (1884–1942), Л. Леви-Брюль], философии [Ж. Батай (1897–1962), П. Рикёр, М. Фуко (1926–1984), Ж. Делёз (1925–1995), Ж. Бодрийяр (1929–2007), Э. Левинас (1905–1995)], культурологии (Р. Барт), психоанализе [Ж. Лакан, Ф. Гваттари (1930–1992)] и т. д.
Благодаря суперпозиции (наложению, совмещению) классической социологии и психоаналитической топики, осуществленной по принципиальному сценарию структуралистского метода, мы получили синтетическую социокультурную топику из двух этажей, которая представляет собой выверенную методологически канву новой социологии. Каждому элементу во множестве «числителя» (социальный логос и его социологические разветвления) находится аналог или группа аналогов (бессознательное шире, чем сознательное) в «знаменателе», где пребывают миф, коллективное бессознательное и его архетипы. Теоретически можно заранее предположить, что в рамках предложенной двойной (двухэтажной) топики мы получим продуктивную систему соответствий и аналогий между элементами и множествами элементов, относящихся к каждому из них, что откроет для социологии новые перспективы.
Социальным стратам в такой топике будут соответствовать уровни психики; социальным ролям — роли, разыгранные фигурами души (анима/анимус, тень и др. архетипы) в драме индивидуации; социальной мобильности — мобильность психоаналитическая и индивидуационная (способность сознательного Эго перемещаться по вертикальной траектории, в бессознательное и обратно, и горизонтально, между архетипами, спящими на дне); социальному логосу — психический мифос; четырем осям социальной структуры — одна ось инициации.
Но, несмотря на соблазн предложить строгую симметрию двух планов этой топики, характер отношений между числителем и знаменателем в контексте общей структурной социологии (социологии глубин) только еще предстоит выяснить. Прямого перенесения данных психоанализа на социальную сферу недостаточно, поэтому реконструкции Э. Фромма (1900–1980) или В. Райха (1897–1957), пытавшихся спроецировать психоанализ на социум, интересны, но неудовлетворительны. Характер отношений «подвала» (мифоса) и первого «этажа» (логоса) более сложен. Психоанализ и структурализм дают прекрасное основание для начала исследований. Но это стартовая черта, а не финал. Благодаря вышеописанной топике мы можем приступать к работе, но эту работу остается только «начать и кончить». В этом и состоит нерв структурной социологии (как социологии глубин) — в окончательном виде она не создана и не разработана, а следовательно, задача остается открытой для новых поколений ученых. Но для творческого духа это только дополнительный стимул двигаться в новом увлекательном направлении.
Первыми шагами на этом пути станут более подробное выяснение устройства мифа, детальная классификация и кодификация содержания бессознательного. По счастливому совпадению (а скорее, в силу исторической закономерности), существует особое и, к сожалению, недостаточно известное направление в социологии, поставившее перед собой еще в конце 1950-х годов именно такую задачу. Речь идет о социологии воображения выдающегося французского мыслителя, философа и социолога XX века Жильбера Дюрана (р. 1921). Идеи Дюрана лежат в основе того, что мы понимаем под новой социологией, и соответствуют более полной картине структурной социологии, включающей в себя ее понимание как в смысле «структур социального логоса» (в духе П. Сорокина), так и структуры топики юнгианского психоанализа.
Знакомству с идеями этого великого ученого будет посвящен следующий раздел.
1 Сорокин П.А. Преступление и кара. Подвиг и награда. М., 2006.
2 Эмиль Дюркгейм писал: «Человек есть человек в той степени, в которой он живет в обществе», то есть в которой он социален». Цит. по: Durand G. Les grands textes de la sociologie moderne. P., 1969. Марсель Мосс выражает сходную идею иначе: «В обществе каждая вещь может быть понята только через ее отношение к целому… нет такого социального явления, которое не было бы составной частью общественного целого». Durand G. Les grands textes de la sociologie moderne. P., 1969.
3 Мф. 18:20.
4 Подобная участь — сакрализация и превращение в квазирелигиозный культ — постигла и других атеистов и борцов с религией, например Ленина или Хо Ши Мина.
5 Simmel G. Philosophie des Geldes. Berlin, 1900.
6 Сорокин П. Социальная и культурная мобильность // Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.
7 См. ссылку 2 на с. 25.
8 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология. М., 2003. Т. 1.
9 Лебон Г. Психология народов и масс. М., 1995.
10 Там же.
11 Иррациональный характер общественного мнения исследовал российский социолог В.Ф. Анурин. См., в частности: Анурин В.Ф. Основы социологических знаний. Н. Новгород, 1998.
12 См.: Барт Р. Мифологии. М., 1996.
13 Различие в употреблении терминов «миф» и «мифос» здесь и далее во всем тексте обусловлено необходимостью разделять в некоторых случаях собирательное и конкретное значение этого термина. Миф как собирательное понятие, соответствующее существительному с неопределенным артиклем в европейских языках — un mythe (фр.), a mythe (англ.), ein Mythos (нем.) и т. д., — мы обозначаем как «мифос», что соответствует полной форме греческого слова вместе с окончанием «-os». Миф как конкретный миф — например, миф об Аполлоне, миф о кентаврах, миф о трикстере, что соответствует в европейских языках существительному с определенным артиклем — le mythe (фр.), the mythe (англ.), der Mythos (нем.) и т. д., — мы обозначаем просто как «миф»: в такой форме это греческое слово вошло в русский язык, без окончания «-os». Так как в русском языке отсутствуют определенный и неопределенный артикли, нюансы значений приходится передавать таким способом. Но даже определенный и неопределенный артикли не способны в некоторых случаях передать оттенки смысла, поэтому значение фрагментов текста, где говорится о «мифе» или/и о «мифосе», надо понимать из контекста.
14 Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М., 1995.
15 Bultmann R. Kerygma und Mythos. Bd. 1–5. Hrsg. von H.W. Bartsch. Hamburg, 1948–1955.
16 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990.
17 Ницше Ф. Воля к власти. М., 1994.
18 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Указ. соч.
19 К примеру, можно проинтерпретировать идеи Фрейда относительно происхождения эдипова комплекса в религии также применительно и к политике. Примордиальный отец, по Фрейду, обладал всеми женщинами племени и всеми его богатствами. Сыновья (братья) сговорились однажды убить отца и распределить между собой поровну женщин и материальные блага. Это лежит в основе эдипова комплекса. См.: Фрейд З. Вопросы общества и происхождение религии. М., 2008. В политике это будет означать, что один и тот же комплекс Эдипа изначальной толпы («орды»), «съевшей» мифологического предка-отца, порождает и патернализм, монархию, диктатуру (в фазе покаяния — когда совершившие это взрослые «братья» переживают содеянное и сожалеют о нем), и демократию, анархию (в фазе реактуализации мифа — когда все те же взрослые братья повторяют изначальный сценарий в новых условиях).
20 Рекомендуемые труды Юнга, позволяющие составить представление о его теориях: Юнг К.Г. Алхимия снов. СПб., 1997; Он же. Аналитическая психология. Прошлое и настоящее. М., 1997; Он же. Архетип и символ. М., 1987; Он же. Бог и бессознательное. М., 1998; Он же. Воспоминания, сновидения, размышления. Киев, 1994; Он же. Душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996; Он же. Дух Меркурия. М., 1996; Он же. О современных мифах. М., 1994; Он же. Проблемы души нашего времени. СПб., 2002; Он же. Психологические типы. СПб., 1996; Он же. Психология бессознательного. М., 1994; Он же. Синхронистичность. М., 1997; Он же. Структура психики и процесс индивидуации. М., 1996; Он же. Тавистокские лекции. Киев, 1995; Он же. Человек и его символы. СПб., 1996.
21 Юнг К.Г. Совесть с психологической точки зрения // Аналитическая психология: Прошлое и настоящее / К.Г. Юнг, Э. Сэмюелс, В. Одайник, Дж. Хаббек. М., 1997.
22 См.: Юнг К.Г. Тавистокские лекции. Киев, 1995.
23 Юнг К.Г. Психологические типы. СПб., 1996.
24 Стивенсон Р.Л. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. М., 2003.
25 См.: Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуации. М., 1996.
26 Впервые этот термин употребил социолог Жильбер Дюран, речь о котором пойдет в следующем разделе. См.: Durand G. Champs de l’imaginaire. Grenoble: ELLUG, 1996.
27 На эту тему см.: Юнг К.Г. Психология и алхимия. М., 1997; Он же. Структура психики и процесс индивидуации: указ. соч.; а также: Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М., 2002; Генон Р. Человек и его осуществление согласно веданте. Восточная метафизика. М., 2004.
28 См.: Guenon R. Etudes sur la Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage. P., 1999. T. 1–2.
29 Levi-Strauss С. La pensee sauvage. Paris, 1962.
30 Аристотель. Категории. Соч.: В 4 т. М., 1978. Т. 2; Он же. Первая аналитика. Соч.: В 4 т. М., 1978. Т. 2; Он же. Вторая аналитика. Соч.: В 4 т. М., 1978. Т. 2.
31 См., в частности: Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1990.
32 См.: Леви-Стросс К. Мифологики. Сырое и приготовленное. М.; СПб., 1999.
Социальные страты — ось Y
Социальные группы — ось X
власть
богатство
образование
престиж
Схема 1. Социальный логос и его четыре оси
Социальные страты — ось Y
Социальные группы — ось X
власть
богатство
образование
престиж
Схема 2. Социальный логос и его четыре оси
Коллективное
бессознательное
Внутреннее
Эго
(логос,
сознание,
рацио)
Персона =
социологический
человек
Внешнее
Общество
интуиция
чувства
Эго
разум
ощущения
Схема 5. Психическая стратификация, по Юнгу


Схема 6. Строение внутреннего мира мужчины и женщины, по Юнгу
Схема 7. Процесс индивидуации

Социальные страты — ось Y
Социальные группы — ось X
власть
образование
богатство
коллективное бессознательное
ось инициации
(индивидуации)
престиж
Схема 8. Социальный логос и ось инициации
РАЗДЕЛ 2
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ВООБРАЖЕНИЯ
ГЛАВА 2.1
СЕМИНАР «ERANOS». ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ ВООБРАЖЕНИЯ (ПРЕДПОСЫЛКИ)
РАЗРАБОТКА ТЕОРИИ ВООБРАЖЕНИЯ
Разработка основ социологии воображения связана с деятельностью семинара «Эранос», который был создан Юнгом и его горячими приверженцами. В кружке «Эранос» в Швейцарии [по инициативе богатой английской меценатки и поклонницы Юнга Ольги Фребе-Каптейн (1881–1962)] собралась группа ученых, которая поставила своей целью разработать и развить социокультурную топику, альтернативную некритическому прогрессистскому социологическому позитивизму.
«Эранос» в переводе с греческого означает «пир, длящийся до тех пор, пока участники добавляют к нему что-то каждый от себя». Начиная с 1933 года собрания «Эранос» проходили в местечке Аскона, в Швейцарии, рядом с озером Лаго Маджоре. В них принимал участие в первую очередь сам Юнг, а также ученые и мыслители, так или иначе интересовавшиеся его идеями.
Изначальной задачей кружка был обмен знаниями между интеллектуалами Запада и Востока, а также исследование значения религий и мистических учений для западноевропейской культуры. Семинар с полным основанием можно назвать междисциплинарным, так как его члены интересовались символами, архетипами, мифами, религиозными теориями, с одной стороны, а с другой — философией, лингвистикой, социологией, антропологией, этнологией, зоологией, авангардной научной мыслью (в том числе естественно-научной) и т. д.
Мы назовем основных участников семинара «Эранос» и отметим кратко их вклад в интересующую нас топику. Имена и идеи этих людей достаточно известны — частично философам, частично историкам. Однако мало кто из исследователей объединяет их в единую группу, занимавшуюся общим делом и развивавшую общий научный подход. Для нашего курса каждый из них имеет большое значение как ученый, способствовавший разработке структурной социологии (в нашем понимании).
Р. ВИЛЬГЕЛЬМ: КИТАЙСКАЯ МЫСЛЬ
У истоков кружка вместе с Юнгом стоял китаевед Ричард Вильгельм (1873–1930), исследователь китайской метафизики и переводчик «И цзин», «Книги перемен», на немецкий язык. Вильгельм проводил системное сопоставление китайского общества и китайской культуры с обществом европейским, обращая внимание на то, что в случае китайской культуры мы встречаемся с самостоятельной и законченной структурой, которая не имеет прямых аналогов в европейской истории и не может быть адекватно расшифрована с помощью европейской интеллектуальной и научной методологии и которая требует для корректного ее понимания выработки иной модели, где рациональность и логика соседствовали бы с мифом и мистикой. Сравнительный анализ китайской и европейской культур подводил Р. Вильгельма к мысли о необходимости научной и социологической топики, способной корректно интепретировать не только западные, но и восточные культуры.
Р. ОТТО: КОНЦЕПЦИЯ САКРАЛЬНОГО
Другой участник семинара, лютеранский теолог и историк религии Рудольф Отто (1869–1937), сформулировал и развил важнейшую для социологии концепцию «сакрального» — «das Heilige»1. Это понятие Юнг активно использовал в своем учении о коллективном бессознательном. Согласно Отто, сакральное — это совершенно особый человеческий опыт, в котором человеческое существо испытывает одновременно высший ужас и высшее блаженство. Этот опыт выше эмоции или морали, намного превосходит ощущение эйфории, даваемой алкоголем, наркотиками или эротическими переживаниями. Это высший экстаз, или, как говорил другой историк религии Мирча Элиаде (1907–1986), «энтаз», то есть вхождение в себя (а не выхождение за свои пределы)2.
Р. Отто рассматривал сакральное как первичное по отношению к теологии или установленным религиозным формам. Сакральное — это столкновение с божественным в спонтанной и дологической форме, это безусловность божественного, рассмотренного не дедуктивно, а индуктивно, со стороны человека. Сакральное, согласно Р. Отто, предшествует делению на светлые и темные силы: все истинно сакральное (и темное, и светлое) внушает особое чувство ужаса и одновременно своеобразного восторга.
Отто подчеркивает, что опыт сакрального практически ничего не говорит нам о том объекте, который это состояние провоцирует, и именно поэтому свойство относиться к чему-то как к сакральному следует рассматривать как антропологическое свойство, заложенное в глубинной природе человека.
Юнг развил идею Отто и рассмотрел это свойство как отличительную черту коллективного бессознательного, в особых точках (центрах, полюсах) которого сконцентрирована «нуминозность», «божественность» («numen» по-латински — «бог», но не высший Бог теологии, а конкретное божество, часто второго или третьего эшелонов, поклонение которому в древности было характерно для простолюдинов). Контакт с нуминозностью и есть опыт сакрального. По Юнгу, его надо искать в коллективном бессознательном.
М. ЭЛИАДЕ: МИФ ВЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ
Активное участие в работе семинара «Эранос» принимал Мирча Элиаде — крупнейший современный историк религии. Элиаде наряду с Юнгом был главным идеологом всего кружка, вдохновляя своими работами и исследованиями общий курс научных поисков всей группы.
М. Элиаде развивал деление Р. Отто, Э. Дюркгейма и М. Мосса, а также философа-традиционалиста Р. Генона (1887–1951), на сакральное и профаническое3. В традиционных обществах, согласно Элиаде, все социокультурное пространство эксплицитно делилось на два сектора — профанный и сакральный. К сакральному относились обряды, власть, религия, магия, целительство, инициация. К профаническому (профанному) — рутинные и бытовые аспекты жизни общества. В современных обществах это деление формально упразднено (откуда вытекает их светский характер), но на практике сохранилось оно и здесь, хотя выявить сакральный элемент в контексте интегрально профанического социума не так просто. Однако, согласно Элиаде, сакрализация все же может быть обнаружена и в светской культуре — вплоть до молодежных мод и стилей одежды. В частности, известны исследования Элиаде ритуалов хиппи, квазиинициатической специфики стиля «punk» и других современных феноменов контркультуры4.
Элиаде осуществил скрупулезную систематизацию религиозных и мифологических данных, разработал классификацию мифов (таксономию мифов)5. Особенно его интересовали мифы о циклическом, круговом времени. Анализу мифа о «вечном возвращении» посвящены многие труды Элиаде6.
Элиаде специально акцентировал значение инициации как перевода мифа в область сознательных практик — обрядов, социальных предписаний, институтов, табу и обычаев7.
Элиаде был одним из тех, кто документированно обосновал «дробную» социокультурную топику «логос/мифос». По реконструкции Элиаде, время знаменателя, мифоса, всегда циклично; это время «вечного возвращения», тогда как в числителе дроби, в логосе, преобладает идея истории и линейного времени.
А. КОРБЕН: MUNDUS IMAGINALIS
Еще одним участником семинаров «Эранос» был крупнейший французский историк религии и философ Анри Корбен (1903–1978). В своих работах он исследовал исламскую традицию и приоритетно-иранский ислам, а также религиозные системы доисламских верований в Иране (зороастризм, маздеизм и т. д.)8. Особое внимание он уделял изучению исламской мистики — суфизму и шиизму. Корбен был, кроме всего прочего, первым переводчиком фрагментов «Sein und Zeit» Хайдеггера на французский язык, а в 1930-е годы слушал в Сорбонне лекции отца Сергия Булгакова (1873–1944) о софиологии. Хайдеггер и Булгаков оказали серьезное влияние на его идеи.
Корбен выдвинул концепцию «mundus imaginalis» («мира воображения») как особого пространства, где развертывается специфическая форма мышления, свойственная эзотерикам, визионерам, мистикам, поэтам. Он рассматривал это на примере учения крупнейшего исламского суфия Ибн-Араби (1165–1240) (наиболее известная работа А. Корбена — «Созидающее воображение Ибн-Араби»)9 и шиитского (в том числе исмаилитского) гнозиса10.
«Mundus imaginalis» — это мир, промежуточный между земным миром материальных предметов и духовным миром метафизических принципов (идей). Обстоятельное и фундаментальное описание этого «мира» Корбен обнаружил у иранского визионера Шихaбоддина Яхья Сохраварди (1155–1191), который в своих текстах часто обращается к символической стране «накоджа-абад», «стране-нигде» («нигде-городу»)11. Эта страна всегда двойственна (полуматериальна-полудуховна) и символизируется дуальными образами: пурпурным архангелом с одним светлым и другим темным крылом12, «хуркальей» — горой между небом и землей, близнечными мифами и т. д.
А. Корбен исходил из того, что конституция этого промежуточного мира — мира имажиналя — является устойчивым мотивом в традициях многих народов и должна быть признана культурной константой, чрезвычайно значимой как для человеческого бытия (антропологии), так и для человеческого общества (социологии), для которого она выполняет роль образца или карты.
Корбен, выделив понятие «имажиналя» и показав его роль в различных религиозных культурах, вплотную подошел к разработке «социологии воображаемого».
К. КЕРЕНЬИ: НОВОЕ ОТКРЫТИЕ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ
Важный вклад в деятельность «Эраноса» внес крупнейший специалист по греческой мифологии, венгр по национальности Карл Кереньи (1897–1973). Кереньи был соавтором Элиаде и консультантом Юнга по вопросам мистических представлений древних греков13. Кереньи глубинно изучил мифологию, стараясь проникнуть в тот особый порядок, который соответствовал ее структурам и который ускользал от прямолинейных попыток чисто рационалистического толкования.
Малоизученные темы греческих мистерий, по Кереньи, являлись фундаментальным набором архетипов, из которых создавались мифологические рассказы, социальные обычаи, культурные, политические и религиозные нормативы Древней Греции. Оттуда значительная часть этих архетипов перекочевала в культуру европейскую.
Кереньи немало способствовал расширению круга архетипических фигур и номенклатуры их функций, составлявших общую таксономию бессознательного.
П. РАДИН: ФИГУРА ТРИКСТЕРА
Социальная антропология в кружке была представлена таким именем, как Пол Радин (1883–1959) — крупнейший американский специалист по этнологии и фольклору (особенно по мифологии индейских племен)14.
Исследуя мифологический космос индейцев, Радин доказывал, что в этом случае мы имеем дело с особой формой монотеизма примитивного человека, изложенного в терминах, понятиях и ассоциативных связях, принципиально отличных от западной рациональности15.
Радин ввел в широкий обиход исследователей мифологии и культуры важнейшую фигуру трикстера — полубожественного-полуземного персонажа, аморального, противоречивого, не поддающегося однозначной классификации, но ключевого для мифологического обоснования многих мифов, обрядов, ритуалов, обычаев, социальных и технологических практик16. В трикстере выражается сама суть сакрального — его двойственность (ужас/восторг), амбивалентность (добро/зло), изначальность в структуре человеческого опыта.
Показательно, что предисловие к книге Радина «Трикстер» было написано совместно с его единомышленниками Карлом Густавом Юнгом и Карлом Кереньи.
М. БУБЕР И Г. ШОЛЕМ: ХАСИДИЗМ И КАББАЛА
Принимали участие в деятельности «Эраноса» и такие выдающиеся представители еврейской философии и истории религий, как Мартин Бубер (1878–1965) и Гершом Шолем (1897–1982). Бубер помимо собственно философских исследований большое внимание уделял мистической традиции иудаизма — хасидизму17, задумываясь о балансе традиции и современности в структуре еврейской общины.
Друг Мартина Бубера Гершом Шолем — крупнейший специалист по иудейской мистике (каббале) и духовным течениям в иудаизме18. В своих исследованиях он показал, как мистическое и иррациональное учение каббалы опирается на четкие мифологические структуры, стройные и упорядоченные, но в согласии с иной логикой, нежели нормативы классической современной рациональности. Шолем систематизировал основные течения в еврейской духовной традиции, ввел в научный оборот исследования мистического и инициатического наследия иудаизма, ранее остававшегося вне поля зрения собственнно академических интересов. Шолем утверждал, что мифологическое сознание в целом чуждо иудейской традиции, тяготеющей, напротив, по его мнению, к рационализму и логической стройности. Но вместе с тем в сфере каббалы и других форм иудейского гнозиса некоторая сухость официальной теологии с избытком компенсируется пышной, причудливой и чрезвычайно развитой мифологией. Каббалистическое пространство мифа служит, по Шолему, жизненным и духовным резервуаром для более строгого и логичного религиозного догматизма19.
Большое значение имели труды Шолема в период организации научных институтов вновь созданного государства Израиль. Шолем уехал из Европы в Палестину еще в 1929 году. Позже стал преподавателем в Еврейском университете Иерусалима и одним из основателем Израильской академии наук, а в 1968–1974 гг. и ее президентом.
Показателен повышенный интерес Шолема к религиозной теме прихода машиаха и социально-политическим его последствиям20. Для Шолема само создание государства Израиль было выражением не только политического, но и мистического процесса, связанного с логикой каббалистической циклологии и эсхатологии. В этой связи он подробно исследовал истории появлений на прежних этапах псевдомессий — в частности, каббалистического мессии Шабаттаи Цеви (1626–1676), провозгласившего себя «машиахом» в 1648 году и ставшего одним из ранних предтеч сионизма21.
Бубер и особенно Шолем были постоянными участниками кружка «Эранос», привнося в его деятельность тематику иудейской мистики, эсхатологии и мифологии, рассматриваемых в научном аспекте.
А. ПОРТМАН: КОНЦЕПЦИЯ НЕОТЕНИИ
Кроме ученых-гуманитариев в интердисциплинарных встречах принимали участие и представители естественных наук, в частности, известный зоолог Адольф Портман (1897–1982). Портман утверждал, что животные имеют формы коллективной организации, по основным параметрам схожие с человеческим обществом. Так, он развил теорию «животных как социальных существ»22. Юнгианские темы исследования устройства глубин человеческой психики позволяли лучше понять определенные стороны жизни животных.
Портман — автор концепции неотении, социальной утробы, в которой человек, появившись на свет, в первые месяцы жизни проходит вызревание, как плод в утробе других млекопитающих. Зоологические, психологические и антропологические гипотезы Портмана имеют большую социологическую и философскую ценность.
В. ПАУЛИ: СИНХРОНИЧНОСТЬ И СПИН
Другим представителем естественных наук в «Эраносе» был лауреат Нобелевской премии, выдающийся физик ХХ века, коллега Нильса Бора и Гейзенберга (1901–1976) Вольфганг Паули (1900–1958).
Паули был близким другом и единомышленником Юнга, с которым на протяжении многих лет он постоянно обменивался письмами и идеями, оказав существенное влияние на выработку Юнгом теории «синхроничности» психических процессов23. Сам Паули всегда интересовался связью материи и психики, так называемой «психофизической проблемой», что продуктивно сказалось на физических открытиях, в частности, повлияло на разработку фундаментального понятия квантовой механики — спина элементарной частицы.
Переписка Паули с Юнгом дает прекрасный образец того, насколько социальные и гуманитарные знания конститутивны для естественно-научных исследований, являясь для них подчас источником научного вдохновения.
ФИГУРЫ УЧЕНЫХ, БЛИЗКИХ К ПРОБЛЕМАТИКЕ СЕМИНАРА «ЭРАНОС»
Для полноты картины идейного сообщества, внесшего колоссальный вклад в разработку социокультурной топики социологии глубин, можно выделить еще три значимые фигуры, примыкавшие к этому направлению, но напрямую не участвовавшие в семинаре «Эранос». Все они развивали свои теории в параллельных направлениях и активно взаимодействовали с основными участниками «Эраноса». Их имена стали символическими для целых направлений в современной гуманитарной и социальной науке. Речь идет о таких авторах, как Гастон Башляр (1884–1962), Жорж Дюмезиль (1898–1986) и Клод Леви-Стросс.
Г. БАШЛЯР: ТЕОРЕТИК НАУКИ И ГРЕЗ
Г. Башляр — один из крупнейших французских философов и теоретиков науки XX века. Он начинал как позивист, а позже открыл для себя психоанализ. В ходе изучения философии науки Башляр пришел к выводу, что в основе научных открытий лежат системы образов. Стоит изменить режим образов, и изменится взгляд на физическую картину мира.
В 1934 году выходит «Новый научный дух»24 — важнейшая книга Г. Башляра, где он формулирует свои основные идеи.
Согласно Башляру, структуры научного мышления (вполне материалистического и даже в первую очередь материалистического) предопределяются «грезами о веществе», которые в свою очередь подразделяются на представления о четырех стихиях — огне, воздухе, воде и земле. Всем этим стихиям и их воплощению в человеческом воображении (поэтическом и научном) Башляр посвятил отдельные книги — «Психоанализ огня»25, «Вода и грезы»26, «Грезы о воздухе»27, «Земля и грезы покоя»28, «Земля и грезы воли»29.
По Башляру, воображение и сны (грезы), выражаемые в поэзии и мифологии, не антитеза логоса, но его неотъемлемая, конститутивная часть. Эта сторона человека не противостоит рациональности, она ее вскармливает.
Ж. ДЮМЕЗИЛЬ: АНТИЕВГЕМЕРИЗМ И ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГИПОТЕЗА
СОЦИАЛЬНОГО КЛАССА
Для структурной социологии большое значение имеют теории социолога и философа Жоржа Дюмезиля (1898–1996).
Метод Дюмезиля можно назвать «антиевгемеризмом». Евгемер (ок. 300–260 до н. э.) — греческий философ из школы киренаиков, выдвинувший гипотезу о том, что мифы суть истории о реальных исторических фигурах, которые превратились в богов и героев. Дюмезиль показал, что, напротив, в истории разных народов индивидуальное не играет почти никакой роли и повествование о случившемся просто воспроизводит заранее существовавшие мифологические структуры. Получалось, что не исторические личности превратились в богов и героев, но миф о богах и героях предопределил интерпретацию исторических поступков и свершений исторических личностей, то есть боги и герои проявлялись сквозь историю30.
Дюмезиль убедительно показал, что древние хроники индоевропейских народов (в частности, сведения, сообщаемые о первых царях Рима) суть описания не конкретных личностей и событий, но воспроизводство типических мифосоциальных сюжетов, общих для всех индоевропейцев. В основе истории лежит строго структурированный миф. В этом изначальном мифе Дюмезиль выделял определенные социальные функции, запечатленные в социальном устройстве, структурах пантеона, легендарных сюжетах, магических обрядах и т. д.31
По Дюмезилю, миф полностью предопределяет историю, и сама история есть не что иное, как развертывание мифологических сюжетов и ситуаций через функциональное и заведомо структурированное осмысление (самих по себе бессмысленных) событий. Миф есть постоянный источник дешифровки истории.
В истории индоевропейских народов, которые приоритетно изучал Дюмезиль, этот миф почти всегда имеет трехчастную структуру: Жрец–Воин–Производитель32. В Индии это воплощено в кастовую систему: «брахманы–кшатрии–вайшьи» (жрецы–воины–ремесленники), где каждой касте соответствует своя группа божеств. У римлян трехфункциональность общества выражалась в триаде верховных богов и соответствующих им жреческих коллегий — Юпитер (понтифексы, фламены), Марс (салии), Квирин (квириты). Дюмезиль подчеркивал, что в индоевропейском обществе материальные функции и ценности (труд, производство, обмен, торговля) всегда имели низшее значение по сравнению с ценностями религии и воинского искусства.
К. ЛЕВИ-СТРОСС: МИФОЛОГИКА
Основатель структурной антропологии, крупнейший философ-структуралист, этнолог, мифолог и социолог, исследовавший тематику, близкую к позднему Э. Дюркгейму и М. Моссу, Клод Леви-Стросс использовал метод структурной лингвистики применительно к примитивным архаическим обществам. Приоритетно он занимался индейцами Северной и Южной Америки. Большое влияние на Леви-Стросса оказали русские лингвисты, создатели фонологии и выдающиеся представители структурализма Роман Якобсон (1896–1982) и Николай Трубецкой (1890–1938).
Основная идея Леви-Стросса состоит в следующем: миф есть законченная интеллектуальная матрица, которая должна быть изучена через особые операции на основе мифологики (специальной логики мифа). Синтагма мифа (последовательно развертывающийся рассказ, повествование) должна быть очень тонко и корректно интерпретирована, в противном случае то, что высказывается мифом, ускользнет от нашего понимания. При этом в мифологическом рассказе причинные и логические связи вторичны, незначительны и произвольны, а доминируют совсем иные закономерности, непривычные и труднодоступные для европейской рациональности.
С точки зрения Леви-Стросса, миф надо изучать как парадигму, чтение мифа осуществлять через периоды — как нотную партитуру, а не как письменный текст. Только в этом случае мы способны увидеть и корректно распознать в нем гармонию. При чтении нот можно приоритетно следить за мелодией, развертывающейся последовательно по нотной строке, а можно — за гармонией, которая считывается по вертикали. При этом в анализе мифа самое главное — верно выделить периоды, то есть те места, где идет перенос нотной строки и начинается новый блок мифа. Этот минимальный атомарный фрагмент мифа, который уже не подлежит дальнейшему дроблению и представлет собой законченный элемент, из которого складывается мифологическое повествование, Леви-Стросс называет «мифемой» (об этом более подробно речь пойдет в дальнейшем).
В монументальной работе «Элементарные структуры родства»33 Леви-Стросс доказывает, что для изначальных социальных систем обмен женщинами между кланами, фратриями и другими группами служил основой социального структурирования и был главной коммуникационной матрицей — как обмен словами в языке. Этот обмен и есть основа социальной структуры и базовая гармония, предопределяющая как социальные процессы, так и логику мифа (мифологику).
Метод структурного анализа текста Леви-Стросса может быть применен к мифу, а может — и к обществу. Это направление развивал ученик Леви-Стросса (и одновременно ученик Ж. Дюмезиля) философ-структуралист Мишель Фуко.
Ж. ДЮРАН: СОЗДАНИЕ «СОЦИОЛОГИИ ВООБРАЖЕНИЯ»
Краткий обзор наиболее значимых участников семинара «Эранос» и их основных теорий был необходим для того, чтобы подойти вплотную к фигуре, ключевой для структурной социологии: создателю «социологии глубин», «социологии воображения» Жильберу Дюрану.
Социолог и философ Жильбер Дюран был активным членом кружка «Эранос», находился в центре основных направлений его деятельности, полемик, иследований, симпозиумов, совместных трудов. Он был последователем и учеником Юнга, кроме того, его учителями на разных этапах были Башляр, Корбен, Леви-Стросс, Элиаде, Дюмезиль.
Заслуга Дюрана состоит прежде всего в том, что он смог свести воедино научные и методологические интуиции участников семинара «Эранос» и направить их к созданию новой теории мифа (мифоанализ), реабилитирующей воображение после многих веков жесткого доминирования рационалистической и логоцентрической европейской культуры и науки. Изучение работ, перечисленных и близких к ним по духу и целям авторов, привело Дюрана к разработке интегральной теории, включавшей в себя наиболее сильные и яркие моменты в концепциях представителей этого направления. Так, Дюрану удалось синтезировать максимально обобщенную и развитую социокультурную топику, элементы которой он почерпнул у своих учителей и единомышленников.
Будучи профессиональным социологом, Дюран, кроме того, сумел интегрировать исследования в области мифологии, психологии, этнологии в контекст классических социологических теорий, что позволило ему систематизировать всю совокупность знаний в единой модели, которую он сам назвал «антропологическими структурами воображения».
По сути, Жильбер Дюран стал первым социологом, кто приступил к разработке полноценной «социологии глубин» или «социологии воображения» и достиг на этом пути чрезвычайно важных и внушительных результатов. Далее мы рассмотрим его идеи, концепции, теории и методики подробнее, а затем продемонстрируем их потенциал, применяя к различным областям, традиционно изучаемым в основных разделах социологической науки.
Контрольные вопросы
1. Назовите пять имен участников семинара «Эранос».
2. Что такое «mundus imaginalis»?
3. В чем состоит знаменитая теория Ж. Дюмезиля в отношении структуры индоевропейских обществ?
ГЛАВА 2.2
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ВООБРАЖЕНИЯ:
СТАТУС МИФОСА И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАЕКТ
Ж. ДЮРАН: ОТ ТОПИКИ К ТЕОРИИ
(ГРАНД-ТЕОРИЯ СОЦИОЛОГИИ ВООБРАЖЕНИЯ)
Жильбер Дюран, активный участник французского Сопротивления и герой борьбы против немецкой оккупации и коллаборационизма в Веркоре, заложил основы фундаментальной систематической теории («гранд-теории»), в рамках которой обобщающий структуралистский метод, психоанализ, социология, сравнительные исследования религии и мифологии (на основе разработок семинара «Эранос» и смежных направлений науки) воплощаются в стройную и законченную картину.
От выявленной и обоснованной в трудах сотен ученых двухэтажной (синхронической) топики Дюран перешел к созданию сводной монументальной системы социологических знаний. Смысл этой системы состоит в том, чтобы поместить конструкции классической социологии в более широкий контекст, который позволил бы не только учесть и корректно проинтерпретировать значительно большее число фактов и явлений, чем конвенциональная социология, но и обнаружить дополнительные измерения самого социологического подхода, который в такой расширенной и обобщенной версии обнаруживает новые стороны и свойства, неизвестные или игнорируемые доселе. Поэтому социология воображения, в основных чертах обоснованная и развитая Дюраном, может рассматриваться одновременно и как одно из направлений социологических знаний, и как глубинное обоснование и обобщение социологии как таковой. Именно по этой причине мы пользуемся параллельно тремя почти синонимическими выражениями — «структурная социология», «социология глубин» и «социология воображения».
Словосочетание «структурная социология» — понятие общее и относится в данном контексте (в отличие от более узкого определения Сорокина–Териакьяна) к определению науки социологии вообще, основания и принципы которой рассматриваются с точки зрения их структурных корней. Сама социология в таком случае интерпретируется структуралистски, что аффектирует ее основания и методы. Структурная социология Сорокина в таком случае становится лишь частным случаем структурной социологии в ее обобщенном и расширенном понимании.
Формула «социология глубин» призвана привлечь внимание к концептуальному и методологическому параллелизму этого направления с теориями и топикой Юнга.
И наконец, выражение «социология воображения» указывает на ту основную инстанцию — «воображение», — которая стоит в центре данного направления социологии.
Кроме того, в некоторых случаях можно использовать понятие «новая социология» для подчеркивания того обстоятельства, что данные исследования основаны на предпосылках, в корне отличных от предпосылок позитивистского знания и тех гносеологических и эпистемологических парадигм, которые преобладали почти на всем протяжении западноевропейской истории с ее логоцентризмом и приоритетной ориентацией на сугубый рационализм.
В системе координат «логос/мифос» это значит следующее: в отличие от классической западной философии от Платона до Нового времени, где мифос неизменно изучался с помощью логоса, Дюран предлагает изучать логос с помощью мифоса, то есть перевернуть пропорции и исходные установки конвенционального философского и гуманитарного дискурса европейской культуры. Такой переворот отнюдь не отрицает науку как метод рационального постижения мира, но дает качественно иную науку, оперирующую с рациональными категориями, понятиями, методами иным образом, нежели наука классическая, где преобладают историцистский, позитивистский и узкорационалистический подходы.
Это наука, основанная на «мифологике» (Леви-Стросс), то есть на применении расшифрованной, обобщенной и рационально осмысленной логики мифа к различным явлениям — как собственно мифологическим и религиозным, так и вполне рациональным (логическим, социальным, научным и культурным).
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОЦИОЛОГИИ ВООБРАЖЕНИЯ
Основания, принципы, методы и понятия этой науки изложены Жильбером Дюраном в целой серии научных монографий, главной и наиболее известной из которых является фундаментальная книга «Антропологические структуры воображения»34. В ней сосредоточены основные идеи автора и постулаты новой научной школы.
Позднее Дюран развил отдельные направления и сделал уточнения в целой серии последующих работ35. Большой вклад внесли в развитие данной дисциплины ученики и последователи Дюрана. Была создана целая сеть университетских центров и лабораторий, систематически развивавших социологию воображения, верифицировавших ее методы, собиравших и анализировавших массивы социологических и психоаналитических данных.
В области прикладной психиатрии и психологии эффективность теорий Дюрана продемонстривал в ходе нескольких десятилетий клинических исследований однофамилец Жильбера Дюрана профессор Ив Дюран, разработавший на основании концепций социологии воображения тест AT.9 (тест на архетипы из девяти пунктов), получивший широкое распространение в психологии и клинической диагностике36.
Большинство центров последователей Дюрана называются Центрами исследований воображения. В данный момент их существует более 60-ти в различных странах Запада — Франции, Италии, Португалии, Испании, Румынии, Бельгии, Греции, Бразилии, Мексике, США, Канаде и т. д. Основной центр находится в Университете «Гренобль-II», где на кафедре социологии проработал значительную часть своей жизни сам Жильбер Дюран.
В настоящее время регулярно издается международный альманах «Кайе де л'имажинэр» («Тетради воображения»)37, основанный Дюраном и его учеником, социологом Мишелем Маффессоли в 1988 году, где публикуются крупнейшие представители современной социологии — Альберто Абруццезе, Серж Московичи, Патрик Такуссель и другие.
СТАТУС ИМАЖИНЭРА: ЕГО ПЕРВИЧНОСТЬ
Проследим основные моменты теории Жильбера Дюрана38.
Развивая подход Корбена (показавшего роль mundus imaginalis в структуре мистических учений ислама) и идею Юнга о коллективном бессознательном, Дюран вводит ключевое понятие «l'imaginaire», в английском языке приблизительно передаваемое термином «imagery». В русском языке этому понятию нет аналога (очень приблизительно можно было бы перевести «l`imaginaire» на русский язык как «мир воображения»), поэтому в дальнейшем мы будем использовать французский термин в русской транскрипции.
Имажинэр — некое первичное свойство, представляющее собой одновременно:
• воображение как способность (инстанция);
• то, что воображается (воображаемое, представленное, искусственно воссозданное через фантазию);
• того, кто воображает (воображающий, источник появления фантазии);
• сам процесс (воображение как функция);
• нечто, что является общим и предшествующим и тому, и другому, и третьему (собственно имажинэр).
Дюран так описывает онтологический статус имажинэра («воображаемого-воображающего-воображения»). У Платона в диалоге «Софист»39 дается определение двух типов воображения: «ϕantas∂a» («фантазия») и «e≥kas∂a» («эйказия»). Оба они основаны на презумпции, что первичными являются две другие реальности — разум как мера реальности и порядка всех вещей и объективный мир, воспринимаемый чувствами, которые транслируют ощущения разуму. Чувства могут справляться со своей задачей корректно или некорректно — тут-то и вступает в дело воображение. Если впечатления от внешнего мира (который реален) передаются разуму (который тоже реален) «правильно» (корректно), то мы имеем дело с «эйказией» («e≥kas∂a»), то есть с таким воображением, которое «позитивно» и «прозрачно», «верно» и вносит минимум погрешностей в процесс передачи данных от органов чувств к разуму. От слова «эйказия» произошли слова «икона», «идол» (в смысле «образ», «образец» и «эталон»). Если же в передаче образа возникают сбои, мы имеем дело с фантазией, то есть с испорченной передачей, которая перемешивает реальные данные с нереальными и путает их.
Чтобы понять различия фантазии и эвказии, можно представить себе человека, смотрящего на предметы через аквариум. Если вода в аквариуме прозрачна и чиста, если нет рыб, водорослей и других препятствий, то предметы на другой стороне видятся ясно и четко. А если в аквариуме кишат рыбы, ползают крабы, вздымая потоки ила, и шевелятся водоросли, то предметы на противоположной стороне будут еле видны и между ними и наблюдателем будет царить иррелевантный хаос аквариумной жизни, не имеющий никакого отношения ни к наблюдателю, ни к предметам с той стороны. Аквариум — это воображение, имажинэр.
В логоцентричной философии, в пространстве логоса у воображения скромный статус: самое лучшее для него — не мешать рациональному процессу (а еще лучше — вообще не существовать, чтобы не искажать «реальность»). Такое же отношение к воображению сохраняется и у Декарта (1596–1650). И даже Кант (1724–1804), поставивший под вопрос онтологию объекта и субъекта, не придавал воображению самостоятельной роли, хотя и задумывался о его трансцендентальных функциях. Философ-экзистенциалист Жан Поль Сартр (1905–1980), посвятивший проблеме воображения отдельную книгу40, оставался в рамках классических философских схем западноевропейской традиции, оперирующей с приоритетной парой субъект–объект и по умолчанию не признающей за воображением статуса самостоятельной, а тем более первичной реальности.
Дюран предлагает порвать с европейским логоцентризмом и перевернуть стартовые позиции. По Дюрану, первично воображение: именно оно в ходе своей динамической работы создает внутреннее измерение субъекта и объекты внешнего мира.
Согласно Дюрану, приписывание реальности субъекту и объекту и лишение свойства реальности воображения в конечном итоге есть всего лишь философская гипотеза, имеющая давнюю историю и ставшая в западноевропейской мысли безусловным консенсусом. Однако стоит только выйти за рамки этой мысли и обратиться к структурам мышления других культур — восточных, мистических, религиозных, архаических — или к сфере искусства, мы можем убедиться, что субъект-объектный дуализм отнюдь не исчерпывает возможных философских установок и многие незападные (развитые или примитивные) культуры понимают онтологический статус воображения, mundus imaginalis, совершенно иначе. К этому выводу подвела Дюрана вся совокупность исследований участников семинара «Эранос», изучавших конститутивную роль мифа или коллективного бессознательного Юнга как некую самостоятельную структуру, не являющуюся свойством ни мыслящего субъекта, ни объективного внешнего мира. Понять содержание мистических теорий исламской традиции, иудейской каббалы, китайского даосизма, алхимических учений и процедур, мифов и легенд примитивных народов, в конце концов, мирового фольклора возможно только в том случае, если мы отойдем от жесткой дуальности «субъективное–объективное» и признаем онтологическую самостоятельность за той инстанцией, которая находится между ними41, то есть за воображением, имажинэром.
В качестве научной (но также и философской) гипотезы Дюран берет следующий постулат: вопреки общепринятой на Западе (но далеко не столь однозначно разделямой на Востоке) позиции имажинэр — это единственное, что существует, и «наш мир» («наш», то есть относящийся к субъекту, и «мир», то есть совокупность объектов) есть результат свободной игры воображения. В таком случае мы получаем основание для развертывания особой онтологии имажинэра, основанной на тезисе: единственное, что есть, что существует, — это «промежуточное».
ПОНЯТИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ТРАЕКТА
Развивая эту идею, Дюран вводит фундаментальное для его теории понятие антропологического траекта. Термин «траект» (traectum) образован от латинского tras — «через», «между» и jacere — «бросать», «кидать», «метать». От этого же глагола (от его причастной формы — jectum, «брошенное») образованы важнейшие философские и научные категории «субъект» и «объект». «Субъ-ект» — это то, что «положено («брошено») под», то есть «под-лежащее». «Объ-ект» — то, что «брошено («положено») перед», то, что «метнули перед», то есть «пред-мет». Между ними находится «тра-ект», «брошенное между».
Антропологический траект — это придание самостоятельного онтологического статуса тому, что находится «между» — между субъектом и объектом, между природой и культурой, между животным и рациональным, между духом и жизнью, между внутренним и внешним, между проектом (будущим) и историей (прошлым).
Траект — это «схема», «маршрут», «траектория», которая предопределяет структуры и структурные ансамбли, режимы и группы форм, динамические взаимодействия и столкновения, оппозиции и сближения, но ничего не говорит об идентичности того, что в этом траекте участвует, так как сама идентичность есть не нечто постоянное, но следствие, результат самого траекта. Объект и субъект суть функциональные следствия антропологического траекта, они конституируются им как ролевые идентичности. По этой логике, все самое важное происходит именно в «аквариуме»42, который и порождает через динамику своей глубинной жизни образ наблюдателя, с одной стороны, и образы предметов — с другой. Тот, кто смотрит через аквариум, и то, на что смотрит тот, кто смотрит, суть проекции внутриаквариумной жизни.
Здесь у Дюрана мы видим доведенный до крайних выводов функционализм. Если применить концепцию траекта к социологии, то получим социум как обобщающий социальный траект; если к психоанализу — человека как траект коллективного бессознательного. В обоих случаях человек (психологический или социальный) есть функция от чего-то другого, нежели он сам, функция от того, что всегда остается потенциальным и без актуализации с помощью человека само по себе не выступает, не проявляется. Поэтому Дюран говорит об антропологическом траекте. Через антропологию траект проявляет себя и обнаруживает свою структуру, хотя вместе с тем и скрывает ее, так как прячется за человеком. Так потенциальное, что только еще может быть, скрывает себя за актуальным, тем, что уже есть. Человек необходим, чтобы социальное сознание и коллективное бессознательное смогли через него осуществиться, проявиться, статься, сбыться, точно так же, как слова, лексемы, морфемы, синтаксис и т. д. нужны языку, чтобы быть, хотя язык никогда не тождественен им. Язык становится актуальным через речь.
Человек имеет бытие и смысл только как антропологический траект43.Вне этого функционального состояния он есть абстракция, простая и недоказуемая гипотеза субъекта. Точно так же, как и внешний мир на другом «конце» (на конце, которого нет) есть не самобытный объект, но плод пластического воображения, конструкт, основанный на «грезе о веществе» (Башляр).
ИМАЖИНЭР И СМЕРТЬ
Описав структуру антропологического и социологического подхода и первичность имажинэра, Дюран делает второе фундаментальное утверждение своей гранд-теории.
Воображение имеет перед собой фундаментальную антитезу — смерть. Другими словами, антропологический траект «натянут» между самим собой (как траектом, а не субъектом!) и смертью. «Конечность» («бытие-к-смерти», Sein-zum-Tode как важнейший экзистенциал Dasein’а, по Хайдеггеру) есть центральное свойство воображения. Это мотор и мотивация воображения. Воображение воображает потому, что перед ним (вокруг него) разверзлась смерть.
Смерть выступает как время. У времени в чистом виде (если вычесть из него воображение) есть только одно безусловное и свойственное только ему содержание — это приближение к смерти. Время — это промежуток между воображением и смертью. Антропологический траект стоит на стороне воображения, он есть имажинэр. Время стоит на стороне смерти. Все содержание и все смыслы, все сюжеты и сценарии развертываются в этой системе координат — между имажинэром и смертью. Все, что не есть имажинэр, есть смерть. Время — это процесс обнаружения этого фундаментального обстоятельства.
Воображение — это то, что заполняет собой все пространство перед лицом смерти, что баррикадирует чистую стихию смерти всем тем, что мы видим, чувствуем, слышим, говорим, делаем, строим, ломаем, ощущаем, желаем, о чем грезим, на что надеемся. Имажинэр заполняет время собой, насыщает его содержанием, событиями, смыслом, делает его антропологическим временем — временем повествования, мифа, траекта.
Имажинэр и смерть — вот основная онтологическая диада, дающая начало всем бесчисленным диадам мифа. Она рассеивается в сюжетах, образах, символах, ритуалах, обычаях, социальных институтах, отношениях, культурах, повестях. Она лежит в основе культурного предмета как зеркало. Прежде чем зеркало появилось, его надо было вообразить. Зеркало, зеркальность есть свойство воображения. Когда его не было как предмета (если такая эпоха и была на самом деле — зеркало, по логике мифа, было всегда), им служила поверхность воды44.
СТАТУС МИФОСА / ДИНАМИКА МИФОСА
По Дюрану, мифос есть структурированная совокупность архетипов и символов, отражающая глубинные свойства воображения, присущие ему изначально. Поэтому мифос нельзя рассматривать как нечто историческое. Сама история есть издание мифоса. Точно так же неверно изучать мифос с помощью логоса (керигмы). Правильнее, наоборот, постигать логос и его структуры, отталкиваясь от мифоса.
Мифос не статичен, но динамичен, так как при всей повторяемости основных линий он постоянно облекается в новые детали. Питирим Сорокин приводил пример о постоянном и переменном в обществе: мы каждый день чистим зубы, умываемся, завтракаем, обедаем и спим. Но каждый раз это происходит по-разному. Можно ли сказать, что разница деталей и порождает нашу личную историю? Если да, то личность есть не что иное, как погрешность, заусенец плохо выполненной функциональной детали, и мы можем поставить перед собой проблему «абсолютного обеда», «идеального умывания» и т. д.
Кроме того, отдельные мифы сталкиваются друг с другом, теснят друг друга, вступают в диалектические связи.
Миры мифоса динамичны и активны, в них развертывается нескончаемая работа. Мифы могут изнашиваться или, напротив, наливаться живой энергией, навязывая себя антропологическому траекту, властно поднимаясь из глубин.
Миф есть первый уровень структурирования воображения, он, с одной стороны, еще несет на себе отпечаток жизненной мощи стихии воображения, но, с другой — уже обращен к четкому структурированию и, следовательно, подвержен (по крайней мере, в его наиболее формализованных вариантах и аспектах) ригидной фиксации и энтропии.
Эта двойственность мифа и мифоса (как мифа в его обобщенном структурно-онтологическом смысле) и делает его основной областью исследования, изучения и систематизации в социологии глубин. Это и сегмент воображения, структурный компонент коллективного бессознательного, и одновременно нечто, что поддается осмыслению, осознанию. Миф, по Юнгу, есть путь индивидуации, способ и инструмент индивидуации и, более того, сама индивидуация.
Миф есть ось антропологического траекта. А раз так, то можно сказать, что миф есть альфа и омега, начало и конец, он есть все и все есть миф.
РЕЖИМЫ И ГРУППЫ ВНУТРИ ИМАЖИНЭРА: ДИУРН/НОКТЮРН
Мифос есть содержание имажинэра. Отдельные мифы в структуре глобального мифоса (совпадающего с имажинэром) поддаются изучению и классификации.
Дюран разделяет содержание воображения на три большие группы (мифов, архетипов, символов, сюжетов)45 и на два режима.
Два режима — это diurne (фр. — «дневной режим») и nocturne (фр. — «ночной режим»). Далее мы будем пользоваться специальными терминами «диурн» и «ноктюрн».
Три группы (схемы) — это героические мифы, драматические мифы и мистические мифы.
Диурн, «дневной режим», включает в себя только одну группу мифов — героические мифы.
Ноктюрн, «ночной режим», состоит из двух групп мифов (драматических и мистических). И те и другие являются «ночными», то есть разделяют некие общие характеристики (режима), но различаются по внутренним свойствам.
Для Дюрана принципиально выделение именно трех групп мифов, так как в основе этой дифференциации лежит их структурная несводимость друг к другу. Три группы мифов ирредуктибельны, то есть они не являются идеовариациями одна другой. Они фундаментально и сущностно гетерогенны.
РЕФЛЕКСЫ И ДОМИНАНТЫ И ИХ СВЯЗЬ С ГРУППАМИ МИФОВ
И РЕЖИМАМИ ВООБРАЖЕНИЯ
Обоснованность трех групп, составляющих структуру имажинэра, доказывается, по Дюрану, тем, что каждая из них соответствует одному из трех фундаментальных, доминантных рефлексов новорожденного существа.
Дюран основывается в своей типологии на русской школе физиологии — в частности, на трудах Владимира Михайловича Бехтерева (1857–1927) и Алексея Алексеевича Ухтомского (1875–1942).
Доминанта (по А.А. Ухтомскому) характеризуется полным подчинением всех прочих реакций организма, которые ведут (или могут привести) к снятию (удовлетворению) доминантной потребности или снижению состояния доминанты.
По Бехтереву, рефлексы уже в младенческом возрасте закладывают основные модели отношения человека к внешнему миру. «Рефлекс есть способ установления некоторого относительно устойчивого равновесия между организмом и комплексом условий, действующих на него», — пишет Бехтерев46. Для Дюрана это важно: ведь «относительно устойчивое равновесие между организмом и комплексом условий, воздействующих на него» и есть антропологический траект или по меньшей мере его материальное воплощение.
Дифференциация доминантных рефексов, согласно Дюрану, идентична дифференциации мифологических семейств, составляющих содержание имажинэра. Эта гомология позволяет установить связь между психическими и физиологическими свойствами как предпосылками для построения теории социологии глубин.
Контрольные вопросы
1. Что такое имажинэр?
2. Кто ввел в науку понятие антропологического траекта? Что оно означает?
3. Как имажинэр относится к смерти?
ГЛАВА 2.3
ДИУРН / ГЕРОИЧЕСКИЕ МИФЫ
ДИАЙРЕЗИС
В основе героических мифов, которые формируют «режим диурна», лежит движение разделения. Поэтому Дюран называет эту группу диайретическими мифами, от греческого слова dia∂resiz, то есть «разделение», «разделять». Это мифы разделения, расчленения, отсоединения одного от другого. Там, где в мифологии, а также в истории, социуме, рассудочной деятельности, культуре, психике мы имеем дело с операцией разделения, разъединения, «разведения по разные стороны», дифференциации, и особенно там, где это разделение мыслится необратимым, безвозвратным, радикальным, вступает в силу группа героических мифов и соответствующий ей режим диурна47.
Операция разъединения, разделения, расчленения является фундаментальным свойством реальности и воспринимающего эту реальность сознания. Само мышление устроено таким образом, что первичной и фундаментальной его деятельностью является именно различение, способность отделить в ментальной плоскости одно от другого.
Но диайрезис свойственен не только мышлению. Эмоции, ощущения, чувства, интуиции и даже инстинкты несут в себе те или иные модели различения — различения цветов, тактильных импульсов, звуков, состояний, запахов и т. д. Диайретический миф в самой общей форме является базовой матрицей, в которой воплощается это изначальное фундаментальное действие, свойство, явление. Диайрезис, таким образом, в структуре имажинэра представляет собой общее свойство и для рассудка, и для иррациональной деятельности, и для животных инстинктов.
ГЕРОЙ
Классическим носителем диайретического, разделяющего начала в мифологии является герой. Именно герой бросает вызов смерти, разрывает баланс привычного рутинного бытия, привносит в быт горизонты далекого, превращая обыденное в трагическое. Герой — тот, кто прорывает, разделяет, отсекает. В функциональном смысле героическое начало тождественно разделяющему началу, порождающему оппозиции, пары противоположностей, борьбу. Герой немыслим без сражений и столкновений с другими. Разделяя, он обязательно оказывается на той или другой стороне разделенного, увлекаясь привнесенной им самим дуальностью, составляющей сущность и судьбу героизма.
Дюран рассматривает героические и диайретические мифы как синонимы. При этом отсылка к диайрезису подчеркивает функциональный и концептуальный характер, а к фигуре героя — настрой и сюжетную канву мифа. Героизм является свойством дневного режима имажинэра.
Сюжеты битв, сражений, драк, преследований, нападений, поединков с противником, животным или мифическими существами; образы солдат, воинов, военной техники, агрессивных врагов, нападающих хищников, кусающих и лязгающих зубами собак, волков, тигров, крокодилов, монстров и т. д.; сцены насилия, убийства, расчленения, разрывания на куски, а также дележа добычи, насильственного захвата в мифах, сказках, религиозных текстах, в искусстве и в сновидениях естественным образом развертывают многообразные вариации режима диурна.
ПОСТУРАЛЬНОСТЬ
Героический миф соотносится у Дюрана с постуральным рефлексом, рефлексом вставания младенца. Приблизительно в шесть месяцев человеческий ребенок начинает садиться, а к году — вставать и пытаться ходить.
В развитии этой постуральной доминанты воображение оказывается в вертикальном отношении к миру. Здесь формируется психологический массив боязни упасть, но вместе с тем — воля держаться вертикально и стремление подняться (границы подъема не определены — он может длиться бесконечно, откуда устойчивая тема полетов в грезах и сновидениях, а также «асцензиональная психология»48).
Человек встающий, держащийся вертикально, оказывается лицом к лицу с миром. Он попадает в бесконечную череду дуальностей и различий: предметы, существа, зеркало — все требует безостановочных диайретических операций нарастающей интенсивности. Ребенок оказывается в роли героя, он учится разделять и нести ответственность за процесс разделения, становиться на ту или иную сторону, справляться с оппозициями и диадами (фигур, ощущений, чувств, звуков, ситуаций, мыслительных операций и т. д.), навязываемыми ему извне.
С началом хождения возрастают свобода рук и объем операций, которые можно осуществить с помощью рук и подручных инструментов. Для ребенка открывается дистанция — он может видеть дальше и слышать лучше благодаря свободе передвижения и освоению новых возможностей собственной телесности, становящейся все более совершенной и деятельной. Этому соответствует в зоне имажинэра символ руки, ноги и особенно головы. Высоко поднятая голова ребенка, делающего первые шаги в вертикальном положении, начинает играть центральную роль в его самоосмыслении и, соответственно, в символическом ряду, сопровождающем постуральный рефлекс и его доминацию.
СМЕРТЬ КАК ДРУГОЕ
В основе героического мифа лежит фундаментальная идея смерти как другого с соответствующим императивом борьбы с ней, противостояния ей. Смерть и время рассматриваются как враг, с которым надо биться до конца.
Выбор постурального рефлекса в качестве доминанты, подавляющей остальные рефлексы, представляет собой физиологическую особенность развития человека в младенческом возрасте. На уровне имажинэра диайретический момент постуральности возводится к максимально обобщенной формуле, в которой проводится главное из всех разделений — разделение между самим траектом (имажинэром) и смертью (временем). Любое различие возводимо к перворазличию человека и смерти, и, по логике дуальности, идентичность человека оказывается напротив смерти, с другой стороны от нее. А смерть, в свою очередь, помещается на противоположный полюс.
Таким образом, содержание героического мифа в конечном счете есть актуализация другого как смерти и прямое — лицом к лицу — столкновение с этим другим. Не битва, не катастрофа, не распадение и не конфликт приводят к смерти, напротив, смерть, воспринятая как таковая, как строго другое конституирует битву, катастрофу, распад и конфликт как выражение своего замеченного наличия.
Только в самых развитых мифах и самых глубоких философиях смерть выступает под собственным именем, и тогда герой или мыслитель имеет дело с ней напрямую, глаза в глаза. Чаще всего она дает о себе знать косвенно — через борьбу, войну, бездну, полет (падение), разлом, боль, простое отделение одного от другого и т. д. Но даже в самом невинном отделении А от B царственно и полноценно говорит смерть.
Действуя в режиме диурна, имажинэр чутко улавливает этот голос смерти, не боится диалога с ним, вовлекается в структуру фундаментальной онтологической битвы.
ВЕЛИКИЙ СВЕТ
Различение (диайрезис) имеет самое прямое отношение ко дню, диурну, светлому времени суток. Поэтому данный режим имажинэра связан с явлением света и многообразными образами, фигурами и явлениями, имеющими отношение к свету. Это солнце, светила, дневное небо, лучи, золото, блеск, все светлое и ясное. При свете дня предметы выглядят отчетливо, контрастно, строго отдельно одни от других. Поэтому область развертывания деяний героя — день, а приоритетное пространство — залитая светом зона.
Подъем позвоночника в постуральном рефлексе ориентирован к свету, и развитие визуальной сферы у ребенка становится интенсивным процессом строго параллельно тому, как он вначале начинает садиться, а затем, к двенадцати месяцам, ходить.
ПОЛЕТ, АНГЕЛ, СТРЕЛА
В структуре имажинэра свет прочно ассоциируется с вертикальной ориентацией и, соответственно, с полетом. Сюжеты полета и света тесно связаны между собой и в мифологических рассказах, и в поэтическом творчестве, и в религиозном символизме. Полет, в свою очередь, может быть рассмотрен как продолжение рефлекса вставания в неопределенно далекое измерение вверх.
В структуре имажинэра полет, подъем к свету имеет самостоятельное функциональное значение и в качестве опоры может подбирать себе различные символы, олицетворяющие полет. Это могут быть летающие существа (боги, ангелы), птицы или крылатые монстры, волшебные предметы — ступа, ковер-самолет, колесница, летающий конь, камень и т. д.
Согласно Дюрану, фантастический образ ангела не является искусственным сочетанием человека с птичьими крыльями. Ангел первичней, чем птица, так как движение имажинэра к полету предшествует чаще всего знакомству ребенка с орнитологическими видами, а образ ангела — как отличительный знак диурна — ему известен функционально практически изначально.
Идея полета и вертикальной ориентации воплощена в стреле. Многочисленные образы стрелков, направляющих свой лук в небо (как на государственном флаге Республики Абхазия, изображающем богатыря Сасрыкву из нартского эпоса, сбивающего Полярную звезду49), а также стреляющих из лука ангелов (как в изображениях Амура или индусского бога любви Кама) соединяют сюжеты стрелы и полета в общий диурнический комплекс, обоснованный фундаментальной близостью их функций в имажинэре. Стрела, кроме того, подчеркивает необратимость полета, что соответствует самой сути героического жеста (в отличие от ноктюрнического оружия — например, бумеранга).
В образе стрелы подчеркивается ее скорость, а скорость в свою очередь может быть распознана как практическая борьба со временем: время длится, а мгновенный полет стрелы преодолевает эту длительность своей стремительностью, что может быть осмыслено как победа над временем.
БЕЗДНА
Процесс вставания, занятия вертикального положения содержит в себе опасность падения. Точно так же, как импульс вставания продолжает себя в траектории полета и воплощается в фигуре ангела, не зная верхней границы, падение как обратная сторона вставания порождает инстанцию бездны — бесконечного полета вниз без достижения дна. Постуральность конституирует в имажинэре одновременно измерение неба и симметричную относительно него бездну. В этом также проявляется диайретический дуализм. Небо и свет воспринимаются как полюс идентификации траекта с самим собой (поэтому во многих религиях говорится о «сынах света», «световых людях», «световой душе»). Бездна же намечает второй, альтернативный полюс. Падение и головокружение становятся синонимами смерти как врага героя.
Постуральность диктует строгое героическое или/или: или человек взлетает, или он падает (либо он тянется к небу, либо низвергается в бездну). В режиме диурна оппозиции заострены и доведены до максимума. Грезы полета и грезы падения, а также равивающиеся на этой основе сновидения и фобии свидетельствуют о сильно развитом диурне.
В практике сновидений и мифологических сюжетов эта фундаментальная тема полета–падения может быть выражена множественными образами — гор, скал, пропастей, гигантских зданий или объектов (храмов, дворцов), отвесных обрывов, ландшафта пересеченной местности, высоких деревьев, гигантских гипертрофированных фигур и т. д.
Дюран выделяет сюжеты, связанные с падением, в отдельную серию, названную им катаморфной (дословно — «образ падения»).
ОЧИЩЕНИЕ
Режим диурна в своей световой составляющей связан с операцией очищения. Так, светлый день мыслится очищенным от темной ночи. Чтобы двигаться к небу, надо очиститься от бездны (грехов, темных страстей, поступков и свойств). Очищение может мыслиться как омовение, крещение, опаление огнем, овевание воздухом, натирание землей, глиной, особыми растворами и красками, окропление кровью (своей собственной, врага, жертвенного животного) и как многообразные комбинации этих процедур. Фундаментальным для структуры имажинэра является само действие очищения, которое означает в самом общем случае переход к диурну от ноктюрна, к дню от ночи.
Утреннее и вечернее умывание современных людей — последний отголосок древних религиозных и магических культов, связанных с очистительными обрядами50.
МЕЧ И СКИПЕТР
Символы меча и скипетра Дюран считает фундаментальными атрибутами режима диурна. Они олицетворяют две основные функции — разделение (меч, то, что рубит) и властвование (скипетр, посох). Героическое начало подразделяется на операцию членения, битвы, дуализации, войны и операцию вертикального взлета, возвышения над остальным, вставания, что подразумевает подъем над остальным и остальными.
Графически и меч, и скипетр представляют собой узкие вертикальные предметы, осмысленные как материальное и технологическое воплощение диурнической ориентации имажинэра. По аналогии ту же функцию меча и скипетра могут выполнять любые предметы сходной формы, становясь субститутами соответствующих функций в разнообразных культурных, этнологических, религиозных и бытовых контекстах. Бессознательное считывает серии таких образов одинаково. Фаллические и итифаллические изображения представляют собой вариацию этого символического комплекса, замещая скипетр и меч.
Воин и царь — две классические фигуры, являющиеся носителями соответствующих атрибутов и центральными персонажами бесчисленных мифологических, религиозных и светских историй.
Сюда же относятся сходные образы и символические предметы, имеющие вертикальную ориентацию: лестница, столб, колонна, часовня, колокольня, зиккурат, минарет и, шире, любое естественное или искусственное возвышение (например, дерево, холм или помост, менгир, бетиль, дольмен и т. д.). К этому же разряду относятся мифы о великанах, гигантах. В целом гигантомания — в постройках, статуях, образах — свойственна именно режиму диурна.
ЗООФОБИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ ДРАКОНА
Описывая режим диурна, его образный ряд и свойства, Дюран подчеркивает, что все животные, представляемые в этом режиме, негативны (кроме птиц, у которых животность скрыта за крыльями, то есть идеей полета). Животные — это опасное движение. Опасно оно потому, что является внешним по отношению к человеку (по логике дуализма, иное=смерть) движением (движение есть наглядное выражение времени, а значит, снова смерть). Младенец в режиме диурна, сталкиваясь с животным, переживает опыт ожившего внешнего пейзажа, что является травматическим опытом для его первичных внутренних движений к самоидентификации. В строгой логике диурна живым является только сам антропологический траект (носитель имажинэра), а все остальное должно быть мертвым (не самодвижимым, подчиненным), так как это — смерть, и она должна быть покорена, подчинена, а в пределе — упразднена. Животное — ожившая смерть, а следовательно, оно представляет собой аномалию, вызов и ужас.
По Дюрану, мышь — одно из самых грациозных животных. Но внезапное столкновение с ней внушает неоправданный и необъяснимый ужас. Почему? Потому что она движется. Внезапно отделяясь от пола, темного угла или стены, она будит образ «ожившего внешнего мира», актуализирует «другое». «Другое» же для диурна — враг. А враг — это смерть. По той же причине устойчиво демонизируется змея — излюбленный образ негативного териоморфизма. Змея не столько ядовита, сколько незаметна. Она движется бесшумно и молниеносно, что пробуждает глубинный ужас в пластах бессознательного.
Агрессивность животного, его атрибуты (пасть, зубы, когти и т. д.) и ядовитость змеиных укусов прекрасно укладываются в общий контекст диурнической зоофобии, но не являются ее причиной. Животные ужасны, потому что живы, а не потому, что могут причинить вред.
Наиболее опасны не те животные, которые есть, но те, которых нет, животные в чистом виде. Они опаснее всего. Отсюда рождается образ чудовища — обобщенного животного, составленного из различных известных человеку видов (льва, птицы, змеи, рыбы и т. д.). В русском фольклоре парадигмальным чудовищем являлся змей (не путать со змеей), в западноевропейском и дальневосточном — дракон. Так же как ангел в структурах имажинэра первичнее птицы, так чудовище, змей, дракон первичнее тех зверей, из элементов которых он состоит. Чудовище конституируется героической зоофобией диурнического имажинэра, это животное в чистом виде.
Чудовище есть более естественный образ для героического воображения, нежели конкретное животное. В нем героический режим антропологического траекта получает полное выражение — отталкивающие стороны всех животных сочетаются в целое. Дракон более «реален» с точки зрения имажинэра, чем змея, бык, орел и рыба, из которых он состоит.
Показательно, что часто в мифе герой бьется с чудовищем в воздухе, то есть подъем и столкновение с обобщенным животным (смертью и временем) функционально связываются между собой.
ПОХОД ПРОТИВ НОЧИ И РАСКОЛ ВООБРАЖЕНИЯ
В режиме дня ночь приобретает строго отрицательный характер. Ночное время суток, его атрибуты — мрак, холод, тьма, сон, неразличение — становятся в синонимический ряд тех явлений и сущностей, с которыми герой сражается. Отсюда привычные метафоры ночи и смерти и менее привычные — ночи и времени. Ночь — это другое, нежели день, а все «другое» в режиме диурна приобретает гипертрофированно отрицательные черты.
Дюран определяет серию символов, связанных с ночью и тьмой, как «нюктоморфные» образы (дословно с греческого — «образы ночи»).
Тема похода диурна против режима ночи ведет к существенным последствиям. Здесь завязывается первый акт чрезвычайно важного процесса, предопределяющего структуру имажинэра в целом. Речь идет о его расколе. В имажинэре есть два режима: диурн и ноктюрн. Развертывание сценариев по линии диурна противопоставляет мифы диурна второй половине имажинэра — мифам ноктюрна, то есть создает фундаментальную поляризацию бессознательного. Если для диурна внешний мир есть другое и смерть вовне, то обращение диайретической стратегии вовнутрь конституирует врага внутри, смерть внутри. В этой роли начинают выступать режим ноктюрна и его мифологические константы. «Нюктоморфизм» становится траекторией внутренней динамики имажинэра, работающего в режиме диурна. Между врагом вовне (смертью и временем) и врагом внутри (режимом ноктюрна) устанавливается тождество, что ведет к своеобразному расщеплению в структуре самого диурна — в своей борьбе с другим, очищении от другого, насилии над другим он начинает бороться с самим собой, очищаться от самого себя и осуществлять насилие над самим собой. В этом внутреннем расколе коренятся важнейшие процессы, составляющие силовые линии всей социологии глубин. Мы будем возвращаться к этой теме снова и снова в процессе развертывания нашего исследования.
МИЗОГИНИЯ И АСКЕТИЗМ
Забегая вперед, укажем на соответствие режима ноктюрна архетипам женщины (матери, жены и т. д.). Раскол имажинэра по линии диурна ведет к тому, что женские образы, связанные с ноктюрном, попадают в категорию отрицательных. Таким образом, женщина и комплекс тем и сюжетов, связанных с женским началом, оказываются на стороне, враждебной герою. Женское связывается с внешним миром, животным началом, бездной, нечистотой, падением, ужасом, угрозой и т. д. Женщина и женские мифы ставятся диайрезисом в один ряд с внешним миром, с другим и, соответственно, с временем и смертью. Неслучайно образ смерти в большинстве мифологий — женский образ. С этим связаны многочисленные психологические и сексуальные комплексы, тщательно изученные психоанализом, социальные и религиозные институты, обряды, табу и иные практики. Подробно мы рассмотрим эту проблематику в разделе «Социология гендера». Здесь же следует отметить то обстоятельство, что режим диурна включает в себя комплекс мизогинии (женоненавистничества) и соответствующие практики аскетизма — отстранения от контактов с женщинами или по меньшей мере их строгая регламентация, что составляет основу как аскезы, так и социальной морали. В восприятии женского начала как чего-то нечистого, опасного и даже «греховного» проявляется в полной мере диурнический импульс.
ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПАРАНОЙЯ
В героическом режиме герой укрепляет свою идентичность (траект укрепляет субъектность) и расщепляет внешние предметы (вплоть до распыления), дробит объект. Чем больше цельность субъекта, тем больше нюансов различает герой в объекте. В этом, по Дюрану, заключается специфика диайрезиса: траект в нем стремится к максимальной консолидации, изгоняет любые намеки на неуверенность и колебания, всячески укрепляет собственную цельность, но вместе с тем подвергает все то, что относит к категории «другого» (а в этом и заключается сущность диайрезиса), силовому разделению (в чем проявляется и агрессивность героя в отношении врага, и аналитический характер этого режима в целом).
Если данный режим выходит за рамки нормы, он естественным образом выливается в патологические формы, которые психиатрия квалифицирует как неврозы, а в тяжелом случае — как паранойю (в семействе психозов). Параноик не допускает и тени сомнений в собственной адекватности и стройности своих умозаключений. Ответственность за любые трения с окружающим миром он возлагает на сам этот мир, его несовершенство и убожество. Параноик всегда прав, а те, кто с ним спорит, заведомо ошибаются. Параноику проще совершить гигантские и масштабные изменения во внешнем мире, нежели изменить в своем самосознании и в своих оценках малейшую деталь. Его идентичность крепка, как сталь, а внешний мир представляется объектом для манипуляций. Если внешний мир не слушается его воли, это приводит параноика в ярость.
Паранойя — обратная сторона героизма, которая вскрывает глубинные механизмы работы воображения в героической фазе.
ДУАЛИЗМ
Режим диурна — это режим дуализма по преимуществу. Дуализм мифа может проявляться на всех уровнях — религиозном, политическом, моральном, социальном, культурном, бытовом.
Все содержание героического мифа — это бесконечная и абсолютная война дня против ночи, света против тьмы, субъекта против объекта, культуры против природы, мужчины против женщины и т. д.
Диайрезис вначале в рамках глубинных архетипов воображения постулирует фундаментальные модули мышления: «это» и «то», «я» и «не-я», «здесь» и «там» и т. д. На следующем уровне эти дуальности формируют ткань мифа, а далее начинают предопределять процессы, вытекающие из мифологического нарратива, — вплоть до структурирования социума, культуры и т. д.
Ярче всего этот дуализм проявляется в религиозных дуалистических концепциях (зороастризм, маздеизм, манихейство, гностицизм). Учение гностиков о добром и злом творцах представляет собой вершину формализации диурна.
МУСКУЛИНОИДНОСТЬ
Режим диурна связан с мускулиноидностью. Не с мужским полом в анатомическом и физиологическим смысле, но с мужественностью, «вирильностью» как особым психологическим, социальным, культурным типом, который воплощает в себе комплекс ассоциаций и парадигмальных жестов героического начала. К реальному анатомическому мужчине этот образ может не иметь прямого отношения, так как в разных культурах мужчины стилизуются в соответствии с различными режимами воображения, и социокультурные паттерны могут существенно влиять на структуру реальных мужчин. Мускулиноид — это воображаемый мужчина, мужчина, принадлежащий к mundus imaginalis. По Юнгу, он скорее соответствует анимусу, то есть тому, как женщина в самой себе в некоторых случаях воспринимает коллективное бессознательное. В бессознательном у женщин (на глубинном уровне) мускулиноидных черт и мифологических связей столько же, сколько у мужчин51.
Мускулиноидность здесь имеет связь с гендером особого рода — это гендер мифа. Он может проецироваться в культуру, на социум, в политику, в религию, порождая мускулиноидность систем — подчас в отрыве от формальных нормативов и установок или находясь с ними в причудливом соотношении.
В русской культуре, например, женщина часто наделяется мускулиноидным началом («коня на скаку остановит» и т. д.). Но особенно это подчеркнуто в германских мифах (Брунгильда, валькирии и т. д.). Можно вспомнить об индусской легенде о царице Кали, которая превращала прикасавшихся к ней женихов в женщин. Этот сюжет многократно обыгрывается в сказках.
В логике мифа очень высокие женщины — женщины-гиганты или великанши — относятся именно к этому мускулиноидному регистру образов диурна.
ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ РЕЖИМА ДИУРНА ДЛЯ НАУКИ
Диурн как режим воображения является базовой категорией в социологии глубин. Апелляцией к этому семейству мифов, сюжетов, функций, ассоциаций, реакций, рефлексов, символов, архетипов и т. д. объясняются многие фундаментальные философские, социологические, религиозные, гносеологические и психологические проблемы.
В последующих главах смысл этой категории будет просняться по мере рассмотрения различных областей социологии, в каждой конкретной ситуации открывая различные аспекты, в ней заложенные.
Деление режимов воображения на диурн и ноктюрн является гениальным научным открытием Дюрана, столь же плодотворным, как и сама методика постановки имажинэра в центре антропологической структуры. Дальнейшее применение этого метода показывает, насколько важным и поворотным для социологии и науки в целом является открытие режима диурна.
Контрольные вопросы
1. Опишите режим диурна.
2. Назовите три характерных символа режима диурна.
3. Что такое мускулиноидность?
ГЛАВА 2.4
НОКТЮРН / МИСТИЧЕСКИЕ МИФЫ
ЭВФЕМИЗМ
Режим ноктюрна легче описать, отталкиваясь от режима диурна. Ночь во всем противоположна дню, но режим ноктюрна в имажинэре делится на две части, которые противоположны дню по-разному.
Общим является то, что весь режим ноктюрна — это режим эвфемизма. Эвфемизм — по-гречески «благое имя». Эвфемизмом является называние дурного, ущербного, вредного, злого, отвратительного, неприличного, страшного предмета или явления смягченным, уменьшительно-ласкательным, ироничным именем, чтобы психологически снять остроту конфликтности, которую несет в себе отрицательное событие.
Если диурн акцентирует и усугубляет противостояние со временем и со смертью, то ноктюрн смягчает его, подвергает эвфемизму смерть и время как фундаментальные антитезы воображаемому.
Режим ноктюрна (по-разному в случае обеих групп) становится на сторону своей противоположности, стремится затушевать ее. Стратегия ноктюрна и его мифов заключается в том, чтобы представить фундаментальную оппозицию имажинэра и смерти как не фундаментальную и даже не оппозицию. При этом ноктюрн — это не смерть и не время, но траект и имажинэр. Поэтому здесь принципиально сохраняется структурообразующее противопоставление смерти. Но это противопоставление решается совершенно иначе, нежели в режиме диурна. В режиме ноктюрна смерть воображается как «несмерть» (или как «не совсем смерть»), а время представляется не как процесс, ведущий к смерти, а как нечто другое — например, как сама жизнь, как развитие, как нечто нефатальное и повторимое, и т. д.
Эвфемизм представляет собой одно из основополагающих свойств воображения. Огромный пласт культуры, языка, психических процессов, самого мышления может быть возведен к операции эвфемизма, которая конститутивна для антропологического траекта, а следовательно, может быть обнаружена в самых различных сегментах человеческого бытия.
Эвфемизм может быть радикальным и нерадикальным. В случае радикального эвфемизма строго негативное воспринимается или интерпретируется как не негативное и даже, в предельном случае, как позитивное. Нерадикальный эвфемизм обращается со строгой негативностью иначе: он не отрицает ее полностью и не превращает в позитивность, но смягчает ее негативность, преуменьшает ее, делает ее относительной и пытается восполнить и оттенить позитивностью (реальной или мнимой, имеющей или не имеющей отношение к ситуации).
Простейшим примером эвфемизма является следующий: человек получает серьезную травму. Радикальная эвфемизация подсказывает: «Вот и хорошо, теперь на работу не пойду, а то и вообще получу инвалидность, и будет полно свободного времени до конца жизни». Нерадикальная эвфемизация гласит: «Неприятно, конечно, но что делать, постараюсь выздороветь и вылечиться как можно скорее, а за время вынужденного безделья прочту те книги, которые ранее не хватало времени прочесть». По контрасту с этим диурн мыслит совсем иначе: «Эта травма означает конец для меня. Отныне я инвалид. Жить дальше не имеет смысла. Либо я сейчас же немедленно исцеляюсь любой ценой, либо все кончено».
В приведенных примерах речь идет не о темпераментах, но о режимах воображения, о различных стратегиях, которые может выбрать имажинэр в реакциях на внешние вызовы.
МИСТИЧЕСКИЙ НОКТЮРН (НОКТЮРН I): ЕДИНЕНИЕ
Рассмотрим две группы мифов режима ноктюрна — мистическую и драматическую.
К группе драматического ноктюрна Дюран относит формы радикальной эвфемизации. Эта группа мифов прямо противоположна героическим мифам диурна.
«Мистической» вторую группу Дюран называет весьма условно, отталкиваясь от определения французского антрополога и социолога Л. Леви-Брюля о «мистическом соучастии» (фр. «participation mystique») как конститутивном качестве примитивных обществ (точнее, общин — Gemeinschaft), то есть о таком траекте, который постулирует непрерывную и органическую целостность всего (а конкретно — единство воображения и смерти). В основе мистического подхода лежит идея единения, унификации, целостной нерасчленимости. Операция мистического единения является антитезой диайрезиса героических мифов: если мифы диурна ориентированы на различение, разрыв, разделение, дифференциацию, то мифы мистического ноктюрна, напротив, ведут к соединению, интеграции, утверждению связности, неразрывности, непрерывности, единства. Можно назвать главную установку мистического ноктюрна недвойственностью — по аналогии с индуистским адвайта-ведантизмом.
В этой группе все то, что опровергалось, отбрасывалось, отрицалось, исключалось, принижалось, противопоставлялось режимом диурна, подлежит переоценке и переосмыслению в позитивном ключе и, следовательно, принимается, включается, реабилитируется, превращается в союзника и друга.
АНТИФРАЗА
Эвфемизм как метод свойственен обеим группам мифа ноктюрна. Но мистический ноктюрн доходит по этому пути до предела. Для иллюстрации этого момента Жильбер Дюран обращается к известному в риторике приему антифразы. Антифраза — это крайняя (часто ироничная) форма эвфемизма; ситуация, когда одна вещь называется прямо противоположным именем. Антифраза называет болезнь здоровьем, смерть — бессмертием и жизнью, утрату конечности или органа — приобретением, нищету — богатством, страдание — праздником и т. д. Но, по логике мифа, называя нечто таким образом, воображение превращает одно в другое на практике. В имажинэре антифраза теряет ироничность и обретает магичность (или мистичность).
Так, например, нечистоты и грязь в мифе не только символизируют или замещают золото и драгоценности иносказательно, но и становятся ими, превращаются в них. Фрейд, например, показал прямую связь в сновидениях между золотом и фекалиями, истолковав это в духе своей доктрины о подавлении сексуальности в раннем младенчестве.
В мифе антифраза действует гораздо фронтальнее, выражая глубинную структурную стратегию имажинэра, развертывающегося в режиме мистического ноктюрна относительно широкого спектра вещей и явлений, далеко выходящих за рамки фрейдистской интерпретации.
Антифраза и ее магическое применение становятся возможными через обращение к связности всех вещей, к их сущностному единству, что как раз отличает суть мистической группы мифов.
ДИГЕСТИВНЫЙ РЕФЛЕКС КАК ДОМИНАНТА МИСТИЧЕСКОГО НОКТЮРНА
В области рефлексологии доминантой мистической группы мифов режима ноктюрна является дигестивный (а также связанный с ним нутритивный) пищеварительный (и питательный) рефлекс.
В момент поедания материнского молока младенец проводит фундаментальную структурную операцию: он превращает иное в свое, в себя, абсорбирует и ассимилирует другое, нежели он сам. И это иное дает ему первые в жизни яркие положительные ощущения. В этом случае иное выступает не как смерть, но как мать, дающая грудь. Через кормление младенец воспринимает внешний мир как дружественный себе, как источник комфорта и наслаждения, как стихию, насыщенную положительными переживаниями, покоем, радостью, блаженством, жизнью.
Процесс питания появившегося на свет младенца четко связывается с пренатальными ощущениями зародыша, когда он пребывает в комфортной среде материнской утробы, питающей, баюкающей, охраняющей, дающей жизнь. Внутриутробное состояние концентрируется на получении питательных веществ с полным отсутствием дистанции. После рождения периоды кормления воспроизводят параметры пренатального комфорта. В этот период внешний мир снова превращается в материнскую утробу, становится безопасным, беспроблемным, а его дистанции и травматизмы отдельности растворяются.
В этом состоит ядро мистического ноктюрна: внешнее мыслится как продолжение внутреннего, как источник радости и покоя. Когда дигестивный рефлекс становится доминантным, он подавляет все остальные и воспроизводит в имажинэре структурные параметры пренатального состояния. В этом случае смерть и время теряются из виду, интегрируются в общую картину блаженства.
Нутритивная доминанта сохраняется на всех этапах жизни и реактуализируется при каждом принятии пищи, а также в серии образов и архетипов, связанных с едой. Этот комплекс в целом в социальном и религиозном аспектах порождает широкий спектр табу, обрядов, обычаев, связанных с сакрализацией приема пищи. Мистический ноктюрн можно распознать и в религиозных учениях — там, где речь идет о слиянии, единении с Богом или с миром, а в философии — об отождествлении субъекта с объектом, сознания с бытием, психики с материей и т. д.
РЕЖИМ МАТЕРЕЙ
Мистические мифы позитивно переосмысляют женское начало. Женское здесь значит благое, доброе, мягкое, нежное, положительно оцененное. Ночь нежна и свежа, а не страшна. Женщина — царица ночи.
Мифы мистического ноктюрна — это «царство матерей», которое искал Фауст у Гёте52.
Сюда же относятся образы скандинавских норн или греческих парок, ткущих у корней мирового древа (или в Аиде) судьбу мира, и Параскевы Пятницы в русском фольклоре. Пряжа — это то, что связывает (одно с другим), форма единения, архетипический жест мифов мистического ноктюрна.
Мать — центральная фигура этого режима. Реактуализация внутриутробного состояния пробуждает структурный архетип отождествления мира с материнским началом, откуда развиваются мифы о Великой Матери, о «богине», в частности о Матери-Земле. Мать символизирует нерасчлененную целостность бытия, в котором отделение внутреннего от внешнего только намечено, траект замкнут на самого себя, а смерти, негатива, отрицания и оппозиций не существует. Эта идея подчеркнуто выражена в символе змеи, кусающей свой хвост, — Оуроборос древних греков.
УТРОБНЫЙ ПАЦИФИЗМ
Если мифы диурна связаны с войной, то мифы мистического ноктюрна — с миром. Миролюбие, миротворчество, примирение — качества этого режима. Все здесь противоположно символическим рядам героизма. Вместо оружия и острых углов, режущих поверхностей — домашняя утварь, инструменты мирного труда, мягкие, закругленные формы. Даже технологические инструменты разрезания, разделения приобретают закругленную форму: вместо прямого обоюдоострого меча воинов — полукруглый серп мирных жнецов (приоритетно жниц).
Постуральность влечет за собой ориентацию на бой и столкновение, нутритивность — на мир и гармонию, на объединение, на соучастие. С этим связано множество обрядов, мифов и обычаев, где тема мира (примирения) тесно сопрягается с совместным вкушением пищи. Так, обычай встречать гостей хлебом-солью — знак мира. Совместное разделение трапезы («пуд соли съели») является аргументом мирных, дружеских отношений. В русском языке эвфемизации мистического ноктюрна подвергается семантика корня «другой», от которого образовано слово «друг». Если «другой» в режиме диурна подразумевает «враг», «противник», «чужак» (в иранском языке от того же индоевропейского корня образовано слово «друдж» — «враг», «демон»), то в пацифистском контексте «другой» становится «другом» в привычном для нас смысле.
Люди, разделяющие трапезу, символически совместно погружаются в материнскую утробу, становятся братьями, что помещает их отношения в координаты мира и единения.
В этом контексте женское начало и его графические символы — женская грудь, изображения ктеиса и т. д. — становятся символами мира. Так, голубь в греческой традиции был животным, посвященным Артемиде, женской богине-охотнице, отождествляемой с латинской Дианой и Луной. Богиней мира была Ирис, символизируемая всеми цветами радуги (то есть объединением всех возможностей цветовой гаммы в общем целом).
ЦВЕТ И СВЕТ, ОТ СОЛНЦА К ОГНЮ
Героические мифы акцентируют свет и световые символы. Как правило, в них свет имеет отвлеченно холодный характер — отстраненная голубизна неба или прямой свет солнечных лучей. Это свет без цвета. В мистическом ноктюрне свет превращается в цвет, в насыщенное и материально чувственное, конкретное цветовое выражение. От солнечных лучей здесь осуществляется переход к красному, горячему, телесному огню, имеющему форму и источающему утробный жар.
Отсюда развертываются образы «инфернального огня», чья стихия — подземный мир, царство ночи. Огонь, костер, факел, свеча — то, что горит в ночи; днем в этом нет нужды. Это отражено в русском языке: полости в скалах, горах и холмах, а также норы и землянки называются «пещерами», от глагола «печь», что подразумевает, что они служат входами в преисподнюю, где горит вечный огонь земли.
ЧАША КАК ЭВФЕМИЗАЦИЯ БЕЗДНЫ
Бездна — важнейший элемент диурнических мифов полета и возвышения. В режиме мистического ноктюрна она подвергается эвфемизации, минимализируется, превращается в образ чаши, вогнутости, что служит графическим обозначением женского начала. Бездонность диурна масштабируется до размеров чаши, бездна приручается, становится неопасной, ее можно взять в руку, расположить в привычном ряду предметов домашнего скарба.
В героическом режиме преобладает катаморфный ужас падения. Для мистического режима падение интерпретируется как постепенный и осторожный спуск, медленное скольжение, погружение (например, в теплую ванну). То, что является катастрофой для героя, для мистического ноктюрна есть разновидность комфорта, убаюкивания.
Дюран замечает, что подниматься вверх (например, в гору) быстрее, чем спускаться вниз. Это практическое различие прекрасно иллюстрирует свойства режимов. Герой стремительно взлетает наверх с риском низринуться вниз. Мистический ноктюрн осторожно и осмотрительно, не спеша, спускается по склону, стремясь избежать опасности и обдумывая каждый шаг (шаг вниз).
Символы и мифологические цепочки мистического ноктюрна могут представлять собой разнообразные вариации чаши: это сундуки, сумки, футляры, мешки, горшки — одним словом, любые емкости, предназначенные для хранения содержимого.
БЛАГИЕ ЖИВОТНЫЕ
Животные в этом режиме имажинэра перестают быть врагами, перестают внушать ужас и вызывать ненависть. От охоты на диких зверей и страха перед их оскаленными пастями и цепкими когтями мы переходим к практике приручения, к побратимству со зверями, к аккультурации и социализации животных, иногда к браку с ними. Звери здесь позитивны. Они являются помощниками (особенно это важно для структуры волшебной сказки, где фигура помощника — чаще всего помощника-зверя — фундаментальна в большинстве сюжетов53).
Отнесение зверей к смерти и времени затушевывается вплоть до прямой противоположности — они, напротив, спасают, лечат, воскрешают, помогают обрести бессмертие и помолодеть. Так же дело обстоит и с чудовищами, которые в мистическом ноктюрне оказываются «заколдованным принцем», «братцем Иванушкой» и т. д.
В дальневосточной и юго-восточной традициях (Китай, Япония, Корея, культуры Малайзии) дракон или летающий единорог («цилинь» — у китайцев, «кирин» — у японцев) приобретает позитивные функции и рассматривается как символ небесного логоса, квинтэссенции стихий (он соответствует синтезу четырех элементов и четырех сторон света).
Крупнейший русский исследователь фольклора и сторонник структуралистского метода В. Пропп подробно описал дуализм отношения к зверям и чудовищам в русских волшебных сказках54. Мы видим в них сюжеты прямого антагонизма (достигающего кульминации в богатырских былинах или старинах), но вместе с тем сюжеты взаимодополнения, побратимства и родства. В соответствии с марксистской эволюционистской концепцией сам Пропп истолковывает эвфемистические сюжеты как наследие охотнических доземледельческих обществ, где преобладала идея инициатического родства с животными, откуда и возникают темы взаимопроглатывания человека и животного для обеспечения удачи на охоте и восполнения баланса в окружающем мире. А мифы богатырского змееборчества появились, по его мнению, позднее, после «неолитической революции» и перехода к земледелию, когда побратимство с животными и соответствующие инициации утратили свое социально-хозяйственное значение. Освободив эти реконструкции от диахронической перспективы и иррелевантной веры в «прогресс», мы получаем ясно прослеживаемый дуализм отношения к зверям в режиме диурна и в режиме мистического ноктюрна, которые можно рассмотреть синхронически, как выражение структур двух режимов, сосуществующих в имажинэре одновременно и параллельно друг другу. Многие верные интуиции Проппа относительно возможности положительного истолкования некоторых негативных персонажей волшебных сказок в специфическом социальном контексте развили в своих трудах историк И.Я. Фроянов и филолог Ю.И. Юдин55 (1938–1995).
С позиции диурна такая трансформация врага в друга выглядит как «стокгольмский синдром»56.
ПРОГЛАТЫВАЮЩИЙ–ПРОГЛОЧЕННЫЙ
Часто в сюжетах мифов мистического ноктюрна тот, кто был проглочен, сам проглатывает того, кто его проглотил. В этой взаимозаменяемости агрессора и жертвы, возможности поставить поедаемого и поедающего в обратную ситуацию, легко поменяв роли, проявляется работа эвфемизации, стремление уравновесить, гармонизировать отношения между существами, между культурой и природой, человеком и животным (растительным) миром.
В религии это приобретает культовые черты жертвоприношений, когда в цепочку люди–звери (или продукты растительного происхождения) включается дополнительное звено — боги, духи и т. д. Все едят всех. Вкушение плоти Бога — причастие. Но в то же время Богу приносятся в жертву животные или растения (в некоторых культурах — люди). Но и люди становятся пищей для животных (в инициатических ритуалах), так что цепочка поглощений замыкается.
У Проппа57 приводится широкая номенклатура сказочных и мифологических сюжетов, связанных с проглатыванием людей (и других персонажей — например, в сказке «Волк и семеро козлят») и их безболезненным возвращением из чрева целыми и невредимыми, после чего пара меняется местами и убивают и съедают того, кто ранее проглотил героя. Библейская история о путешествии Ионы во чреве кита — отголосок этой серии мифов мистического ноктюрна.
МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК
Еще одна характерная черта мистического ноктюрна — миниатюризация. Если диурн гипертрофированно завышает масштабы вещей, событий, явлений, то мистический ноктюрн гипертрофированно их занижает. Делая вещь или явление миниатюрными, ноктюрн снимает таким образом заложенную в них опасность, агрессию, угрозу, укрощает их, обезвреживает, включает в утробную пацифистскую дрему. Когда вещь становится маленькой, она перестает быть внешней и угрожающей, и ее можно интегрировать, включить в разряд подручных и привычных предметов.
Отсюда многочисленные сюжеты про маленьких человечков — гномов, карликов, лилипутов, гомункулов. Мальчик-с-Пальчик, Мужичок-с-Ноготок или Покати-Горошек относятся к этой категории.
В минимализации проявляется женское (материнское) видение мира: другой воспринимается как ребенок, как нечто маленькое, требующее заботы, защиты и ласки и вместе с тем неопасное и послушное. Отсюда уменьшительно-ласкательные суффиксы в разговорной речи как филологические формы работы ноктюрна.
С помощью символического уменьшения (лилипутизация как эвфемизм размерности) женщина укрощает буйную природу героического начала (мускулиноидность), справляется с вызовами окружающего мира.
НОМЕНКЛАТУРА СИМВОЛОВ НОЧИ
К образам и свойствам мистического режима имажинэра Дюран относит:
• материальность, конкретность, чувственность, опору, плотность, субстанцию, экскременты, глину, землю, почву;
• пищу, напитки, питание, кормление;
• обладание, богатства, деньги, драгоценности, ценности;
• жилище, убежище, пещеру, центр, внутренние строения, очаг;
• воду, море, влагу;
• могилу, колыбель, вместилище, корабль;
• яйцо, молоко, мед, вино;
• краски, покрывало, мантию;
• живот, чрево, гениталии, утерус;
• большинство женских персонажей религии (Великая Мать, богиня и т. д.);
• детей, карликов, эльфов т. д.
По логике ноктюрна, эти символические ряды могут выступать в мифах как синонимы, что порождает бесчисленные фигуры и сюжеты, имеющие сходное функциональное строение. Эта систематизация открывает широкие возможности для классификации фольклорного материала, дешифровки мифов, диагностики психических и психологических расстройств. В то же время она может быть применена и к сфере социологии в самых различных ее аспектах, что мы и покажем в дальнейших разделах.
РАССЛОЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И ГЛИШРОИДНЫЕ СВОЙСТВА
В психиатрическом смысле доминанта дигестивного рефлекса и данного регистра работы воображения дает, согласно Дюрану, глишроидный58, а в предельном случае — эпилептоидный тип. Эти состояния психиатры называют «клейкими», «вискозными». Они описываются как «слипание» чувств, мыслей, предметов в одно целое, в нечто тягучее и смешанное, в слаборасчленимый ком. Такие состояния нередко предшествуют эпилептическим припадкам или (в легкой форме) икзотимии.
Шире, стремление связать любой ценой воедино все окружающие предметы, углубиться в них, рассеяться по вещам, явлениям, ситуациям внешнего мира характерно для шизофрении.
Глишроидный тип психики склонен придавать единство объекту и размазывать субъектность по внешним предметам. Внутренняя идентичность при этом размывается, а различные предметы (включая самые далекие), напротив, связываются, склеиваются между собой через интуицию всеединства и тягу к сопричастности.
В психиатрии и психологии часто используются для диагностики пациентов тесты, разработанные швейцарским психиатром Германом Роршахом (1884–1922). Они представляют собой наборы ничего не означающих цветовых пятен и клякс, расположенных в случайном порядке. Врач предлагает опрашиваемому ответить, что изображено на картинке, как он ее понимает, связаны ли между собой те или иные объекты и что они означают. Для страдающих шизофренией и представителей глишроидного типа помимо причудливости и болезненности ассоциаций характерно установление между пятнами гораздо большего количества связей, нежели для здоровых людей. У шизофреника все похоже на все, все связано со всем и все вызывает обильные потоки ассоциаций.
В мифе это означает заглядывание под нижнюю границу мира, где парки ткут нити бытия, связывая между собой все вещи и явления, склеивая реальность в общий ком. Это сугубо женский, материнский, ноктюрнический взгляд на вещи. У психически нормальных людей это свойство менее заметно. Патологические случаи обнаруживают всю структуру глишроидных установок более отчетливо и полноценно.
Глишроидный тип делает сознание гетерогенным (разнородным), впуская в него нецензурированное множество импульсов внешнего мира. Но тем самым само это множество приобретает свойство гомогенности, однородности, интегрируется в нечто целое (хотя и ценой утраты рассудка).
В мистических учениях разных культур подобное единство мира («вахдад-уль-вуджуд» в философии Ибн-Араби59) достигается путем отказа от индивидуального Эго, от привычных форм рассудочного мышления.
ФЕМИНОИДЫ
Режим ноктюрна и в первую очередь группа мистических мифов формируют особую матриархальную конструкцию, где преобладает женственно-материнский тип. Это можно назвать феминоидным типом. Точно так же, как и с героической группой мифов, феминоидность — не свойство реальных женщин. Феминоидный характер может быть присущ и некоторым патриархальным системам, и весь этот комплекс присутствует в глубинном воображении мужчин практически наравне с глубинным воображением женщин.
По Юнгу, феминоидность соответствует аниме (Серафите Бальзака60) в мужской версии бессознательного.
Феминоидные типы, мифы, культуры и личности обладают специфической ориентацией и представляют собой четко выделенный антропологический траект, сопряженный с дигестивно-нутритивной доминантой (культ еды, ласки, покоя, уюта, комфорта) и другими мотивами, свойственными режиму ноктюрна.
Чтобы различить феминоидность, свойственную двум группам мифов в самом режиме ноктюрна, можно говорить о материнской феминоидности мистических мифов и о копулятивной феминоидности второй группы, которую мы рассмотрим далее61.
Контрольные вопросы
1. Опишите режим мистического ноктюрна.
2. Назовите три характерных символа режима ноктюрна.
3. Что такое феминоидность?
ГЛАВА 2.5
РЕЖИМ НОКТЮРНА 2 / ДРАМАТИЧЕСКИЕ МИФЫ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ НОКТЮРН КАК УМЕРЕННЫЙ ЭВФЕМИЗМ
Вторая группа мифов, входящая в режим ноктюрна, — драматические или синтетические мифы — также подвергает фундаментальную оппозицию воображение (имажинэр) / смерть эвфемизации (поэтому они отнесены Дюраном к ноктюрну). Но эта эвфемизация отличается от группы мистических мифов и количественно, и качественно. Количественно — в том, что в данном случае эвфемизация не столь абсолютная, не меняет знаки на прямо противоположные. А качественно — в том, что процесс эвфемизации развертывается по иному сценарию — через интеграцию негативного (смерти и времени) в общую синтетическую систему, где сохраняются и дуализм, и положительная оценка световых символов и признается отрицательность ночных символов, но все в целом заключено в схему относительной диалектической сцепленности.
В этой группе мифов смерть ведет к новому рождению (воскресению), время циклично (за прогрессом следует регресс, а затем снова прогресс), во всем доминирует дуальный ритм, лишь лишенный той бескомпромиссности, которая характеризует режим диурна.
Дюран называет эту разновидность ноктюрна драматической, потому что структура драмы состоит как раз в чередовании противоположных элементов — страдания и счастья, успехов и неудач, обретений и потерь. Каждая фаза драматического повествования влечет за собой фазу с противоположным знаком, что и составляет специфическую напряженность именно этого жанра. Такая же структура воспроизводится в этом режиме имажинэра.
Другое название, предлагаемое Дюраном, — синтетический ноктюрн. Оно подчеркивает ту специфику обращения с парами противоположностей, которая характеризует эту группу мифов и архетипов. Противоложности здесь не приобретают характера альтернативной несовместимости (или / или) как в режиме диурна, но и не совпадают, как в режиме мистического ноктюрна. Они синтезируются, сохраняя свое отличие и определенную напряженность оппозиции, но при этом не сливаются вплоть до неразличимости.
Самый общий сценарий драматического мифа таков: умирание не окончательно, за ним следует новая жизнь (эвфемизм). Но вместе с тем сохраняются печаль утраты, напряженность поражения и трагизм верховенства времени и смерти. Однако фатальность времени и смерти релятивизирована и смягчена.
КОПУЛЯТИВНАЯ ДОМИНАНТА
В области рефлексологии синтетической группе мифов соответствует ритмо-сексуальный, или копулятивный (половой), рефлекс, влечение к совокуплению и интенсивному эротическому наслаждению.
Однако, по Дюрану, базовый траект копуляции состоит не только в наслаждении (определенные формы наслаждения, равно как и травмы, человек получает во всех режимах, поэтому либидозные теории Фрейда, объясняющие подсознание как постоянного производителя сексуальности, относятся не только к этой группе мифов, но ко всем их разновидностям). Дюран считает, что в копуляции важнее всего ритм, повторяемость одного и того же, а остальные ощущения и впечатления вторичны и добавляются к копулятивной доминанте (как к воспроизведению ритма) в качестве акциденций.
Копулятивный рефлекс у младенцев проявляется раньше, нежели структурированная сексуальность. Его можно увидеть в повторении однообразных жестов рукой или ногой, потряхивании погремушкой, постукивании о края колыбели — в любом повторяющемся ритмическом движении. Структура данного рефлекса состоит в чередовании фаз, позиций, состояний, касаний («касаюсь — не касаюсь»), дистанций («близко–далеко»). Поэтому и в половом акте Дюран выделяет именно ритмическое и однообразное движение фигур, воплощающее суть этого режима.
АРХЕТИП ТАНЦОРА
Если в режиме диурна нормативным архетипом была фигура героя, воина, в режиме мистического ноктюрна — матери, то в режиме драматического ноктюрна это архетип танцора (в расширительном смысле — художника, артизана, а еще более широко — всякого деятеля, занятого повторяющимися операциями циклического, кругового характера).
Танец есть выражение стихии ритма. В нем, как правило, наличествует симметрическое повторение движений, часто круговых, смена позиций, участие пар или ряда пар. В танце почти всегда есть сближение и удаление, чередование фаз, развертывание фигур по кругу.
Фундаментальность танца, его связь с глубинными архетипами имажинэра и базовыми рефлексами проявляется в том, что это явление встречается не только у людей, но и у некоторых видов животных. Так, широко известны брачные танцы птиц. Есть они и у волков, слонов, диких козлов, горилл, шимпанзе и многих других видов. В некоторых случаях танцы животных не менее изысканны и грациозны, нежели человеческие.
Ритмический танец есть ритуал связывания между собой противоположностей — мужчины и женщины, воображения и смерти (времени), наличия и отсутствия, ночи и дня. Но эта связь иная по сравнению с материнским склеиванием всего в одно: два не становятся одним необратимо, их слияние несет в себе расставание, а расставание чревато новым сближением таким образом, что пара противоположностей постоянно меняется местами. Превалирование в одной фазе обязательно влечет за собой следующую фазу, где порядок меняется.
Танцы известны во всех типах обществ — от самых архаических до современных — и составляют основу фундаментального языка социума.
СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ
В религиозно-мифологических сюжетах режим драматического ноктюрна часто встречается в форме повествования о смерти и воскресении — бога, героя, персонажа и т. д. Бог, герой или главное действующее лицо мифа или религиозного сюжета погибают (часто мучительно), спускаются в ад, засыпают, становятся жертвой злых сил. В вариантах это может быть исчезновение, пленение, заточение, превращение в животное или предмет, порабощение, похищение, потеря социального статуса, имущества или ценной реликвии и т. д. Но после определенного периода благодаря чуду или вмешательству другого героя он снова воскресает, поднимается из-под земли, оживает (сбрызнутый мертвой / живой водой), возвращается, освобождается, спасается, принимает первоначальный облик, восстанавливает социальный статус, утраченную вещь и т. д. Разновидности этого базового сюжета мифа бесконечны — от сказок и религиозных культов до сюжетных линий светской литературы или сценариев фильмов и бульварных романов.
Через оптику драматического ноктюрна можно рассматривать природные явления (смену сезонов, циклическое движение светил — Солнца, Луны, планет, звезд и т. д.), а можно толковать социальные циклы, исторические хроники, летописи, историю государств, обществ, цивилизаций и культур.
В модели «смерть–воскресение» заложены обе фазы цикла — восходящая и нисходящая, что предопределяет различные версии понимания времени (регресс, прогресс, вечное возвращение).
Мессианские и эсхатологические сегменты религиозных учений (в иудаизме, христианстве, исламе, но также в буддизме — Будда; в индуизме — десятая аватара, Калки; в германском язычестве — битва богов и возвращение Бальдра и т. д.62) имеют к этому режиму самое непосредственное отношение.
НОМЕНКЛАТУРА СИМВОЛОВ ДРАМАТИЧЕСКОГО НОКТЮРНА
Типичными символами синтетических мифов Дюран считает:
• крест, круг, колесо, спираль, лабиринт, любые круглые предметы;
• прорастающее зерно, злаковые растения, сезонные всходы, дерево, куст, стебель, цветок, созревание;
• все виды циклов — сезоны, времена года, астрономические циклы;
• искусства и их атрибуты (краски, кисти, музыкальные инструменты), маски;
• эротический символизм во всем его многообразии, богов и богинь любви, оргии;
• огниво (для добывания огня);
• улитку, раковину, медведя, барана, кролика;
• колесницу, средства передвижения, путешествия;
• все виды дуальной симметрии вдоль вертикальной оси, близнечные мифы, удвоение (редубляцию), симметричную организацию пространства (по сторонам света).
Образцом драматического дуализма является китайский символ «инь–ян», который может быть рассмотрен как наиболее полное и общее выражение данного режима имажинэра.
ДРАМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ГЕРМЕС И ЕГО ЖЕЗЛ
В этой группе мифов идентичность не столько укрепляется в своей сингулярности (как «параноидный» субъект диурна) и не столько рассыпается (как в «шизофренической» рассеянности мистического ноктюрна), сколько раздваивается, эротизируется, сексуализируется.
Миф об андрогине играет здесь важную роль. Среди греческих богов более всего этой мифической картине соответствует бог Гермес, психопомп (водитель душ между мирами). Некоторые его черты относятся к диурну (крылышки на икрах). Но, с другой стороны, он покровитель воров и торговцев, хитрец и обманщик.
Гермес имеет своим отличительным символом кадуцей — жезл, вокруг которого оплелись две змеи (одна головой вниз, другая — вверх), а сам скипетр являет собой ось симметрии драмы. Кадуцей, в котором две змеи сплелись, но сохранили двойственность, отличается от символа Оуробороса (змеи, кусающей свой хвост), относящегося к мистической группе мифов ноктюрна.
МИР НЕВЕСТ И ПУТЕШЕСТВИЯ
Будучи частью режима ноктюрна, группа драматических мифов также находится под знаком женского начала. Но это не столько мир матерей, сколько мир невест, жен, супруг, возлюбленных, «прекрасных дам». Женственность здесь выступает в дуальном качестве: она желанна и опасна, привлекательна и губительна. Множество сказочных сюжетов повествует об этой дуальности — став близкой, женщина исчезает (ее похищают, она в кого-то превращается); будучи далекой, она притягивает к себе, закладывая сценарий для развертывания подвигов ее мужской пары.
В мифах драматического типа персонажи постоянно путешествуют, вращаются по циклическим маршрутам, уезжают и возвращаются, поднимаются в небо и спускаются под землю, превращаются в животных и снова становятся людьми. Акцент здесь падает на повторяемость архетипических сюжетов, действий и поступков, а также воспроизводство и умножение аналогичных символов.
То, что мотивацией путешествий, поездок и приключений становится брак, поиск жены, невесты, сватовство и т. д., является устойчивым компонентом мифа, связанным с глубинной структурой драматического ноктюрна. Путешествие, перемещение, подвиг, приключения чаще всего проходят под эгидой брака, имеют либо причиной, либо целью свадьбу, любовь, обретение (или возвращение) женщины. Функционализм структур имажинэра позволяет заключить, что любое путешествие несет в себе эротический оттенок.
МИФЫ О ПРОГРЕССЕ И ПРОМЕТЕЕ
К отдельной разновидности драматического режима имажинэра относится миф о прогрессе, который Дюран считал тесно связанным с мифом о Прометее.
В изначальной версии этого мифа дуализм и обратная симметрия полностью соблюдены: Прометей — титан (а не бог), то есть принадлежит к ноктюрну, а не к диурну. У него есть симметричный аналог — Эпиметей. (Этимология имен братьев такова: «мысль, забегающая вперед» — Прометей; «мысль, остающаяся сзади» — Эпиметей.)
Прометей и Эпиметей — две половины цикла (подъем и спад, верхняя и нижняя дуги окружности и т. д.). Прометей — это прогрессивная дуга, Эпиметей — регрессивная. Оба они должны находиться в Аиде (в царстве ночи и матерей), то есть в ноктюрне. Но Прометей постоянно пытается выбиться наверх (в диурн). Это можно представить себе как попытку циклического движения в момент кульминации переключить режим и продолжать траекторию подъема в неопределенно далекое и высокое измерение (в область чистого полета и героического мифа). У Гесиода (VIII–VII вв. до н. э.)63 Прометей вначале помогает Зевсу в его борьбе против других титанов, но потом подменяет жертвоприношения и похищает огонь, то есть выступает как трикстер (герой-мошенник, хитрец).
Так, половина цикла покидает свою отведенную законным мифологическим порядком сферу, чтобы вторгнуться в область божеств, за что получает от богов (диурн) закономерное наказание. Компенсаторную функцию выполняет женщина (Пандора со своим ящиком; ящик, сундук, сокровище — все это символы мистического режима ноктюрна), причем месть Зевса за украденный огонь вступает в действие через Эпиметея (в полном соответствии с двойной симметрией мифа).
По Дюрану, в мифе о Прометее, столь популярном в Новое время, особенно к середине XIX века, явлена сама схема прогрессизма и историцизма. Нечто циклическое пытается освободиться от своей темной половины (как близнецы Диоскуры — бессмертный Кастор и смертный Поллукс) и стать равным диурническим божествам. Сходный сценарий мы встречаем в мифе о Дионисе или в гностическом сценарии об апокатастасисе — финальном прощении сатаны у Оригена (ок. 185 — ок. 254)64. Прогресс в этом случае берется в отрыве от регресса, его второй и необходимой половины; цикл размыкается в попытке сместить диурническую божественность и заменить ее восставшим титанизмом (тема Люцифера). Отсюда один шаг до буржуазно-демократических революций (освобождение материалистических и ноктюрнических «дигестивных» торговцев-буржуа из-под бремени диурнической наследственной аристократии) и до пролетарской революции Маркса (который отождествлял пролетариат с титанами греческого ада и был вдохновлен образом Прометея).
Параллельный сюжет Дюран обнаруживает в древнеиндийском способе получения огня через вращательные движения ступы-огнива в форме свастики. Свастика вращается равномерно (часто движимая животными), пока наконец не загорится огонь — отсюда название свастики («sva asti» — «это благо» на санскрите). Так ритуальное постоянство, вечное возвращение одного и того же силится разомкнуть цикл повторений и выпрастывает прометеический миф о прогрессе.
По Дюрану, идея прогресса — обычный (люциферический) миф, ставший на некоторый период весьма популярным, но постепенно исчерпавший свою притягательность. После романа Андре Жида (1869–1951) «Плохо прикованный Прометей»65 тема банализируется и миф окончательно изнашивается66.
ЦИКЛОТИМИЯ ИЛИ НОРМА?
В психиатрии Дюран не без колебаний соотносит с этим типом синтоников и циклотимиков. Эти колебания в подборе режиму драматического ноктюрна соответствующего случая психиатрической патологии имеют свое объяснение. Дело в том, что циклическое колебание настроений, состояний и восприятия мира представляет собой статистическую норму психического здоровья, вплоть до того, что определения диагноза «циклотимия» звучат для неспециалиста иронично: «колебание, перепады настроений и состояний, смена эмоций, переход от оптимистической оценки жизненных ситуаций к пессимистической» — но так или почти так воспринимает жизнь любой здоровый человек, у которого «перепады настроений» и «колебания оценок жизненных ситуаций» есть вещь вполне естественная. Если же эти перепады и колебания приобретают патологический характер, то речь идет о психозе (например, маникально-депрессивном), но это уже совершенно другой диагноз. Поэтому, на наш взгляд, серии драматических мифов режима ноктюрна соответствует психическая норма. Данная модель мифорефлекторных комплексов характеризует более или менее уравновешенную личность, которую принято рассматривать как сбалансированную и «здоровую». А зависимость от настроений и их частая смена — это частный случай уравновешенной психики, равноудаленной как от паранойи (сверхсильная идентичность субъекта), так и от шизофрении (сверхслабая и размазанная идентичность субъекта).
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ФЕМИНОИДЫ
В драматическом режиме ноктюрна, как и в ноктюрне мистическом, превалирует феминоидность, но несколько иного толка — не столько материнская, сколько связанная с женщиной-женой, возлюбленной, эротическая, провоцирующая, дразнящая. Феминоидные культуры этого регистра отличаются динамическим сладострастием, ритмикой, легкостью и повторяемостью основных архетипических фигур.
Такой феминоидности соответствуют и мужские типы с подчеркнутым эротизмом, склонные к флирту и большие поклонники женского пола. Тип Дон Жуана в такой классификации — это тип феминоида. Современные латинские «мачо» с набриолиненными прическами («как из душа») относятся к той же категории.
Если в мистическом феминоиде проявляется Великая Мать — Мать-Земля, Мать Мира, повелительница вод, то драматический феминоид — это богиня-охотница, Артемида, Луна или богиня любви Афродита, Венера, утренняя и вечерняя звезда.
Контрольные вопросы
1. Опишите режим драматического ноктюрна.
2. Назовите три характерных символа режима ноктюрна.
3. Что такое драматическая феминоидность? Чем она отличается от мистической феминоидности?
ГЛАВА 2.6
ОБЪЯСНЕНИЕ ЛОГОСА ЧЕРЕЗ МИФОС
ЛОГОС КАК ПРОДУКТ РЕЖИМА ДИУРНА
Теперь посмотрим, к чему приводит методология Жильбера Дюрана с точки зрения социологии и, шире, с точки зрения социокультурной топики нашей базовой пары логос/мифос.
Мы видим, что основные параметры логоса («числителя») есть не что иное, как одна из разновидностей режима диурна. То есть логос есть частный случай одного из режимов мифа: не нечто прямо противоположное мифу, но одна из его вариаций (и даже идеовариаций, то есть версий одного и того же).
Могут возразить: эта вариация претендует на эксклюзивность. Да, но и сам героический миф, отталкиваясь от которого логос развился, претендует на эксклюзивность — это и есть миф об эксклюзивности, так как он борется со временем во имя своей сингулярности, исключительности, единственности.
На всех этапах развертывания западноевропейской рациональности, согласно структурному подходу Дюрана, мы встречаем именно героический миф, диайрезис, диурн — гипертрофированное развитие патриархальной воли, мускулиноидность, постуральную доминанту, подминающую под себя все остальное. Это Рим. Это ахейская Греция и Александр Македонский (356–323 до н. э.). Это европейское Средневековье и пылающая готика. Это Декарт и рациональность Нового времени. Это мировой колониализм. Это классическая философия, культура и искусство. Это современная наука. Можно назвать это «мифом об Аполлоне» или «мифом о мировом Духе».
Философия, основанная на субъекте и объекте, равно как и платоновская теория идей, да и сам гераклитовский логос, суть следствия мифологической активности режима диурна.
ДИУРН И СОЦИУМ
В той мере, в какой социум есть явление рациональное (а в значительной степени именно так оно и есть — не случайно мы говорим о социальном логосе), он также есть продукт диурна. То, что не попадает в диурн, выносится за пределы социального логоса — в то подполье, с которого мы начали выяснение структуралистской социокультурной топики (в первом разделе).
Однако вычленение режима диурна, который сам относится именно к мифосу, а не к логосу, позволяет наметить тонкую грань: став логосом, диурн делегировал ему только одну часть самого себя, остальное же осталось в подполье. Поэтому неверно было бы понимать всю ситуацию так, будто весь мифологический заряд диурна переходит в логос. Не весь, но только определенная его часть, причем меньшая. Основной объем Аполлона в ситуации «логос против мифоса» остается на стороне мифоса. В ХХ веке в форме возрожденного культа Вотана он взрывает (по Юнгу) логосную рациональность германской культуры (феномен национал-социализма Гитлера).
Можно сказать, что идея Ницше о воле к власти как иррациональном (мифологическом) инстинкте сводится к тому же самому: воля к власти — это диурн в широком смысле, и эта воля является невидимым двигателем всех рационально-социальных процессов (в науке, обществе, политике, этике, системе ценностей).
АНАТОМИЯ ПРОГРЕССА
Существенную модификацию логоса Запада привносит миф о Прометее. Это отнюдь не диурническая модель, но оторвавшаяся от целого половина циклического (ноктюрнического) мифа. Философия истории, ставшая в XVII–XIX веках основой гуманитарной эпистемы европейского человечества, — это только половина окружности, выбившаяся на поверхность и сцепившаяся там с результатами (сильно обескровленного) рационалистического логоса. Она еще раньше подпитывает люциферической — фаустианской, по О. Шпенглеру (1880–1936) — энергией, «новым титанизмом» разлагающееся Средневековье, затем приводит к Возрождению и вдохновляет буржуазные революции.
Но, как и в классической версии мифа о Прометее, прогресс несет в самом себе наказание и возврат к той второй половине, от которой восходящая стадия тщетно пыталась освободиться. Судьба титанов — находиться всегда на их месте в Тартаре и не посягать на привилегии богов. В ХХ веке относительность прогресса стала очевидной многим мыслителям67. Раскрепощенная техника (О. Шпенглер), экологические катастрофы, мировые войны, резкое падение нравов (распад семьи, смешение культур, деградация моральных и культурных стандартов) показали, что Прометея не бывает без Эпиметея, со всеми вытекающими из этого катастрофическими последствиями.
Структурный подход Дюрана показывает, что в общем стиле западноевропейской культуры и науки Нового времени следует различать две линии, которые в обыденном представлении слились до неузнаваемости, но тем не менее генетически восходят к разным режимам антропологического траекта. С одной стороны, мы имеем европейскую рациональность, которая стремится стать все более и более чистой, корректной и автономной, освободиться от любых примесей мифа, воли к власти, от каких бы то ни было следов «знаменателя» (религии, традиции, древних и архаических культурных кодов). Это продукт режима диурна. С другой стороны, эта рациональность — Просвещение, естественные науки, позитивизм — в определенный момент тесно сближается с идеей поступательного развития, прогресса, эволюции, развития. Но это уже совсем другой режим — драматический ноктюрн, титанизм, созревание, всходы, постепенное улучшение и т. д. Так мы получаем анатомическое разделение современной западной культуры на две составляющие — диурнический рационализм и ноктюрнический прогрессизм. Если диурн — это явная константа западноевропейской культуры, прослеживающаяся в глубь эпох, то миф о прогрессе (Прометей) оказался в центре внимания относительно недавно и в силу самой своей структуры долго доминировать не мог. В ХХ веке его «изношенность» стала бросаться в глаза, а в Постмодерне он почти полностью сошел на нет. Изношенность мифа о Прометее чутко улавливает Андре Жид, который в своей книге «Плохо прикованный Прометей» превращает эту патетическую фигуру в жалкий гротеск.
Анатомия прогресса показывает, насколько продуктивной является типологизация Дюрана для анализа исторических и социологических процессов.
РЕЖИМЫ ВООБРАЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ
Еще один вывод из Дюрана — это возможность спроецировать структуры имажинэра на социальные классы и основные социальные функции.
Очевидно, что режим диурна предопределяет элиты общества, конституируя образы властителей — королей, аристократов и воинов (ноблей). Сюда же следует отнести жрецов (фламенов), богов света и ясного неба. Это мускулиноидные олимпийские культы. По Дюмезилю, в индоевропейских обществах именно представители двух «классов» (или больших социальных групп) — жрецов и воинов — формировали основную социальную, политическую, экономическую и ценностную структуру, являясь правящими в прямом и мифологическом смыслах (боги римских жрецов и воинов Юпитер и Марс считались верховными по сравнению с богом ремесленников, торговцев и землепашцев Квирином).
Драматические мифы относятся к ремесленникам и крестьянам, занятым циклическим трудом. Пролетарии Рима способны были только производить детей68, то есть копулятивная (сексуально-ритмическая) функция в них преобладала. Ритмичность однообразного физического труда — классический пример цикла и его символизма.
И наконец, мистическим мифам соответствуют женские культы и их жрецы (черная богиня-мать Кибела, жрецы которой практиковали ритуальную кастрацию, то есть искусственно воссоздавали феминоидность), а также особые мистические созерцательные культы.
Касты, классы и сословия в большинстве известных нам обществ (социальных систем) отражают принцип доминации режима диурна над режимом ноктюрна. Патриархальная аристократия — жрецы и воины — представляет собой элиту, высшие слои общества. Третье сословие — крестьяне, ремесленники и торговцы — относится к драматическому режиму ноктюрна, связанного с циклическим символизмом.
Социальная группа, соответствующая мистической группе мифов, представляет большую трудность для идентификации. С одной стороны, представители этого типа относятся к определенному виду жречества, утверждающего вселенский монизм, единство всего сущего. Это эзотерическая (мистическая) линия в классических религиях. В примитивных обществах и в шаманизме их можно отнести к условной категории «черных магов» или «черных шаманов».
Вместе с тем ряд свойств этого типа относится к низшим слоям общества, находящимся в определенном смысле ниже его нижнего предела: это четвертая каста в индуизме (шудры), состоящая из плохо интегрированных в арийскую структуру автохтонных элементов, маргиналов, парий, чандал, рабов, лиц без гражданства в греческих полисах («идиотес»).
Здесь можно привести соображения относительно двойственного символизма черного цвета у философа-традиционалиста Рене Генона (1887–1951). Генон говорил, что черный цвет обозначает и «высшую непроявленность» (небытие, «асат» в индуизме, мир чистой возможности), и вместе с тем «тьму материи»69. Поэтому социальная идентификация комплекса мистического ноктюрна представляет собой определенную проблему и нуждается в более подробном выяснении70.
ОБЪЯСНЕНИЕ ГЕТЕРОТЕЛИИ И СБОЕВ В РАБОТЕ СОЦИАЛЬНОГО ЛОГОСА
Благодаря социологическим конструкциям Жильбера Дюрана открывается возможность для объяснения огромного круга явлений, которые не вписывались в классическую социокультурную топику и привели многих социологов к убежденности в ее недостаточности (о чем подробнее говорилось в разделе 1).
Учет мифологических режимов объясняет многие сбои в рациональном, причинно-следственном функционировании общества. В самом общем случае можно сказать, что это вызвано тем, что режим ноктюрна аффектирует диурнические структуры на уровне индивидуумов, групп и коллективов. Кроме того, те стороны диурнического мифа, которые не вошли в легитимные модели социального логоса (мускулиноидная агрессивность, стремительность, радикальность, разрыв и т. д.), также осуществляют бессознательную работу по подтачиванию этого логоса. Бессознательная сторона во всех ее режимах и в первую очередь жизнь в регистре эвфемизма срывают четкие механические и героические проекты логоса. Но так как сам логос есть не весь диурнический миф, а лишь его часть, то саботаж работы логоса проистекает еще и из самого диурна — из тех его областей, которые остались на уровне мифа и не перешли на уровень рациональности. Наблюдение за этим явлением, как мы видели, позволило Ницше поместить в знаменатель структуралистской «дроби» волю к власти.
Структурализм Маркса, помещающий в основание (базис) материальные и трудовые процессы, напротив, акцентирует логику драматического ноктюрна, выползающего на дневной свет в форме социалистических революций вслед за первой волной драматических феминоидов — буржуа, которые готовят пролетариату путь. В конце концов, по этой логике в социальную сферу могут проникнуть носители мистического ноктюрна — «черные маги» [чего-то подобного и ожидали в будущем философы-традиционалисты Ю. Эвола (1898–1974) и Р. Генон, говоря о «великой пародии» и воцарении Антихриста, к которым приведет процесс нисхождения по кастовой лестнице].
ЛОГОС КАК ПАТОЛОГИЯ
Объяснение природы логоса в теории антропологического траекта Дюрана помогает вплотную приблизиться к патогенному ядру западноевропейской культуры в самом общем ее понимании. Мы видели, что режим диурна проводит необратимое разделение между самим траектом и внешним миром как «другим», приравнивая это другое к смерти. В этом состоит основной жест героического мифа — диайрезис, конституирование бездны между «собой» и «не-собой» и начало войны с «не-собой» с параллельным принятием всех трагических последствий такой войны. Трагедия — это стержень западноевропейской культуры и истории.
Вместе с тем борьба героя против ночи и времени как чисто внешних инстанций, лежащих, по представлению диурна, жестко вне самого имажинэра, развертывается параллельно борьбе против режимов ноктюрна, которые в оптике диурна становятся «пятой колонной» смерти, «предательством» в отношении трагической борьбы героя. Так происходит раскол внутри самого траекта, когда ночная сторона имажинэра квалифицируется диурном как «враг». Именно в этот момент и происходит рождение логоса, зажигание света во тьме, выделение разума из предшествующей ему (логически, но не хронологически) стихии чистого воображения. Таким образом, логоцентричная культура несет в самой себе травму первораскола, где в роли тотальной оппозиции имажинэру выступает не внешний объект — смерть, но внутренний объект — ноктюрн, являющийся интегральной частью самого антропологического траекта. Так война имажинэра со смертью становится одновременно войной с самим собой.
Логос, утверждая себя и свою жесткую доминацию над мифосом, наносит удары по самому себе, изматывает и ослабляет самого себя, борется против самого себя. Поэтому в ходе этой борьбы он незаметно переходит на сторону противника, так как, целясь в другого, он наносит раны самому себе. Неудивительно в такой ситуации, что в какой-то момент он ослабевает и теряет бдительность, в результате чего из мифологического знаменателя под видом «рациональной научной теории» на поверхность снова выползает гонимый ноктюрнический миф — в частности, миф о прогрессе, о Прометее, об эволюции, а далее (в Постмодерне) и еще более откровенные формы «знаменателя».
Такой подход объясняет многие закономерности становления западноевропейской культуры, показывает динамику присущих ей кризисов, позволяет прогнозировать развертывание ее дальнейших этапов.
Если логос есть заболевание, связанное с внутренним расколом траекта, то лекарство от него может быть найдено только в мифе.
Контрольные вопросы
1. Как соотносятся режимы воображения с социальными классами?
2. Социальный логос относится к диурну или к ноктюрну? Обоснуйте ответ.
3. Как логос и мифос проявляются в социальных структурах?
ГЛАВА 2.7
РЕЖИМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО И ФИГУРЫ РИТОРИКИ
РИТОРИЧЕСКАЯ АНТИТЕЗА В РЕЖИМЕ ДИУРНА
Вспомним, что мы говорили о риторике как о своеобразном языке мифа, в котором нарушаются логические закономерности. Дюран связывает каждый из режимов имажинэра с серией риторических приемов.
Режиму диурна соответствуют антитеза, гипербола и плеоназм (от древнегреч. πλεονασμός — «излишний»).
Антитеза — «противопоставление», «сопоставление», «контрастность» и «конфликтность» в высказывании (как выражение диайрезиса) — находит свое место и в риторике, и в логике, где на противопоставлении и сопоставлении основаны главные логические операции, начиная с закона противоречия. Можно сказать, что антитеза как риторическая фигура представляет собой тот случай, где мифос и логос действуют синхронно и непротиворечиво.
Из этого сближения легко увидеть, как логос рождается из мифоса. Грезы режима диурна в фигуре антитезы несут в себе основания для дальнейшего развертывания логических структур. Эта риторическая фигура в определенном смысле противостоит большинству других фигур именно тем, что в ней строго соблюдаются правила рассудка, стройного построения пар оппозиций без нарушения основных логических норм.
ВОЙНА С МИКРОБАМИ
В книге «Антропологические структуры воображения»71 Дюран, несколько иронизируя над рационализмом, приводит случай со страдающим тяжелой формой паранойи пациентом, картина бреда которого, с одной стороны, совершенно стройна (в смысле осуществления логических операций), но с другой — оставляет ощущение странности из-за сновиденческого характера базовых предпосылок72.
Пациент видит повсюду «микробов, которые атакуют его, расщепляют вещи, слова и понятия». Эта атака «угрожает ему, всему миру, врачам, пациентам». Но больной находит «противоядие» для борьбы с ними: из четырех слов — «карибы», «каннибал», «канак» и «ракай» (фр. racaille — «мерзавец») — он составил слово «ракакай», которое содержит в себе все эти слова, подчеркнул его пятью линиями и пририсовал сверху две звезды. «Микробы были поражены линиями, вошли в слова и звезды, и это им взорвало пасти». Так он «убил всех врагов и спас человечество».
В данном случае идет обычная работа логоса: одно отделяется от другого, невидимые понятия — объекты, с которыми оперирует сознание, — изображаются в форме микробов. Эти понятия приобретают характер зла, негатива, обнаруживают в себе угрозу (происходит разделение на А и не-А). Затем сознание осуществляет операцию силлогизма, состоящую в поиске достаточного основания для победы над микробами. Этим основанием становится «удивительная ловкость» сознания, способного сочетать четыре разных, но в чем-то «близких» слова в одно. В результате смерть микробов достигнута — логическая цепочка привела к «триумфальному завершению». Теорема доказана, результат получен.
То, что мы имеем дело с очевидным бредом, в данном случае не принципиально, так как для формальной аристотелевской логики важно не содержание понятий, а стройность их соотношения друг с другом. В здоровом состоянии логика работает с предпосылками, чье содержание является не более чем предметом социального консенсуса. В случае ментального расстройства больной ставит на место логических единиц фрагменты сновидений, случайные ассоциации, разрозненные образы. Но структурируются они по строго определенному образцу антитезы.
ПАРАНОЙЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ КОНВЕНЦИЯ
В этом состоит особенность паранойи как весьма специфического психического расстройства. Паранойя отличается тем, что страдающее ею существо не утрачивает способности логического мышления, но берет за стартовые понятия логического процесса некоторые гротескные, сновиденческие и неконвенциональные образы, фигуры и «смыслы». Пример — параноидальная мания преследования. Если бы человека кто-то на самом деле преследовал, то все действия, поступки, опасения, жесты защиты и контрнападения параноика были бы абсолютно логичны, продуманны, ответственны и оправданны и в его поведении не было бы ни малейшего отклонения от нормы. Но та же логичная деятельность становится признаком заболевания, если никакой реальной угрозы нет и пациента никто не преследует. А если все-таки кто-то преследует и его догадка верна? На этом двусмысленном нюансе построено множество литературных произведений и фильмов, в частности, фильм «Теория заговора» с Мелом Гибсоном.
В двухмерной топике логос / мифос подобная двусмысленность решается просто. Антитеза как движение воображения первична по отношению к логическим цепочкам и операциям. Поэтому она может как выступать в резонансе с логическими процедурами (и тогда мы видим поведение здорового человека), так и развертываться самостоятельно — и тогда мы имеем дело с паранойей. Но паранойя в таком случае будет диагностироваться только как социологическая дисфункция, как несовпадение режима работы сознания (под влиянием бессознательного) с аксиоматическими содержательными конвенциями вполне конкретного общества. Если человек Средневековья или традиционного общества столкнулся бы при определенных обстоятельствах с бесом, чертом, демоном и рассказал бы об этом, это не вызвало бы у окружающих сомнений в его умственной полноценности, они лишь зафиксировали бы (относительную) редкость таких явлений наряду с другими редкими историями — такими как отыскание клада или неожиданно холодное лето. В обществе Модерна аналогичный рассказ является самым простым способом попасть в психиатрическую клинику. Социальный логос определяет границы разумного и безумного, а работа режима бессознательного по программе антитезы, разводящей одно и другое в операции противопоставления, оппозиции, столкновения, всегда одна и та же.
ПЛЕОНАЗМ И ЗАКОН ТОЖДЕСТВА
Второй риторической фигурой, также имеющей прямой аналог в логике, является плеоназм, двукратное или многократное повторение одного и того же понятия, слова или определения без кажущейся нужды. Близким к плеоназму является французский термин «la redondance», означающий настырное подчеркивание какого-то и так очевидного момента высказывания. Например, выражения типа «я спускаюсь вниз», «я поднимаюсь наверх» (хотя невозможно себе представить, как можно спускаться наверх или подниматься вниз) или описания природы вроде «небо было черным, мрачным и беспросветным, без единого светлого пятна, чернильным и т. д.» являются стилистическими плеоназмами.
В риторике плеоназм служит для подчеркивания, акцентирования какого-то свойства или состояния, привлечения к нему повышенного внимания. Это типичное свойство диурна, который постоянно навязывает миру свою волю, подчеркивает ее, акцентируя тем самым тождество себя с собой. В героическом режиме субъект сам себя консолидирует, а мир вокруг расчленяет. В плеоназме мы видим этот жест консолидации, проявляющийся в жестком настаивании на самотождестве. В антитезе происходит расщепление внешнего мира.
Легко опознать в плеоназме и redondance первый закон логики — закон тождества. А=А и есть плеоназм, redondance, излишняя, с точки зрения обыденного сознания, операция — тавтология. Но именно она лежит в основе логики. И снова мы видим, как логические операции прорастают из режима диурна и героической группы мифов.
Если продлить этот жест плеоназма дальше определенной меры, мы увидим параноидальную одержимость собственной волей, утверждающей себя в ситуациях, которые являются неуместными с точки зрения социальных конвенций. То, что предшествует логосу и подготавливает его появление, может при определенных обстоятельствах вступать с ним в конфликт. В психиатрии это известно как навязчивые состояния, когда больной повторяет одни и те же слова или ему кажется, что он оказывается постоянно в одних и тех же ситуациях. Иногда больной не способен сдвинуться с какой-то мысли, точки внимания или действия, потому что ему мерещится, что он недостаточно настоял на нем, недостаточно подчеркнул свою волю. Поэтому он повторяет все снова и снова. В самых крайних случаях это приводит к каталепсии и бесконечному повторению одним и тех же психомоторных операций, которые пациент не способен прервать.
ГИПЕРБОЛА И ЕЕ НЕЛОГИЧНОСТЬ
В случае другой риторической фигуры, гиперболы, мы встречаемся с интересной ситуацией, когда явно диурническому качеству — стремлению увеличивать масштаб предмета, явления, процесса, состояния — в логических законах нет прямого соответствия. Здесь мы видим наглядно, что не все содержание режима диурна переходит в логос и в диурническом мифеостается нечто, составляющее его отличие от развернутого им же самим логоса.
Гиперболизация — это классический ход героического мифа. Отсюда рождаются фигуры великанов, драконов, людоедов, титанов, циклопов, гигантских фигур и строений — от египетских пирамид, древних храмов и мегалитических конструкций до библейской истории про Вавилонскую башню. Режим диурна видит все гигантским и отчетливым. Так, младенец, оказавшийся в вертикальном положении, сопоставляет себя с предметами взрослого мира и оценивает их превосходство в масштабе. Гиганты — это родители и взрослые, которых он видит, начиная ходить и соизмеряя свое тело с величиной окружающих предметов. Малыш стремится расти и поэтому отождествляет себя с великанами (взрослыми), которых одновременно немного боится. Кроме этого рационального объяснения есть общемифологический настрой героизма, проявляющийся в тяготении к гипертрофированно большим образам, которые развертываются в ходе различных фаз постурального рефлекса. Большие предметы отчетливо различаются днем, и по мере наступления утра неизвестные смутные силуэты ночи приобретают размерность, всегда превышающую неопределенность сумрака. Гиперболизация в риторике отражает этот фундаментальный жест антропологического траекта.
ЭВФЕМИЗМ КАК ФЕМИНОИДНЫЙ ЯЗЫК
Режим ноктюрна значительно удаляется от параллелей с логикой. Здесь царствует фигура эвфемизма, представляющая дистинкции, абсолютизированные в логосе как смягченные, смазанные и в конечном счете не существующие. Эвфемизм наиболее последователен в нарушении главных законов логики. В режиме эвфемизма А совершенно не равно А и, более того, тяготеет к тому, чтобы представить себя как не-А, но в то же время жестко отказывается признать себя и не-А, подрывая первые три закона логики, не оставляя от них камня на камне. Про четвертый закон и говорить не приходится, так как ноктюрн в качестве достаточного основания предлагает самого себя со всей своей клейкой материнской субстанциальностью, что выглядит чрезвычайно убедительно, особенно с риторической точки зрения, но совершенно алогично при строго рациональном анализе.
Увертывающийся от любой определенности ноктюрн заведомо противостоит любым попыткам логики «вызвать его на суд», поэтому в патриархальном (логическом) обществе женщины как номинальные носители феминоидности и ноктюрна считались не самостоятельными субъектами права, а имуществом мужских членов семьи. Сами же они от всякой ответственности укрывались в норах семейных хозяйств — дворцов или хижин, где ткали нити своей «женской» псевдологики — мифологическое полотно ноктюрна.
АНТИЛОГИЯ
Антилогия как риторическая фигура означает противоречие автора самому себе, то есть употребление в одном и том же тексте высказываний, опровергающих друг друга. Представляя собой с логической точки зрения дисфункцию корректного процесса рациональной деятельности, в структуре мифа и в практике риторики она указывает на работу более глубоких и стройных, но тайных механизмов. По Дюрану, антилогия есть смягченная форма эвфемизма, которая вводит взаимоисключающие суждения, не пытаясь противопоставить их, уводя от диайретического фанатизма диурна. Это свойство мистического ноктюрна. Антилогия еще не называет черное белым, но подводит к тому, что черное и белое не конфликтуют друг с другом.
Обнаружение противоречия в суждениях служит аргументом против того, кто его допускает, в случае рациональных споров, научных полемик и т. д. Но в других случаях — как, например, в практике ораторского искусства или в красноречии софистов — это может быть не просто важным приемом убеждения, но и обращением к бессознательным структурам аудитории. На антилогию откликается определенный сегмент коллективного бессознательного, который принципиально основан на эвфемизме. И этот сегмент — мистический ноктюрн — отчетливо считывает заложенную в антилогии весть, укрепляющую и подтверждающую наличествующую в глубине ноктюрна убежденность в том, что «А не равно А и есть одновременно не-А, но никогда не только не-А, но и все же А».
Это ярко прослеживается в юморе и иронии, которые развиты гораздо больше у этносов и культур с ноктюрническими чертами. Смех тогда вызывает не тот, кто сбился на антилогию с ясной колеи логического суждения, но, напротив, именно носители логического суждения и само логическое суждение, «глупо» настаивающие на такой очевидной для режима мистического ноктюрна «бессмыслице», как А=А.
КАТАХРЕЗА
Еще одной формой проявления мистического ноктюрна в речи и в риторических фигурах является катахреза — неправильное употребление словосочетаний и определений, что приравнивается в определенных случаях к стилистической ошибке или дефекту речи. Катахреза означает в первую очередь логическую несогласованность, нарушение грамматических правил в той мере, в которой они отражают законы логики. В латинской риторике этот термин передавался словом abusio, то есть «использование (слова, формы) в ненадлежащих целях». Принцип катахрезы в том, чтобы использовать слова в ненадлежащем значении. Такая стратегия есть мягкая атака на первый закон логики. Катахреза в речи рассматривается логосом как сбой, а мифосом — как следующее высказывание: «Не обольщайтесь тем, что А похоже на А, это не совсем А, но не совсем и не-А». Как и во всей диалектике ноктюрна, здесь ничего не утверждается прямо, никто не нападает на логос, не выставляет ему ультиматума. Катахреза действует тоньше: говорящий готов признать свою вину, согласен с тем, что он ошибся и неправильно употребил понятие, слово, словосочетание. Он готов к тому, чтобы понести «заслуженное наказание», но то, что он сделал, он сделал, и сделал это специально, и сделает еще раз (и не один). Ночь проступает сквозь день, не отрицая его, не опровергая его, не сражаясь с ним; ночь тихо пропитывает собой день, делая его все более и более сумрачным, все более и более похожим на вечер. Именно наличие четкой структуры сбоя делает катахрезу не просто случайной ошибкой, но фигурой риторики, которая в определенный момент активирует у слушателей режим ночи.
С психологической точки зрения катахреза может применяться для подчеркивания дистанции говорящего от смысловой логической цепочки высказывания; либо как прямое обращение к массиву косноязычия (которое обязательно наличествует в структуре бессознательного аудитории), пробуждающее в нем симпатию по принципу сходства; либо как демонстрация смирения говорящего перед потоком речи, который льется сам собой и с которым субъект ничего не может поделать (тем самым он дает знать о своей размытости, шизофренности, глишроидности).
ЛИТОТА
Классическим для мистического ноктюрна является риторический троп, называемый литотой. Литота может рассматриваться и как разновидность эвфемизма, и как частный случай метонимии: это такая фигура речи, которая занижает масштаб того, о чем ведется повествование; это гипербола наоборот. Иногда тот же прием называется мейозисом, то есть, в переводе с греческого, «уменьшением».
Режим мистического ноктюрна тяготеет к преуменьшению, миниатюризации всего, что попадает в сферу его действия. Целое сужается до части, серьезное — до пустякового, значительное — до малозначимой детали.
В риторике литота может использоваться в таких устойчивых выражениях, как «неплохо» вместо «хорошо». Это не отрицание отрицания, это уход от однозначной квалификации чего-то как «хорошего», чтобы передать это же значение, но только не прямо, а исподтишка, как бы нерешительно, с готовностью ускользнуть в любой момент от ответа и с занижением того, что представляется «хорошим», но описывается всего лишь как «неплохое». Мы настолько привыкли к литотам в обыденной речи, что не замечаем их и не придаем им значения, тогда как на уровне бессознательного использование литот считывается вполне однозначно и включает режим мистического ноктюрна (эвфемизма).
Литота есть маршрут в мифологический мир, населенный карликами, гномами, цвергами, эльфами, гомункулами, микросуществами, а в терминах научной и гигиенической мифологии — микробами, бациллами, вирусами. Занижая масштаб вещи или явления, воображение переводит его из режима дня в режим ночи, из режима мускулиноидности в режим феминоидности и тем самым справляется с ним, размывает его границы, помещает в себя то, что может представлять собой угрозу или повлечь ответственность. Диурн через гиперболу раздувает фигуры и образы, делая мир гигантским (отсюда циклопические сооружения, мегалиты, храмы, дворцы, статуи, пирамиды, высокие здания, ворота, арки, порталы, стелы, колонны, курганы, замки и т. д.). Мистический ноктюрн через литоты превращает вещи мира в игрушки, в крохотные предметы или существа, которые можно спрятать в шкатулку, карман, за пазуху и тем самым приручить их, сделать интимными и безопасными. Война превращается в сражение шахматных фигурок, которые можно в любой момент сложить в коробку.
Литоты в риторике соответствуют жанру миниатюры в живописи. Особенно ярким примером здесь являются традиционные китайские пейзажи, которые сводят бескрайний космос к нескольким легким росчеркам пера на небольшом листе бумаги и создают его полный иконографический эквивалент, усмиряя мир, ставя его — в форме миниатюрной голограммы — под мягкую власть художника. Той же цели служат тибетские мандалы или христианские иконы.
В литоте мистический ноктюрн призывает к тому, чтобы свернуться калачиком, съежиться, сжаться, и это проецируется на тех, кто внимает оратору и расшифровывает послание на уровне бессознательного.
ГИПОТИПОЗ
Нам осталось рассмотреть риторические фигуры, которые можно отнести к режиму драматического ноктюрна. Дюран относит к ним в первую очередь гипотипоз (от греческого ύποτύπωσις — ύπο, «под», и tupoz, «тип» — «то, что дает видеть», «картина»), иначе называемый «фигурой присутствия». Смысл этого риторического приема состоит в том, что он описывает события прошлого как то, что происходит в настоящем, давая мельчайшие подробности, представляя текст как наглядные и живые картины, создавая у слушателей полную иллюзию того, что он сам является свидетелем описываемых событий.
С помощью гипотипоза время подвергается эвфемизации через проекцию прошлого в настоящее. Но может существовать и гипотипоз будущего — это относится к разряду утопий или пророчеств о грядущем.
Мы видим здесь классический пример мифа о вечном возвращении, в котором время относительно укрощается за счет того, что его смертоносная стихия вводится в рамки ритмических повторений. Способность ярко описать картины прошлого (иногда будущего) в настоящем создает впечатление снятия времени, его подчинения воображению. Но в отличие от снятия времени через мгновенный опыт вечности (опыт молнии), как в диурне, здесь это осуществляется через демонстрацию его подчиненности мастерству рассказчика. В некотором смысле вся история есть гипотипоз, так как она повествует о прошлом в настоящем, что призвано продемонстрировать владение настоящим ключами к прошлому.
Гипотипоз как режим деятельности бессознательного призван нарушить синтагматическую структуру логического построения, то есть он метит в нарушение четвертого закона логики — закона о достаточном основании. Силлогизм всегда строится как синтагма, но синтагма, представленная вне времени, где время отсутствует в принципе, а части силлогизма следуют друг за другом логически («топически», то есть пространственно — отсюда «Топика»73 Аристотеля), а не темпорально.
Гипотипоз помещает синтагму во время — от прошлого (описываемые события) к настоящему (момент рассказа, написания исторического текста) — и тем самым меняет вертикальную иерархическую структуру силлогизма на горизонтальную и развертывающуюся темпорально и тут же снимает созданное таким образом напряжение реактуализацией прошлого.
Важно отметить, что гипотипоз как жест драматического ноктюрна первичнее идеи времени. Идея времени не предшествует идее истории и повествованию о ней, но вытекает из истории. Превращение логического последования во временное — настолько фундаментальный разрыв в структуре логоса (который рождается, напомним, из режима диурна, борющегося со временем), что он не может быть осуществлен иначе как через его мгновенное опровержение, исправление, эвфемизацию. Гипотипоз вводит время в синтагму и тут же пытается излечить причиненную травму демонстрацией обратимости произошедшего. Гипотипоз частично восстанавливает утраченную вневременность логоса, но частично и не восстанавливает. Сглаживая боль времени, признанного существующим, гипотипоз все же оставляет ему поле для существования. Тем самым, время, в том числе линейное время и эвфемизированное линейное время (прогресс), рождается внутри «мифа о вечном возвращении», то есть внутри гипотипоза.
ЭНАЛЛАГА
В рамках гипотипоза как фундаментального жеста драматического ноктюрна можно выделить подсобный риторический ход — эналлагу (от греческого ἐναλλαγή — «замена»), то есть замену одной формы высказывания другой, подчас некорректной с точки зрения грамматической логики, но близкой, тем не менее, по содержанию или смыслу. Пример эналлаги у Шекспира в «Генри IV» (2 часть)74 — «Is there not wars? Is there not employment?» Шекспир идет здесь на нарушение грамматических правил, так как корректно было бы сказать не «Is there not wars», но «Are there not wars?». Но автору важно сохранить структурный параллелизм между двумя фразами, в жертву чему и приносятся правила спряжения глагола «to be» или правила употребления множественного числа существительных.
Эналлага может состоять в некорректной грамматически смене обращения с «вы» на «ты», переносе значения с одного понятия на другое и т. д. Например, часто можно услышать привычные эналлаги в разговорной речи: «У меня состоялся важный ужин», что подразумевает «ужин с важным человеком» или «ужин, на котором были обсуждены важные дела», и т. д.
Дюран считает, что с помощью эналлаги бессознательное обеспечивает саму возможность гипотипоза, смешивая свойства формальных антитез, чтобы подготовить операцию по перестановке порядка времен.
ГИПЕРБАТ
Сходную подсобную функцию выполняет гипербат (ØperbatÒj — от греческого «перешагивание»). На латыни это звучит как «dislocatio» («помещение между»). Эта стилистическая фигура вставляет между пишущимися или произносимыми обычно вместе словами дополнительное слово или несколько слов, что, как правило, сопровождается сменой интонации или усилением какой-то части выражения, в обычном случае смазанной. Частным случаем гипербата является необычный порядок расстановки частей речи в предложении. Например, у Пушкина: «Тебя с успокоенных гонит небес» — сказуемое «гонит» вставлено в формулу «с успокоенных небес», которая должна была бы писаться без разрывов.
Гипербат служит режиму драматического ноктюрна тем, что вносит между двумя неразрывно прилегающими друг ко другу членами дополнительный элемент, акцентируя тем самым паузу, прерывность, что соответствует введению темпоральности, но тут же эту темпоральность и снимает, когда подоспевает — после интеркаляции, угрожающей разрушить смысл, — отложенная часть устойчивого или смыслового сочетания. Иными словами, гипербат выполняет технически и структурно ту же функцию, что и гипотипоз. В некоторых языках (например, в немецком в отношении составных сказуемых, часть которых ставится в конце предложения) гипербат — явление привычное и грамматически закрепленное правилами.
МИФОКРИТИКА
Изучение риторики и стилистики как специфического языка мифов подводит нас к особому направлению, которое Дюран назвал «мифокритикой». Прелюдией к созданию полноценной мифокритики была структурная лингвистика и структуралистская философия, которая предложила структурный анализ нарратива, повествования (Леви-Стросс), то есть прочтение синтагматически выстроенного текста как комбинации ограниченного количества константных элементов. Леви-Стросс в его фундаментальной полемике с Леви-Брюлем стремился доказать, что деление на «пралогику» («мысль дикаря») и «логику» («мысль цивилизованного человека»), на чем настаивал Леви-Брюль, несостоятельно. Но так как в «примитивных культурах» существовали только нарративы, то для доказательства тождества структуры мышления всех человеческих обществ Леви-Стросс обратился к скрупулезному анализу мифологических рассказов, то есть собственно нарративов. Так, Леви-Стросс на основании анализа нарратива создал свою «мифологику». Вслед за Леви-Строссом к этому же методу обратились его последователи, в частности Мишель Фуко, и предложили применить метод Леви-Стросса к тому, что можно назвать нарративом уже в развитых культурах. Понятие нарратива расширилось, распространившись вначале на литературу, потом на искусство, а затем и на философию, науку, религию и т. д. Так, продолжая защищать равенство людей и человеческих обществ от имплицитного гносеологического расизма западной цивилизации (претендующей на универсализм), структуралисты сосредоточили свое внимание на вычленении мифа в культуре самого Запада, в том числе и современного. Этот миф был найден в широко понятом нарративе, что повлекло за собой сосредоточение на исследовании стиля текста — включая научный, политический, философский и т. д. Но особенности стиля приводили напрямую к риторике и ее структурам, построенным, как мы убедились, на отклонении от логики, ее законов и основанных на них правил классической грамматики. Так от обороны и защиты мифа от экспансии научного логоса структуралисты перешли к нападению на позиции самого логоса, которые казались еще совсем недавно незыблемыми.
Последним логическим аккордом этой деятельности стала мифокритика Жильбера Дюрана, который установил прямую связь между 1) риторикой, 2) структурой мифа, 3) режимами коллективного бессознательного, что позволило систематизировать концептуальный и методологический инструментарий, разработке которого положили начало труды Клода Леви-Стросса, Жоржа Дюмезиля, Гастона Башляра и т. д. Мифокритика — это анализ литературы и других произведений искусства с позиции структуры мифа и его режимов с учетом тех параллелей между стилистическими (риторическими) фигурами, которые Дюран описал в своем главном труде «Антропологические структуры воображения»75.
МИФОАНАЛИЗ
Если мифокритика, по мысли Дюрана, развертывается в сфере литературы и искусства, то более общее применение метода выделения режимов бессознательного как фундаментальных факторов человеческой жизни и деятельности, называемое Дюраном мифоанализом, то есть анализом логоса с позиций мифоса76, может применяться в исследованиях самых широких социальных сфер.
Мифоанализ представляет собой ось социологии воображения. Данный метод распространяет модель структурного изучения имажинэра на общество, идеологию, политику, религию, гендер, философию, культуру и т. д. С позиций мифоанализа все есть миф, стройный в самом себе и проявляющий в разных ситуациях и на разных уровнях разные аспекты своего содержания. Таким образом, мифоанализ обобщает исследование структур коллективного сознания (как продукт режима диурна) и погружение в пласты психики (в коллективное бессознательное, где встречаются все три группы мифов — диурн, мистический ноктюрн и драматический ноктюрн) в сводной теории, учитывающей все стороны и все режимы имажинэра — и те, которые поднимаются в «числитель» (логос), и те, которые остаются в знаменателе (мифос).
Контрольные вопросы
1. Как соотносятся риторические фигуры с режимами воображения?
2. Назовите три риторические фигуры, соответствующие режиму диурна.
3. Назовите три риторические фигуры, соответствующие режиму ноктюрна.
РЕЗЮМЕ
Повторим кратко основные положения данного раздела.
1. В ходе многолетней работы междисциплинарного семинара «Эранос», сложившегося из единомышленников Карла Густава Юнга, были разработаны предпосылки для создания полноценной социологии воображения. Участники кружка «Эранос» подготовили теоретическую базу для того, чтобы рассмотреть основные моменты западноевропейской культуры не со стороны логоса, как это обычно делалось, но со стороны мифоса — со стороны бессознательного, воображения, mundus imaginalis.
2. Участник семинара «Эранос» и продолжатель данной научной традиции Жильбер Дюран выстроил на основании трудов крупнейших европейских интеллектуалов и гуманистов ХХ столетия сводную социологическую теорию. В центре этой теории лежит идея антропологических структур воображения.
3. В основании теории Дюрана находится концепция о первичности имажинэра (имажинэр — это одновременно воображение, воображаемое и сам воображающий). Имажинэр, который считался в рациональной традиции промежуточным и несамодостаточным явлением, расположенным между внешней реальностью, и познающим субъектом, в этой модели берется за точку отсчета и рассматривается как базовая инстанция, конституирующая и внешний мир, и познающего субъекта в ходе различных траекторий своего развертывания. Имажинэр — синоним коллективного бессознательного и области мифоса.
4. Дюран вводит концепцию антропологического траекта, под которым понимается инстанция имажинэра как реальности, предшествующей появлению объекта и субъекта. Траект есть все содержание бытия, по ту сторону траекта находятся только смерть и пустое время, которое приближает траект к смерти. В диалоге со смертью имажинэр заполняет время содержанием. Это и есть жизнь, культура, мир, общество.
5. Имажинэр, по Дюрану, состоит из двух режимов и трех групп мифов. Два режима — диурн (дневной режим) и ноктюрн (ночной режим). Три группы мифов — героические, мистические и драматические.
6. Героический миф жестко противоставляет имажинэр (самого себя) смерти и времени и ведет с ним яростную борьбу. Это приводит к фиксации в цепочке особых операций, сюжетов и символов, связаных с разделением (диайрезис) и войной. Среди доминантных рефлексов младенца героический режим диурна соответствует рефлексу вставания (постуральный рефлекс). Героический режим диурна воплощается в архетипе воина и царя и отражает структуры мужского начала (мускулиноид).
7. Мифы мистического ноктюрна основаны на эвфемизме и трактуют смерть как не-смерть (жизнь), а время — как благо и покой. Они связаны с дигестивным рефлексом и памятью о внутриутробном состоянии. Мистический ноктюрн затушевывает остроту оппозиций между имажинэром и его антитезой (смертью), смягчает острые углы, соединяет вещи и явления внешнего мира в склейке «мистического единства». Это феминоидный режим. Обобщающей фигурой и символом мистического ноктюрна является образ Великой Матери.
8. Мифы драматического ноктюрна эвфемизируют оппозиции не столь радикально, как в ноктюрне мистическом, включая их в цепочку переменных циклических и ритмических фаз, где попеременно то смерть переходит в жизнь, то жизнь в смерть. Этому соответствует копулятивный рефлекс. Данная группа мифов связана с циклом, движением, вращением и олицетворяется женскими божествами любви и лунных фаз.
9. Теория имажинэра Дюрана и выделение в нем трех групп мифов и двух режимов дает нам методологический научный аппарат для интерпретации логоса (в том числе социального логоса) через мифос. Так, сам логос в такой картине обнаруживается как продукт развертывания диайретического мифа диурна. На основании данной методологии мы получаем возможность фундаментальной реинтерпретации социологической науки с позиции социологии воображения.
10. Фигуры риторики отражают основные свойства режимов воображения и могут быть взяты в качестве языка мифоса, что позволяет еще более точно структурировать научный аппарат интерпретации логоса через мифос и закладывает основы мифокритики и мифоанализа как нового научного метода социологии.
1 Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. СПб.: АНО; Изд-во СПбГУ, 2008.
2 Экстаз (ἔκστασις) по-гречески дословно — «выхождение из себя». Неологизм, предложенный Элиаде, «энтаз», «ἔνστασις», означает дословно «вхождение внутрь себя, вглубь своего я».
3 Элиаде М. Священное и мирское. М., 1995.
4 Элиаде М. Оккультизм, колдовство и моды в культуре. Киев, 2002.
5 Элиаде М. Священные тексты народов мира. М., 1998; Он же. Миф о вечном возвращении. М., 2000; Он же. История веры и религиозных идей. М., 2001; Он же. Аспекты мифа. М., 2005; Он же. Очерки сравнительного религиоведения. М., 2000; Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований. М.; СПб., 1997.
6 Элиаде М. Космос и история. М., 1987.
7 Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М., 2002.
8 Корбен А. Световой человек в иранском суфизме // Волшебная Гора. № 8. М., 2002; Он же. Свет Славы и Святой Грааль. М.: Волшебная Гора, 2006.
9 Corbin H. L’Imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn Arabi. 2 еd. Р.: Flammarion, 1977.
10 См.: Corbin H. Temps cyclique et gnose ismaélienne. Р., 1982; Idem. Corps spirituel et Terre céleste: de L’Iran mazdéen à l’Iran shî’ite. Р., 1979; Idem. L’homme de lumière dans le soufisme iranien. Р., 1971.
11 Sohravardi Shihaboddin Yahya. L’Archange empourpre. P., 1976. Фрагмент текста Сохраварди с комментариями А. Корбена на русском опубликован в «Конце света», альманахе по истории религий. М., 1998.
12 Там же.
13 Кереньи К.Д. Прообраз неиссякаемой жизни. М.: Ладомир, 2007; Он же. Элевсин. М.: Рефл-бук, 2000.
14 Radin P. Social Anthropology. New York, 1932; Idem. The World of Primitive Man. The Life of Science Library. № 26. N.Y., 1953.
15 Radin P. Monotheism among Primitive Peoples. London, 1924.
16 Радин П. Трикстер. СПб.: Евразия, 1999.
17 Бубер М. Хасидские предания. Первые наставники / Пер. с иврита. М., 1997.
18 Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. М.; Иерусалим, 2004.
19 Scholem G. On the Kabbalah and its Symbolism. New York: Schocken Books, 1969; Idem. Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition. New York: JTS Press, 1965.
20 Scholem G. The Messianic Idea in Judaism and Other Essays. New York: Schocken Books, 1971.
21 Scholem G. Sabbatei Sevi: The Mystical Messiah 1626–1676. Princeton: Princeton University Press, 1973.
22 Portmann A. Das Tier als soziales Wesen. Frankfurt, 1978.
23 Pauli W., Jung C.G. Ein Briefwechsel 1932–1958. Berlin: Springer Verlag, 1992.
24 Bachelard G. Le nouvel èsprit scientifique. Paris, 1934. См. также: Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987.
25 Bachelard G. La Psychanalyse du feu. Gallimard, 1949.
26 Башляр Г. Вода и грезы. М., 1998.
27 Башляр Г. Грезы о воздухе. М.,1999.
28 Bachelard G. La Terre et les rêveries du repos: essai sur les images de l’intimité. J. Corti, 1948.
29 Bachelard G. La Terre et les rêveries de la volonté: essai sur l’imagination de la matière. J. Corti, 1947.
30 Dumezil G. Mythe et épopée. I, II, III. Paris: Gallimard, 1995.
31 Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.
32 Dumezil G. Heur et malheur du guerrier: aspects mythiques de la fonction guerrière chez les Indo-Européens. Flammarion, 1996; Idem. Loki. Paris: Flammarion, 1995; Idem. Esquisses de mythologie: Apollon sonore — La Courtisane et les seigneurs colorés — L’Oubli de l’homme et l’honneur des dieux — Le Roman des jumeaux. Paris: Gallimard, 2003.
33 Levi-Strauss C. Les Structures élémentaires de la parenté. P., 1949.
34 Durand G. Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris, 1960.
35 Основные труды: Durand G. Beaux-arts et archétypes. La religion de l’art. Paris: PUF, 1989; Idem. Champs de l’imaginaire. Grenoble: ELLUG, 1996; Idem. Figures mythiques et visages de l’oeuvre: de la mythocritique à la mythanalyse. Paris: Dunod, 1992; Idem. L’imaginaire. Essai sur les sciences et la philosophie de l’image. Paris: Hatier (Optiques), 1994; Idem. L’imagination symbolique. Paris: PUF, 1964; Idem. Introduction à la mythodologie. Paris: Albin Michel, 1996; Idem. La Foi du cordonnier. Paris: Denoël, 1984; Idem. L’Âme tigrée. Paris: Denoël, 1980; Idem. Le Décor mythique de la Chartreuse de Parme. Paris: José Corti, 1961; Idem. Les Mythes fondateurs de la franc-maçonnerie. Paris: Dervy, 2002; Idem. Sciences de l’homme et tradition. Le nouvel esprit anthropologique. Paris: Albin Michel, 1975; Durand Y. Une technique d’étude de l’imaginaire. Paris: L’Harmattan, 2005.
36 Durand Y. Une technique d’étude de l’imaginaire. Paris: L’Harmattan, 2005.
37 Электронный адрес издания: http://www.lescahiers.eu
38 Здесь и далее мы опираемся в изложении теорий Жильбера Дюрана приоритетно на его главный труд (Durand G. Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, op. cit.) с учетом развития отдельных идей и положений в других работах. Чтобы не перегружать текст обилием сносок, мы в дальнейшем будем избегать прямого цитирования текста, передавая только основные положения. Те, кто заинтересуется деталями, могут обратиться к оригиналу.
39 Платон. Собр. соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1.
40 Сартр Ж.П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. СПб.: Наука, 2001.
41 Аналогичную операцию по постановке под вопрос онтологической обоснованности пары субъект–объект совершенно независимо и исходя из других предпосылок проделал в своей философии великий немецкий философ Мартин Хайдеггер. Действуя в совершенно ином — чисто философском — контексте, он пришел к выявлению фундаментальной категории Dasein, которую он также постулировал как первичную по отношению к объекту (внешнему миру) и субъекту (разуму). Между социологией воображения Дюрана и фундаменталь-онтологией Хайдеггера можно проследить множество параллелей, хотя напрямую они ни методологически, ни терминологически не пересекаются.
42 У современного поэта и культуролога Евгения Головина есть такие строки, описывающие сущность имажинэра:
Кто-то идет рядом с нами, и в походке виден ум —
Вместо этой дряни на плечах аквариум.
43 В одной из своих лекций «Тайная мать» (см.: Дугин А. Философия традиционализма. М., 2002. С. 590), посвященной в значительной степени идеям Корбена и мистическим теориям Сохраварди (то есть сходной тематике), я дал такое определение человеку: «Человек — это неточное движение возможного». Я имел в виду практически то же самое, что и Дюран, выдвинувший теорию антропологического траекта. Мы оба, по странному совпадению, отталкивались от сходных предпосылок: не будучи в то время знаком с творчеством Дюрана, я давал свое определение человека, как раз рассматривая mundus imaginalis Корбена — учителя, друга и единомышленника Дюрана.
44 См.: Башляр Г. Вода и грезы. М., 1998.
45 Жильбер Дюран называет их также структурными полюсами или схемами.
46 Бехтерев В.М. Основы общей рефлексологии. Петербург, 1923.
47 Теологические и культурные аспекты этого я анализировал в работе «Философия традиционализма» в разделе «Опыт разрыва. Боль и число». Указ. соч.
48 См.: Башляр Г. Грезы о воздухе. М., 1999.
49 См.: Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев. Сухуми, 1988.
50 Рассмотренная в этом ключе детская поэма Корнея Чуковского «Мойдодыр» и заложенная в ней коллизия между чистотой и грязью могут быть интерпретированы именно в этом ключе — как спор двух режимов бессознательного, чистоплотного диурна и неопрятного ноктюрна. Обсессия Чуковского этой психоаналитической проблематикой проявляется в том, что точно такой же теме посвящена другая известная его поэма — «Федорино горе». Гипертрофированное значение умывания и мытья посуды в этих произведениях отражает фундаментальность соответствующего символизма для структуры имажинэра. В целом детская поэзия Чуковского изобилует цепочками символов и символических сюжетов, имеющих громадное психоаналитическое содержание и резонирующих с рядом мистических и мифологических традиций. См.: Чуковский К.И. Сказки. М., 2006.
51 Этот факт установил последователь и однофамилец Дюрана, психолог и психиатр Ив Дюран, в многолетних своих экспериментах (длившихся более тридцати лет) по выявлению структур воображения через тест АТ.9 (Архетипический тест из девяти компонентов). См.: Durand Y. Une technique d’étude de l’imaginaire. Paris: L’Harmattan, 2005.
52 Гёте И.В. Фауст. М., 1982.
53 См.: Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 1986; Он же. Морфология сказки. М.: Лабиринт, 1998; а также: Греймас А.Ж. Размышления об актантных моделях // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1996. № 1; Он же. Структурная семантика. М., 2008.
54 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Указ. соч.
55 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Былинная история: Работы разных лет. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1997; Юдин Ю.И. Русская бытовая сказка. М.: Академия, 1998.
56 Стокгольмский синдром — психологическое явление, когда заложники добровольно переходят на сторону террористов, которые их захватили, и активно действуют заодно с ними. В основе его лежит психологическое стремление преодолеть невыносимое состояние полной беспомощности и зависимости.
57 Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. Указ. соч.
58 Термин «глишроид» (от греческого γλίσχρος — «клейкий», «вязкий») ввел Эдуард Пишон (1908–1940) — французский грамматик и психоаналитик.
59 Ибн-Араби. Аль-Футухат аль-маккиййа (Мекканские откровения). Каир, 1859. Т. 1.
60 Бальзак О. де. Серафита. М., 1996.
61 Более подробно эта тема будет разобрана в разделе «Социология гендера».
62 См.: Конец Света: Альманах по истории религии. М., 1998.
63 Гесиод. Теогония // Эллинские поэты. М., 1963.
64 Сходный сюжет мы встречаем в поэме Виктора Гюго (1802–1885) «Конец сатаны». См.: Hugo V. La Fin de Satan. P., 1886.
65 Gide A. Le Prométée mal enchainé. P., 1899.
66 Durand G. Champs de l’imaginaire. Grenoble: ELLUG, 1996. См.: гл. Perennite, Derivations, et usure du mythe. P. 81–109.
67 В первую очередь на это обратили внимание структуралисты (К. Леви-Стросс, П. Рикёр, М. Фуко) и немецкие консервативные революционеры (О. Шпенглер, А. Мюллер ван ден Брук, К. Шмитт, М. Хайдеггер и т. д.). Позже — философы Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе) и постмодернисты (Р. Барт, Ж. Делёз, Э. Левинас, Ф. Лиотар, Ф. Гваттари, Ж. Бодрийяр и т. д.). В социологической науке наиболее последовательно проводил критику прогресса Питирим Сорокин. См.: Сорокин П. Социальная и культурная динамика. М., 2006.
68 Латинское слово proles, дословно — «производитель детей», «пролетарий», — насмешливое название, данное аристократией черни, неимущим слоям Рима, способным только «производить детей».
69 Генон Р. Символы священной науки. М., 1997.
70 Подробнее эти вопросы будут рассмотрены в последующих разделах, посвященных социологии власти и социологии религии.
71 Durand G. Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris, 1960. Р. 485–487.
72 Дюран цитирует Volmat R. L’art psychopatologique. Paris, 1956.
73 Аристотель. Топика // Аристотель. Собр. соч.: В 4 т. М., 1978. Т. 2.
74 Shakespeare W. King Henry IV. Kindle Edition, 2007. Part 2.
75 Durand G. Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Op. cit.
76 Durand G. Figures mythiques et visages de l’oeuvre: de la mythocritique à la mythanalyse. Paris: Dunod, 1992.
РАЗДЕЛ 3
СОЦИУМ В ИСТОРИИ. РАЗНОВИДНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
ГЛАВА 3.1
ПРЕМОДЕРН–МОДЕРН–ПОСТМОДЕРН: СТРУКТУРА ИСТОРИЧЕСКОЙ СИНТАГМЫ ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА
ВРЕМЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТ
Социологи-классики (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, П. Сорокин, Дж.Г. Мид и другие) относят время к социальным феноменам1. Это значит, что различные типы обществ имеют разные модели времени, с которыми они оперируют. Открытое наукой Нового времени время как физическое свойство материального мира есть одна из разновидностей социального мифа, свойственного вполне конкретному обществу, вполне конкретным социальным условиям и включенного в общую логику социальных концептов времени. То есть «физическое линейное время» и методы его измерения тоже есть не что иное, как социальное явление.
С социологической точки зрения время есть функция от социальной парадигмы или социальный конструкт.
ПАРАДОКС ПОЗИЦИИ СОЦИОЛОГА
Здесь мы сталкиваемся с проблемой, общей для социологии: как социолог может изучать общество (взятое как нечто целое, как «тотальное явление», по М. Моссу), если сам он — продукт общества, полностью конституирован им и является его функцией? Точно так же выглядит вопрос применительно к проблеме времени: как можно изучать время, будучи погруженным в его поток (пусть не в механическом, а в социальном смысле)?
Здесь ставится вопрос об удвоении позиции социолога, который «может увидеть себя идущим по улице, только высунувшись из окна». Видимость парадокса не должна нас пугать. Корректный анализ социальных фактов и взаимодействий, адекватная социология всегда должны сопровождаться постоянной рефлексией о социальной идентичности самого социолога, который, изучая общество как «другое», как объект, должен осмыслять снова и снова свою собственную социальную структуру. Не в меньшей степени, чем к врачу (medico cura te ipsum2), к социологу относится императив: «Изучая общество, изучай самого себя!».
Поэтому Дюркгейм в качестве главного социологического метода предлагает компаративистику, то есть сравнительный анализ. Однако вопрос, что с чем сравнивать, остается самым главным — в этом секрет мастерства. Великие социологи сравнивают «то, что надо» «с тем, с чем надо» и, определяя «что» с «чем» сравнить, выстраивают свои гранд-теории. Обычные социологи либо следуют за классиками (что правильно), либо сравнивают не то и не с тем. Тогда они становятся плохими социологами, над которыми любил издеваться Питирим Сорокин3: они путаются в деталях, выдают банальности за «открытия», а невежество — за «критическое несогласие с великими».
СТАРТОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ СИНТАГМЕ
Изучение времени как социального конструкта надо начинать с каких-то стартовых представлений о социальной динамике. Возьмем для точки отсчета классическую схему типов обществ на исторической шкале (как базовую синтагму) и рассмотрим то, как разные социальные парадигмы выдвигают различные социальные конструкты времени и далее исследуют, как те комбинируются между собой, мутируют, реорганизуются и флуктуируют.
МОДЕРН КАК ТОЧКА ОТСЧЕТА
По состоянию научной эпистемы, которую в той или иной степени (имплицитно или эксплицитно) признает большинство ученых земного шара, человечество находится в периоде Нового времени. Это Новое время есть, в свою очередь, социальная парадигма, связанная с вполне конкретным типом общества — с «обществом современным», или «обществом Модерна». Сразу подчеркну: «современное общество» («modern society» — англ., «la societe moderne» — фр.) — это конструкция социальная и относится ко вполне определенному типу общества, в том числе и к тому, которое принадлежит прошлому и которое в чисто хронологическом смысле не является для нас «современным». В английском и французском языках есть термины «contemporary» (англ.), «contemporaire» (фр.), что означает «со-временный», «относящийся к настоящему времени», то есть принадлежащий к тому же хронологическому моменту, что и совокупность ныне здравствующих людей и живых существ. В отличие от «contemporary» «modern», «modernity» означает социологическую, а не хронологическую реальность, которая охватывает собой вариации той общественной системы, которая начала складываться в Западной Европе с XVI века и достигла своего расцвета и почти планетарной универсальности в ХХ веке. Модерн, «модернити» и есть Новое время. По своим основным параметрам период Нового времени все еще остается решающим и определяющим, конститутивным для социального самосознания, для «коллективного сознания» человечества (по меньшей мере номинально), хотя мы увидим дальше, что это обстоятельство меняется (и переосмысляется) на глазах4. И тем не менее для точки отсчета нужно выбрать именно Модерн, как поступает большинство ученых в сфере социальных и гуманитарных наук.
Мысля себя как часть Модерна, можно выстроить схематизацию социальных типов по синтагматической логике: от того, что было «до», к тому, что будет «после».
КОНЦЕПТ ПРЕМОДЕРНА И ЕГО ВРЕМЯ
Двигаясь по этому пути, мы легко получаем три элемента синтагмы, соответствующие трем изданиям социальных обобщений: Премодерн–Модерн–Постмодерн.
Премодерн описывает совокупность тех обществ, которые исторически (по крайней мере в реконструкциях самого Модерна) предшествовали наступлению Нового времени, но отличались от него по своим существенным характеристикам. Премодерн часто используется как синоним «традиционного общества». «Традиционное общество» мыслится в Модерне не только как нечто предшествующее «современному обществу» (обществу Модерна), но и как противоположное ему по основным качественным установкам и фундаментальным свойствам. «Традиционное общество» устроено так, чтобы как можно дольше (а если возможно, то и вообще никогда) не становиться «современным». Отсюда выдвижение на первый план «традиции» (от латинского «tradire» — «пере-давать» происходит и русское слово «предание»).
Традиция есть стремление к соответствию настоящего прошлому, которое оценивается как позитивное и образцовое. В традиционном обществе та единица, которая относится к будущему, видится (номинально) как прямое зеркальное отражение единицы, принадлежащей прошлому, то есть как ее повторение. Если «традиционное общество» и не может полностью избежать «нового», то по меньшей мере всячески стремится минимализировать эту новизну, уменьшить ее влияние и значение. Этой цели служат основные социальные институты Премодерна, одна из их главнейших задач которых — сдерживать время, противостоять времени, бороться со временем. Отсюда ценностные приоритеты постоянства, повторения, «вечного возвращения». Премодерн не только не является Модерном, но и не хочет им являться, он консервативен в силу сознательных ценностных установок. Традиционное общество выбирает прошлое в ущерб будущему, а с настоящим просто мирится, стремясь сделать его как можно более похожим на прошлое. Поэтому мы видим в Премодерне, в «традиционном обществе» заведомо отрицательное (или по меньшей мере подозрительное) отношение ко времени, к силам судьбы и рока. И хотя в этом определении и есть нюансы, которые мы рассмотрим позже, суть Премодерна в том, что он препятствует «новому».
МОДЕРН КАК АНТИТЕЗА ПРЕМОДЕРНУ
Модерн как социальная система устроен прямо противоположным образом. Он не только вырастает из Премодерна, он «снимает» его (в гегелевском смысле), преодолевает его, побеждает его. «Современное общество» относится к Новому времени именно потому, что «новое» оценивается здесь позитивно. Мы имеем дело с совершенно иным отношением ко времени: время, несущее в себе новизну, оценивается положительно и оптимистично. Отцы-основатели Модерна [Г. Галилей (1564–1642), Ф. Бэкон (1561–1626), Р. Декарт (1596–1650), И. Ньютон (1643–1727) и т. д.] видели в самом переходе от «традиционного общества» к «обществу современному» качественный рывок в новое социальное состояние, где начинают действовать и открываться новые законы и новые ценности — ценности накопления (знаний, товаров, методологий), развития, совершенствования (открытий, изобретений того, чего раньше не было), преобразований и т. д. Время Модерна мыслится как линейное, поступательное и позитивно нагруженное, то есть как прогресс.
Поэтому «современное общество» видит и понимает себя в постоянной динамике, оно исторично, диахронично, системно и синтагматично по своей природе. Это общество солидарно со временем и с новизной, оно мыслит себя и весь мир в поступательном движении, развитии, эволюции. Научные модели и теории, которые складываются в Новое время, суть производные от этого диахронического оптимизма, они им вдохновляются и его укрепляют все новыми и новыми открытиями.
Социальное время Модерна — это прогресс. Причем пребывание в таком социальном состоянии предопределяет отношение Модерна (и науки Модерна) к «традиционному обществу». Будучи сам по себе другим и в основных чертах прямо противоположным Модерну, Премодерн тем не менее видится тоже как нечто развивающееся (развивавшееся), хотя и не осознающееэтого развития, не принимающее его. Таким образом, то социальное время, в котором начали жить общества Модерна, апостериори распространило (экстраполировало) свои специфические темпоральные конструкты и на прошлое — более того, на всю историю человечества, «эволюцию видов» — у Ч. Дарвина (1809–1882), «социальную эволюцию» — у Спенсера и американских социологов или происхождение Вселенной — у современных физиков.
НАРАСТАНИЕ РЕФЛЕКСИИ ВНУТРИ МОДЕРНА
Однако с конца XIX века, когда социальная парадигма Модерна, изначально локализованная в Западной Европе, стала активно распространяться вширь (через колонизацию) и вглубь (через ускоренную модернизацию самих западных обществ), внутри самого «современного общества» стали появляться сомнения в обоснованности претензий Нового времени на знание абсолютной истины, в оправданности бесконечного и безоблачного оптимизма, в состоятельности базовых научных и социальных предпосылок, на которых было основано это общество. Тогда-то и появляется социология, а несколько позже — структуралистская философия, которые так или иначе ставят идею прогресса под вопрос5. То обстоятельство, что еще вполне позитивистски настроенный Дюркгейм заявляет, что «время есть социальный конструкт», уже говорит о многом. Поступательное время Модерна отныне релятивизировано, оно воспринимается как нечто относительно и функционально сопряженное с социальной матрицей. Этому весьма способствует успех теории относительности Эйнштейна, хотя с социологической точки зрения вполне можно сказать и наоборот: теория Эйнштейна появляется в момент, соответствующий первым признакам охлаждения в обществе, на уровне коллективного сознания, веры в прогресс.
В ходе огромной работы, которую проделали философы, социологи, психологи, культурологи, а также представители естественных наук, ко второй половине ХХ века стало понятно, что Модерн, претендовавший изначально на бесконечное развитие и оптимистическое приближение к абсолютной истине, есть не что иное, как отдельный период среди многих других возможностей, а следовательно, он принципиально конечен6. Кроме того, будучи человеком Модерна и частью «современного общества», честный, рефлектирующий и сомневающийся (по заветам все того же Модерна) исследователь не может не прийти к выводу, что к прогрессу и идее поступательного развития следует применить те же самые социологические принципы анализа, которые до этого было принято применять к изучению «традиционных обществ». Это означало, что и современные теории, политические институты, научные открытия и культурные формы следовало рассмотреть как своего рода «мифы современности», столь же «произвольные», «недоказуемые» и «иррациональные», что и мифы и религиозные учения традиционного общества (или — что почти то же самое — столь же «необходимые», «обоснованные» и «осмысленные»)7.
КОНЦЕПТ ПОСТМОДЕРНА
По мере увеличения дистанции между самим Модерном и его критическим осмыслением стала проявляться концепция Постмодерна, то есть такого общества, которое должно прийти на смену Модерну. Как Модерн был опровержением Премодерна, но в чем-то и его продолжением, так и Постмодерн стал концептуально осознаваться как ниспровержение основных принципов и, казалось бы, «аксиом» Премодерна, но также в чем-то и его продолжением.
Первые теории Постмодерна стали складываться в конце 1960-х годов, а к 1980-м годам они начинают преобладать в философском, культурологическом и отчасти социологическом дискурсе. Но здесь надо учитывать важное обстоятельство: базовая эпистема (институты, педагогика, научно-популярные штампы обыденного сознания и т. д.) в обществах конца ХХ — начала XXI века остается «современной» (в социологическом смысле), то есть по инерции относится к Модерну, а сознание интеллектуальной элиты (философов, людей культуры, отчасти — политиков и экономистов) уже мыслит себя после «конца истории»8, в другой, следующей, эпохе — в Постмодерне. Это говорит о том, что мы живем в период перехода от Модерна к Постмодерну. Часть аксиом Нового времени, в том числе само представление о прогрессе, по инерции сохраняется в массовом сознании, в педагогике, в научно-популярных представлениях и брошюрах, но в интеллектуальной и научной среде, в элите полным ходом идет смена ориентаций и реперных точек.
ЭОН И ХРОНОС (РИЗОМАТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ Ж. ДЕЛ¨ЗА)
Постмодерн видит время иным образом, нежели линейный прогресс Модерна. Это время обратимое, причудливое, ироничное, составное, гротескное, «подмигивающее». Это время, в котором все повторяется, но не как серьезный ритуал «традиционного общества», а как наркотический фарс (цитирование, рециклирование, «постистория», симулякр).
Философ Постмодерна Жиль Делёз (1925–1995) описывал это время, точнее, темпоральность9 следующим образом. Есть две налагающиеся друг на друга модели темпоральности — эон и хронос10. Эон, по Делёзу, это время, в котором есть прошлое и будущее, но нет настоящего. Это время, рациональное и связанное с логосом.
А хронос, по Делёзу, это время, где есть только настоящее, но нет прошлого и будущего. Это время телесное и насыщенное, но полностью бессмысленное, бессодержательное. В нем нет логоса (рассудка), а есть только тело (скорее даже телесность и ее «складки»). Делёз полагал, что в обществе Постмодерна эон, который был общеобязательной социальной догмой (роком, историцизмом) для людей Модерна, станет относительным и игровым. То есть отдельные индивидуумы (группы, социальные сегменты, сообщества) могут сами придумывать себе прошлое и будущее, пребывая в обобществленной массе телесности. Аналогичные явления встречаются в шизофрении, которую Делёз брал за образец (пост)социальности Постмодерна. Правда, и сама концепция индивидуума у Делёза расплавлялась в постмодернистском конструкте ризомы, то есть социального клубня, растущего под землей параллельно ее поверхности и дающего время от времени случайные вертикальные ростки, причем одновременно всходы и корни (как две части эона — прошлое и будущее)11. Но гипотетическое вырывание ростка у ризомы не затрагивает сложной сетевой структуры ее корневищ; жизнь в хроносе продолжается как «телесная вечность» и может снова давать всходы и корни то здесь, то там.
В современной культуре «ризоматическое время» многократно обыгрывается (например, в фильмах К. Тарантино, Д. Линча и т. д.). При всей экстравагантности подобных гипотез следует заметить, что в свое время традиционному обществу с его консерватизмом так же трудно было принять идеи прогресса и поступательного развития.
Время Делёза (поствремя) постепенно (пока через научную и культурную элиту) вступает в свои права.
КАРТА ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПИКИ
Итак, мы имеем следующую карту исторической синтагмы, которая, с одной стороны, развертывается во времени (по крайней мере, этапы имеют определенную последовательность), а с другой — на каждом этапе предопределяет свою доминирующую модель времени.
|
Премодерн |
Модерн |
Постмодерн |
|
Традиционное |
Современное |
Постобщество |
Схема 9. Синтагма истории
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛОГОС В ИСТОРИИ ЗАПАДА, АККУЛЬТУРАЦИЯ
И ГИБРИДНЫЕ ОБЩЕСТВА
Теперь обратим внимание на то, к чему применима данная схема, являющаяся канвой социологического понимания больших исторических периодов. Речь идет о западноевропейском обществе, которое проходило и проходит эти этапы (периоды) более или менее последовательно. По крайней мере, фактом является то, что Модерн в его законченном и сложившемся виде появился только на Западе и в строго определенное время, обосновав тем самым ту историческую топику, ту синтагму, которую мы сейчас рассматриваем. Колониальные завоевания Запада и развитие технических средств, а также своеобразная социальная энергия, с которой Запад навязывал свою собственную модель остальным в качестве универсальной, эталонной, общепринятой и общеобязательной, привели к тому, что эта схема стала внедряться практически повсеместно во все человеческие общества, производя их «аккультурацию» или «модернизацию», то есть навязывая им определенные социальные эпистемы в принудительном порядке. Любой житель Земли, который сегодня получает образование (за редким исключением отдельных религиозных учебных заведений Востока), получает именно западное образование в парадигме Модерна.
Таким образом, не будучи универсальной и не соответствуя историческому опыту и социальным особенностям большинства человеческих обществ, западная модернистическая эпистема, включая ее представление о социальном времени, стала считаться и считается сегодня универсальной и общепринятой, а по сути — единственной. И хотя этот факт не признать нельзя, стоит отметить здесь, что добровольное или навязанное согласие с этой исторической топикой накладывается подчас на качественно иную автохтонную социальную матрицу, что порождает общества «гибридного» типа. Такие общества заимствуют социальный логос Запада (с его исторической моделью, его представлением о времени, с его периодизацией и т. д.), но перетолковывают его в особом локальном ключе, подчас искажая или изменяя его до неузнаваемости. Это явление можно назвать «археомодерном»12.
Контрольные вопросы
1. Какова последовательность смены философских парадигм мышления в западноевропейской истории?
2. Как вы понимаете высказывание «время есть социальный конструкт»?
3. Что такое аккультурация?
ГЛАВА 3.2
АРХАИЧЕСКОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВРЕМЕНИ
ПРОБЛЕМА АВТОХТОННЫХ НЕЗАПАДНЫХ СОЦИУМОВ
Проблема аккультурации незападных обществ и искажение в процессе этой аккультурации привносимых извне социальных парадигм выводит нас на вопрос: а что представляют собой эти незападные общества до аккультурации и каковы их собственные социальные парадигмы? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно нашу схему Премодерн–Модерн–Постмодерн.
ДВА ТИПА ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: АРХАИЧЕСКОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ
Мы уже говорили, что научная парадигма Модерна проецирует идею прогресса, поступательного развития на общества, предшествующие наступлению Модерну. На этом основаны исследования так называемых «первобытных» обществ, «дикарей» и «примитивов». Современные племена аборигенов Австралии, Африки или Латинской Америки видятся в такой перспективе как живые примеры ранних стадий развития человечества, которое, как подразумевается, проходит некий единый «универсальный» путь, по которому люди Модерна продвинулись намного «дальше» других. Изучая «примитивов», люди Модерна изучают, как им кажется, «свое далекое прошлое». Хотя структуралисты, в первую очередь Леви-Стросс, не оставили от этой презумпции камня на камне, показав, что примитивные общества — это просто другие общества, не менее сложные и не менее рациональные, но основанные на иных мифологических моделях и структурах, для классификации социальных фактов эту реконструкцию постепенного пути к Модерну стоит принять как рабочую модель (далее мы покажем, как эта модель может работать в контексте, совершенно отличном от прогрессистских претензий западноевропейского этноцентризма).
В обществе Премодерна, которое совокупно называется «традиционным обществом», можно выделить две большие группы, отличающиеся по некоторым фундаментальным характеристикам. Одну группу можно назвать «архаические общества» («примитивы», «дикари»). Вторую группу — «религиозные общества». На исторической стреле Премодерн–Модерн–Постмодерн их надо располагать в таком порядке: вначале идут архаические общества, потом религиозные. Далее следует Модерн (и Постмодерн).
|
Премодерн |
Модерн |
Постмодерн |
|
|
Архаические |
Религиозные |
||
Схема 10. Два типа традиционного общества
Религиозные общества располагаются ближе к Модерну, а архаические — дальше от него. В некотором смысле можно сказать, что религиозные общества являются переходными формами от архаики к Модерну. Но это справедливо только в случае западо- и модерноцентричной логики истории.
Можно рассмотреть все эти стадии как процесс очищения логоса от мифоса. Западная цивилизация Нового времени именно так и видит содержание этого процесса.
Архаика отличается тем, что мифос в ней властвует полно и безраздельно. Архаика — это царство мифа, коллективного бессознательного, которое почти полностью совпадает с коллективным сознанием. Социальные институты, власть, право, хозяйство, обряды и даже быт, — все неразрывно связано с основными маршрутами «великих сновидений» (К.Г. Юнг). Л. Леви-Брюль в своих трудах показывает, насколько противоположными в своих основных установках являются общества «примитивов» и современные общества, основанные на преобладании рационального начала (логоса). Архаикам Леви-Брюль отказывает в обладании логосом, называя их мышление «предлогическим», или «пралогическим». Леви-Стросс, со своей стороны, настаивает, что «примитивы» управляются именно логосом, но совершенно другим — мифологическим. В любом случае в архаических моделях общества преобладает и главенствует миф.
Если посмотреть на историю с точки зрения совершенства ее мифологического содержания, то именно архаические общества представляют собой наиболее полный реестр мифологического мышления. Поэтому, изучив основные классические религиозные системы, Мирча Элиаде в конце жизни сосредоточился исключительно на исследовании наиболее примитивных мифологий, космологий и обрядов.
ТРИ ГРУППЫ МИФОВ И ИХ ВРЕМЯ (ПО Ж. ДЮРАНУ)
Обратимся теперь к архаическому сегменту «традиционного общества», применив к нему методологию, лежащую в основе социологии воображения Жильбера Дюрана.
Реконструкция Ж. Дюраном трех групп мифов (распределенных по двум режимам — диурн и ноктюрн) позволяет нам более детально описать структуру мифологического времени, каким оно предстает в имажинэре. Полученная картина должна соответствовать полному реестру возможных темпоральностей архаического общества.
ХРОНОКЛАЗМ
Героическому мифу соответствует идея борьбы со временем, противостояния ему. С этим связан хроноклазм13 архаического социума. Социум — община, семья, орда, клан, племя — мыслится как отряд борьбы со временем. Весь внешний мир организуется точно так же, выстраиваясь в структуру боевых порядков, развернутую по вертикали. Выражение Гераклита «Война — отец вещей» можно принять в качестве фундаментального социологического утверждения: война с временем и есть корень возникновения общества (в его архаическом и героическом смысле).
Отсюда следует сама сущность многочисленных и разнообразных обрядов, в которых происходит идентификация участников с героическими предками, духами, божествами. Самоотождествление с героями есть форма победы над временем и смертью. Герои, предки, основатели рода, тотемные покровители фратрий «во время оно» бились со временем, и они сейчас продолжают быть, выстраиваясь по вертикальной оси асцензиональной стрелы, и биться через своих потомков, которыми они и являются. Показательно, как «дикари» отвечают на вопросы этнологов о смысле ритуала. Они говорят: «Надевая маску героя или предка, я становлюсь им, он входит в меня и живет через меня». Никакой дистанции, никакой условности, время исчезает, так как оно убивается ритуалом: «тогда» становится «сейчас», а «сейчас» — «всегда»14.
Вся структура архаического общества организуется вокруг неизменной оси, и сам безусловный и абсолютный авторитет предания (традиции) связан именно с этим.
В режиме диурна архаическое общество организует свои институты, отношения и обряды таким образом, чтобы противопоставить их неумолимому вызову смерти и времени.
Вероятно, из этого мифа проистекает идея культуры как того, что противостоит природе. Герой (диурнический социум) мыслит себя как нечто противопоставленное внешнему миру (постуральный рефлекс, по Дюрану), как в корне отличное от него (диайрезис). Так в архаическом сообществе закладывается фундаментальная предпосылка для принципиального дуализма культура/природа, который, по Леви-Строссу, предопределяет все содержание человеческого бытия — знания, навыки, модели обмена, устройство жизни, отношения между людьми, полами, кланами, фратриями, статусами и внешним миром.
По дуальной классификации Леви-Стросса «сырое/приготовленное»15 этот режим соответствует «приготовленному», искусственному, то есть символически изъятому из внешнего мира (где преобладает смерть и время). Огонь, на котором готовят пищу (жарят или варят), есть инструмент героического бессмертия и синоним стрелы (копья).
ПРОКЛЯТАЯ ЧАСТЬ
Жорж Батай (1897–1962), французский философ и социолог, исследовавший вслед за Моссом логику дара-отдаривания в примитивных обществах, обратил внимание на повсеместно встречающийся в них обряд «уничтожения излишков», накопившихся в ходе успешной хозяйственной деятельности. Эти «излишки» назывались «проклятой частью»16 и подлежали обязательному ритуальному уничтожению — либо в форме жертвоприношений богам и идолам, либо в форме всеобщих оргиастических пиров.
В основе этого лежит архаическое (героическое — режим диурна) понимание появления «нового», которое воплощает в себе время. А время, будучи противником героя (то есть общества в его световом, дневном аспекте), является абсолютным врагом. Отсюда этимология русского слова «лишнее», а также «лихва», процент, получаемый от пускания денег в рост (от «лихо», «зло»). Лишнее, дополнительное, добавочное — это воплощение падения, материальное выражение бездны, куда срывается солнечный герой (социум). Уничтожение «проклятой части», по Батаю, есть важнейший аспект экономики архаических обществ. Сюда же можно добавить то, как Дюран описывал устойчивую неприязнь героического мифа к материи и продуктам питания.
Нечто подобное характерно для всех «традиционных обществ», что проявляется в их консерватизме, сознательно и последовательно сдерживающем появление чего-то «нового» (в первую очередь излишков). По Марксу, «пещерный коммунизм» заканчивается вместе с накоплением критического количества «излишков» старейшинами племени. С этого момента начинается классовое расслоение и постепенно исподволь подготавливается капитализм, вся система которого основана на «прибавочной стоимости» и манипуляциях с ней (то есть на постоянном приращении излишков, а также на «лихве» — увеличении удельного веса в экономике банковского ссудного капитала).
ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
В режиме ноктюрна отношение к времени меняется. Так, драматические (синтетические) мифы эвфемизируют время через его включение в цикл. Отсюда берут свое начало сюжеты о вечном возвращении, циклические конструкции, модели, архетипы и символы. В архаических обществах эта модель отношения ко времени соседствует («ко-экзистирует») с героической идеей о прямолинейной борьбе с ним. Напряжение противостояния здесь смягчается. Время мыслится как смена светлого периода темным и снова светлым. Это находит свое отражение и в отношении ко внешнему миру. Смена дня, ночи и сезонов года рассматривается как драма постоянной борьбы света и тьмы, жизни и смерти. Это группа мифов объединяется под названием «мифы о вечном возвращении»17.
Здесь речь идет не о противостоянии социума и внешнего мира (культуры и природы), как в героическом мифе, но о поиске аналогов в природе ритму «побед–поражений» в вечной борьбе между светом и тьмой. Природа тем самым «окультуривается» и даже гуманизируется в том смысле, что ее элементы берутся как аналоги противостояния человека и смерти, и часть из них оказывается в этой операции на стороне человека (а часть — на противоположной), но все может меняться местами в силу циклических обращений и превращений.
Ритм природы подтверждает ритмическую доминанту человека и дает обильную астробиологическую канву для развертывания разнообразных циклических сюжетов, где фигурируют Солнце, Луна, звезды, животные, герои, мифические существа, сакральные предметы и т. д. Смерть и воскресение, потеря и обретение, удача и неудача сменяют друг друга в бесконечных вариациях циклических мифов.
ДЕВАЯНА И ПИТРИЯНА
Здесь можно предположить, что две группы мифов — героические и драматические — соответствуют двум основным стратам архаических обществ. Героический миф свойственен вождям (вождям-жрецам) и воинам, а циклический — основной массе трудового населения. Хотя в чистом виде такая закономерность встречается довольно редко, инициации вождей во многих примитивных племенах отличаются по своей структуре, набору символов и используемым формам от остальных инициаций: высшие касты иногда имеют ритуальную татуировку, резко иную, содержательно и стилистически, чем у остальных членов племени18. Иногда у племенной знати также наличествует особый тайный язык. Можно предположить, что это следы мифологического дуализма (антивременной миф вождей и циклический миф масс).
В индуизме эта черта выражена довольно выпукло. Там речь идет о дэва-яна, «пути богов» и питри-яна, «пути предков». Тот, кто идет по пути богов, уходит из мира и не возвращается. Тот, кто идет по пути предков, обречен на новые и новые рождения. Путь богов предназначен высшим кастам. Путь предков — всем остальным19.
МИСТИЧЕСКИЙ НОКТЮРН
Группа мифов мистической ориентации представляет собой предельный эвфемизм в отношении времени. Здесь все напряжение между культурой и природой, между человеком и смертью снимается, и сознание переносится на противоположную сторону — на сторону предмета, другого.
Мистическое обращение со временем — это отказ от противостояния ему в радикальной или смягченной (эвфемизированной) форме. Время в таком понимании конституируется как главное содержание жизни, чистая длительность реабилитируется, а все энергетические всплески оппозиции к ней затушевываются.
Так рождаются мифы о центре, об изначальной утробе, о блаженном комфорте, где смерть и время более не воспринимаются, не осознаются, так как диайретическая функция дневного мышления и острота дуалистической культуры сняты.
Этому соответствует идея вечности как чего-то, что нескончаемо и неумолимо длится, развертывается, укачивая существо, как мать — ребенка. Это колыбельное время, время бесконечных женских работ — пряжи, шитья, вышивания, вымачивания льна20 и т. д.
В структуре архаического социума этому соответствует женская половина поселений, а также магия как взаимодействие с внешним миром, основанное на единстве, связанности, «склеенности» между собой всех вещей, «симпатии».
Этим мифам соответствует «сырое» в терминологии Леви-Стросса, то есть найденное в природе и потребленное в том виде, в котором оно обнаружено (ягоды, грибы, плоды, растения, годные для употребления в пищу, и т. д.).
М. Мосс, изучавший примитивные общества, настаивал на необходимости различать религию — как область публичных ритуалов, как социально значимое и институционализированное явление (причем фундаментальное и главенствующее для конституции общества) и магию — как частное, скрытое, часто негативное и запретное явление21. Если антивремя героического мифа и циклизм драматического ноктюрна соответствуют религиозным аспектам, то мистический режим (антифраза) более всего близок к магии. Магическое время — это впадение человека в чистую длительность, что подчас иллюстрируется в сказках и мифах превращением его в животное, териоморфизмом. Отсюда устойчивые предания о превращении ведьм в животных и об оборотнях.
Магическому времени соответствует домашняя (непубличная) жизнь, период пребывания человека в своем жилище, это также время сна, dreamtime. Показательно, что пребывание в жилище, как правило, происходит ночью. Ночью же, по преданиям, проводят свои темные обряды ведьмы и колдуны. Ночью ничего не происходит, в ней нет событий, и это время, очищенное от событий, становится своим собственным плотным и телесным содержанием, на чем строится практика «вискозной», клейкой, глишроидной, подчас эпилептической магии, апеллирующей к темным корням вещей, к тайнам чистой материи.
РЕЛИГИОЗНОЕ ВРЕМЯ
Религиозное общество в соответствии с общепринятой схемой отличается от архаического тем, что статус рационального начала в нем на порядок выше. Можно сказать, что развитые и богословски развернутые и детализированные религии представляют собой существенный шаг по «освобождению логоса от мифоса»22. Однако среди всех религий, даже самых рационализированных, таких как индуизм, буддизм, конфуцианство или ислам, далеко не все создают предпосылки для появления общества Модерна. Процесс противостояния логоса мифосу полностью развертывается только на Западе — от появления философии Сократа и Платона (в рамках еще довольно архаического, но все более рационализирующегося общества) через христианское Средневековье к Возрождению и собственно эпохе Нового времени и Просвещения. Важным моментом является протестантская Реформация, где через критику текстов последователи Лютера и Кальвина начинают выделять из католического наследия собственно керигму.
И все же религиозные конструкции часто вносят в циклические модели линейность. Так, в индуизме время хотя и развертывается циклически (кальпы, манвантары, юги), но движется по нисходящей, пока не дойдет до точки всеобщего растворения (махапралайя), после чего все повторяется снова, сверху вниз23. Так у религиозного времени политеизма появляется некоторый линейный вектор. Это модель религиозного регресса.
В несколько смягченной форме эта же конструкция встречается в буддизме. Китайская традиция более архаична, в ней циклизм мыслится неизменным и повторяющимся, что заставляет некоторых исследований выносить конфуцианство и даосизм за рамки религии как таковой.
ЛИНЕЙНОЕ ВРЕМЯ МОНОТЕИЗМА
Среди рационализированных религиозных теологий монотеизм занимает особое место. Иудаизм впервые вводит представление о линейном времени, которое с определенными поправками от него воспринимают христианство и ислам.
Далеко не все религии, даже самые развитые, несут в себе концепцию линейного времени. А в архаическом обществе даже предпосылки для этого отсутствуют. Индуизм, конфуцианство, буддизм в основном оперируют с циклическим временем. Поэтому в исторической топике западного логоса можно считать, что монотеизм является важным этапом на пути к Модерну.
Мы можем теперь представить ситуацию таким образом.
|
Премодерн |
Модерн |
Постмодерн |
||
|
Архаика |
Политеизм |
Монотеизм |
||
|
Религии |
||||
|
Магия |
||||
Схема 11. Соотношение типов сакральности в обществах Премодерна
Конечно, линейное время иудаизма имеет весьма специфический характер. Оно подобно разомкнутому циклу. В начале времени располагается райское бытие. Далее идут грехопадение и изгнание из рая. Далее циклы катастроф и падений человечества (убийство Каином Авеля, Всемирный потоп, Содом и Гоморра, постоянные отступления от заветов Яхве и т. д.) сменяются относительными периодами восстановления. Но ситуация постоянно ухудшается и будет ухудшаться вплоть до прихода мессии, который призван восстановить райское состояние. Мы видим здесь след героического мифа: время несет с собой падение (грехопадение). Есть элементы циклизма (смена периодов), и сам приход мессии в конце времен есть не что иное, как новое начало. Но — и это принципиально! — время уже разомкнуто, они длится в одном направлении (от начала к концу). Такого времени не знали ни архаика, ни политеистические религии.
Линейность времени чрезвычайно важна, так как она внутренне размыкает вневременной парадигмальный строй мифа. Поэтому монотеизм становится той религиозной средой, которая укрепляет логос в его антимифологической эпопее.
Христианство перенимает у иудаизма основную модель времени, и несмотря на то, что наступает новая эра (благодати) после старой эры (закона) и Христос, мессия, приходит на землю, общее падение мира продолжается (с некоторым перерывом на расцвет христианской империи, когда «дьявол остается скованным»), чтобы завершиться Вторым Пришествием24. Здесь также остается линейное время регресса, хотя в соответствии с христианской теологией Воплощение Бога важнее, чем земной рай, и поэтому конец времен имеет более существенное значение, чем начало25. Здесь мы имеем дело с суперпозицией (наложением) двух временных конструкций: деградирующее время от земного рая (в начале) до прихода антихриста (в конце) и чаяние «будущего века», то есть царства Божия, которое наступит после «конца света». Эта суперпозиция не наделяет время позитивной коннотацией напрямую, но открывает возможность особой перспективы, которая остается на обочине христианства — в сфере ереси. Но тем не менее именно она, эта еретическая возможность специфического и неортодоксального толкования христианства, в определенной ситуации оказывает большое, а может быть, и решающее влияние на социальные трансформации.
ИОАХИМ ДЕ ФЛОРА И УЧЕНИЕ О ТРЕХ ВЕКАХ
Если классическое христианство останавливается на том, что линейное время развертывается в сторону упадка (вектор «конца света» и прихода антихриста), то один калабрийский монах, Иоахим де Флора (?–1202), предлагает свою оригинальную версию исторического процесса, являющуюся еще одним шагом к той парадигме времени, которую общество Нового времени в дальнейшем утвердит в качестве доминанты.
Иоахим де Флора создает учение о «трех веках», соответствующих трем лицам Пресвятой Троицы. В классической христианской теологии Божество находится вне времени, и все Лица Троицы равно божественны и неизменны. Правда, в Православии есть учение о трех «икономиях»(домостроительствах) Трех Лиц. «Икономия» Бога-Отца состоит в Творении. «Икономия» Сына — в Спасении и Воплощении. А «икономия» Святого Духа — в Утешении и Основании Церкви. И в этих «икономиях» можно заметить определенную диахроническую последовательность26.
Иоахим де Флора переносит эту диахроническую картину на Всемирную историю. И здесь появляется новый и довольно неожиданный элемент. Царство Отца соотносится с эпохой Ветхого Завета (это еще теологически приемлемо). Царство Сына — с эпохой распространения христианства (вот здесь первое затруднение — так как «икономия» Сына есть Воплощение, а создание и развертывание Церкви на земле есть «икономия» Святаго Духа). Но самое главное новаторство состоит в учении Иоахима де Флора о «третьем царстве», соответствующем якобы Святому Духу. Здесь де Флора утверждает, что это «третье царство» будет нести с собой конец соблюдения христианских правил и порядков, упразднение церковной и государственной иерархии, полное освобождение людей, эпоху братства и свободы. Это и будет «тысячелетнее царство» («хилиазм»). Таким образом, линейность христианского времени наделяется дополнительной чертой — ожиданием в будущем особого периода, который станет «эпохой всеобщей благодати». Тема антихриста отпадает сама собой, курс времени приобретает целиком позитивный и оптимистический характер с явными революционными чертами.
Важно, что мы имеем дело с мифом, точнее, с религиозным мифом, где переплетаются теологические, рациональные и чисто мифические, мифологические черты.
Вот этот миф о «третьем царстве» постепенно и станет фундаментом представления о времени Модерна, ляжет в основу теории прогресса, который — в духе ожесточенной борьбы логоса против мифоса — будет претендовать на то, чтобы считаться «строгой научной истиной».
Миф о «третьем царстве» уже в Новое время в развитом виде встречается в философии истории Иоганна-Готтфрида Гердера (1744–1803), у итальянца Джамбаттиста Вико (1668–1774), у Гегеля (1770–1831), у Маркса и Конта, а кроме того, практически все разновидности философии истории, кроме, пожалуй, консерваторов и в частности пессимистического Освальда Шпенглера (1880–1936), говорившего о «Закате Европы»27, так или иначе воспроизводят эту теорию.
Мы проследили различные фазы социальных конструктов времени от архаических обществ через религиозные и монотеистические вплоть до Нового времени.
Контрольные вопросы
1. Какие типы социального времени соответствуют традиционному обществу?
2. Как режимы воображения соотносятся с типами социального времени?
3. В чем отличие архаических обществ от монотеистических?
ГЛАВА 3.3
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ВРЕМЕН
СИНТАГМА ПРЕМОДЕРН–МОДЕРН–ПОСТМОДЕРН ЕСТЬ
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ЗАПАДНОГО ЛОГОСА
Когда мы говорим о смене эпох на схеме Премодерн–Модерн–Постмодерн, мы экстраполируем научный миф о прогрессе (то есть социальный конструкт времени эпохи Модерна) на весь этот процесс. По логике Модерна, каждый из этих этапов есть «следующий шаг», обоснованный вектором исторического развития от «минуса к плюсу», от «плохого к хорошему», от «несовершенного к совершенному». При этом считается, что переход от одной фазы к другой принципиально снимает актуальность предшествующей фазы, относит ее к категории небытия, рассеивает в энтропии, а если что-то от нее и остается (остаток, residuo), то это не существенно и на общую картину поступательного развития общества не влияет. В таком случае мы видим одномерную картину: логос борется с мифосом и постепенно побеждает его. На концепте времени это отражается так: от архаического времени (мифологической идентичности вождя, жреца и бога или героя), от циклизма через разомкнутое линейное время монотеизма (с основным вектором упадка) человечество (причем именно западноевропейская его часть) переходит к идее прогресса, эволюции и поступательного линейного развития. Каждая фаза вытесняет собой предыдущую, которая уходит в небытие. Так приблизительно и представляло себе картину истории общество Модерна до того момента, пока оно не стало критически рефлектировать само себя (что означало предвестие следующей эпохи — Постмодерна).
На определенном этапе этот прогрессистский оптимизм (в духе Иоахима де Флора или Огюста Конта) натолкнулся на два фактора — внешний и внутренний. Усердное навязывание социальной парадигмы Модерна незападным обществам приводило к широкому саботажу со стороны локальных культур процесса аккультурации. Это влекло за собой появление различных версий «археомодерна» (О. Шпенглер называл это явление псевдоморфозом), при котором структура современности накладывалась на автохтонные архаические или религиозные пласты, порождая гротескные формы уродливой и избирательной модернизации — «модернизации без вестернизации», по выражению А. Тойнби (1889–1975). Кроме того, со стороны бывших колониальных держав в ходе деколонизации все ярче поступали сигналы открытого отрицания западных культурных ценностей и социальных паттернов: местные культуры претендовали на самобытность и оригинальность, протестуя против «культурного расизма», имплицитно заложенного в самонадеянности европейцев относительно «универсальности» своей цивилизации и ее исторической топики. Этому процессу способствовали многочисленные труды антропологов, этнологов и социологов, демонстрировавших полноценность религиозных и архаических культур в незападных обществах, их богатство, многообразие и обоснованность их тихих претензий на самосохранение.
Вместе с тем на этот период времени приходится и открытие новой социокультурной топики в самой западной социологии и антропологии. Социологи, психологи, антропологи, структуралисты обнаруживают, что и в самом западном обществе ниже главного этажа прогрессистского логоцентризма расположены гигантские подвалы коллективного бессознательного, где до сих пор полноценно и суверенно главенствует миф.
Таким образом, синтагма истории социального логоса с его последовательными сменами базовых моделей (включая смену концептов времени) обнаружилась как серия событий, касающихся по большей части лишь «числителя» социально-антропологической «дроби». В «знаменателе» же все остается по-старому — там преобладают архаические мифы в их первозданном виде. И эти же мифы, архетипы и символы пышным цветом расцветают в незападных обществах — кое-где под тонкой вуалью фрагментарной аккультурации, а кое-где напрямую, в первозданном, «дикарском», примитивном виде.
Открывая в ХХ веке фигуру и мир «другого», западные социологи и антропологи открывали забытую, загнанную в подполье, репрессированную часть самих себя. Это и привело наиболее глубоких и последовательных из них к тому, чтобы отречься от «духа Просвещения», оставить фанатичное и эксклюзивное следование только одной из мифологий — логоцентричной мифологии Нового времени, претендующей на абсолютность, — и открыто посмотреть в лицо гигантскому морю мифов, сновидений и символов.
ВОСЕМЬ ВРЕМЕН Ж. ГУРВИЧА
Приведем один пример того, как социологи обращались с новыми открывшимися горизонтами исследования времени как социального конструкта.
Один из крупнейших современных социологов русского происхождения, с 1920 года живший и работавший во Франции и США, Георгий (Жорж) Гурвич (1894–1965), разработал интересную концепцию социального времени. Он же предложил первым концепцию «социологии в глубину»28, созвучную «социологии глубин» Жильбера Дюрана, наиболее существенные аспекты которой мы используем в нашем изложении. Гурвич, в отличие от Дюрана, не включал в понятие «глубины» исследование мифов, архетипов и коллективного бессознательного, ограничиваясь различными уровнями социального логоса (в этом отношении то, что мы понимаем под «структурной социологией», так же отличается от «структурной социологии» Сорокина и Териакьяна, как дюрановская «социология глубины» от «социологии в глубину» Гурвича).
Гурвич выделял восемь типов социального времени29:
- «длящееся время» (enduring time) — это время родства, семейственности, локальной демографии, длительность непосредственно данной инерциальной жизни рода;
- «обманное время» (deceptive time) — время ежедневных действий, включая рутину и различные сюрпризы;
- «блуждающее время» (erratic time) — время нерегулярных событий, мировых происшествий, неопределенностей развертывающейся истории;
- «циклическое время» (cyclical time) — время постоянно повторяющихся событий в жизни;
- «замедленное время» (retarded time) — время социальных символов и институтов, которые укоренены в прошлом. Традиции и условности тянут это время назад, сдерживают его, но не останавливают движения, так как время все равно течет, и именно с опорой на этим институты и символы;
- «изменяющее время» (alternating time) — время правил, алгоритмов и кодов. Это время тоже коренится в прошлом, но нацелено на будущее, на изменение и развитие. Время экономики и промышленности — это изменяющее время, оно основано на полученном знании, но ориентировано не на повторение, а на изменение и развитие;
- «подталкивающее вперед время» (pushing forward time) — время надежд и инноваций. В этом времени мы стремимся в будущее, подталкиваем к будущему настоящее;
- «взрывное время» (explosive time) — время коллективного творчества и революций. Это время позволяет отменить существующие структуры и заменить их новыми.
Каждое из описанных времен имеет свои структуру, свойства, типичное направление и восприятие. Разные социальные типы и группы живут этими временами (всеми вместе или некоторыми из них) в разных пропорциях. «Длящееся время», «рутинное время», «циклическое время» и «замедленное время» преобладают в традиционном обществе. Мы без труда опознаем в «замедленном времени» следы героического мифа (режим диурна), а в «длящемся времени» и собственно «циклическом» — драматический режим ноктюрна. Любопытно, что «обманное время» невнятной (и не символической, не циклической, то есть не ритуальной) рутины соответствует мистическому режиму ноктюрна: это тянущееся время в чистом виде, в котором смазан какой бы то ни было символизм и налицо лишь бессмысленная, но могущественная телесность.
Остальные времена — «блуждающее», «изменяющее», «подталкивающее вперед» — явно относятся к Модерну и отсутствуют в мифологическом пространстве. Сегменты таких времен могут встречаться уже в религиозном контексте и в мифах, связанных с эсхатологическими катастрофами.
«Взрывное время» (в современной физике есть понятие «время Ляпунова»30, когда движение элементарных частиц может с равной вероятностью последовать в любом из двух направлений) соответствует мифологическим сюжетам о космогонии и эсхатологии, относящимся к макрособытиям.
ВРЕМЕНА, ТЕКУЩИЕ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
Множественность социальных времен, проиллюстрированная Гурвичем в его схематизации (мы на ней не настаиваем, а приводим лишь как пример рефлексии социологами ХХ века кризиса строго линейного понимания прогресса), позволяет выделить в социальных системах и структурах процессы, которые не просто развертываются с разной скоростью, но подчас имеют качественно иную природу и движутся в прямо противоположном направлении друг относительно друга. Так, модернизация одних сторон социальной жизни вполне может сопровождаться архаизацией других ее сторон. «Прогрессивные» движения деколонизации в Третьем мире теоретически должны приводить к формированию буржуазных наций и демократических режимов. Но так происходит далеко не всегда, а если и происходит, то это вполне может таить под собой иной смысл и сохранять и даже восстанавливать иные, автохтонные социальные институты. Например, в современной Боливии, где впервые за всю историю Латинской Америки президентом избран индеец Эво Моралес, в настоящее время делается попытка восстановить в национальном масштабе как государственную религию культ индейской богини Пача-Мама. Еще более радикальные проекты по реставрации цивилизации майя и ее религии предлагал недавно кандидат в президенты Перу индеец Ольянта Умала.
Расцвет религиозного фундаментализма в исламском мире — другой выразительный пример того, как вместо ожидаемого развития по западному пути локальное общество сворачивает в совершенно ином направлении.
СОЦИОЛОГИЯ СВАЛКИ
Явление археомодерна (или псевдоморфоза, по Шпенглеру) обнаруживает, что социум вполне может жить одновременно в нескольких эпохах — на уровне элиты (представляющей собой либо колониальную администрацию, либо ее автохтонный аналог) могут развертываться линейное время или модернистские формы социального времени Гурвича, тогда как в массах будет доминировать мифологическое время (вечное возвращение, замедление, постоянство).
Социальная система археомодерна движется одновременно в двух противоположных направлениях, что производит сдвиги и расколы, и при этом еще некоторые слои массы вовлекаются в линейное время элит, а часть элит «облучается» циклическим спокойствием «вечного возвращения» масс. Питирим Сорокин назвал такую ситуацию «свалкой»31. Различные символы, архетипы, сюжеты и мифемы наваливаются друг на друга без всякого порядка, и совершенно разнородные вещи соседствуют друг с другом. Так на свалке рядом лежат ржавые трубы, остатки гнилой пищи, обрывки глянцевых журналов, фрагменты мебели, пустые коробки и бутылки, груды неидентифицируемых вязких веществ, плавленая пластмасса и т. д. Это типичный социальный пейзаж археомодерна: живущее не просто на разных скоростях, но и в разных направлениях общество утрачивает единство, связность, способность объединить различные слои, страты и символы в общую гармонию. В таком случае, когда разлад между логосом и мифосом достигает критической черты, знаменатель начинает выступать как разрушающая сила, активно саботирующая любые попытки прогрессистского логоса к модернизации.
Социологическая модель «общества свалки», описанная П. Сорокиным, применима также к социальной феноменологии Постмодерна32, где Модерн утрачивает свою логическую и прогрессистскую энергию, но миф в знаменателе тоже довольно серьезно страдает от попыток его модернизации, в результате чего на поверхность проступают не чистые архаические архетипы, а их бледные остатки, «residui», которые современный социолог Жан Бодрийяр (1929–2007) вполне мог бы назвать «симулякрами»33.
Контрольные вопросы
1. Назовите хотя бы три из восьми времен Ж. Гурвича.
2. Что означает метафора «свалки» в социологическом контексте?
3. Как идея «прогресса» связана с логосом?
ГЛАВА 3.4
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
МАРКСИЗМ И ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ
В СССР марксистская версия исторической синтагмы считалась истиной в последней инстанции и была общеобязательной для изучения. Мы же рассмотрим ее наряду с другими версиями исторического процесса. Маркс выделил в качестве основного параметра исторического времени развитие производительных сил и производственных отношений, то есть чисто экономический фактор. По Марксу, главные исторические процессы в обществе протекают на уровне базиса (хозяйства), а надстройка (культура, религия, идеология) лишь отражает их. Тем самым он заложил основу экономоцентричного понимания исторического времени.
Марксизм представляет дело так. Вначале существует период «пещерного коммунизма», то есть всеобщего обладания всеми благами. В терминах Ж. Батая действует принцип ритуального уничтожения «проклятой части».
Потом начинается имущественная дифференциация примордиальной орды, накапливаются излишки, старейшины укрепляют власть над ордой с помощью материальных богатств. Складывается модель эксплуатации человека человеком. Далее расслоение приводит к появлению сословий, и постепенно складываются государства. Первичные государства основаны на рабовладении. Затем на их место приходят феодальные государства, где рабство сменяется данничеством и ленным принципом. Развиваются города и ремесла. Наконец, наступает стадия капитализма, и вместе с ней на сцену выходит новый класс — пролетариат. Буржуазия основывает свое господство на присвоении прибавочной стоимости, которая создается в результате труда пролетариев и параллельно с развитием технических средств производства. При капитализме буржуазия абсорбирует высшие классы предыдущих эпох, а параллельно этому идет имущественное расслоение крестьянства, рост на селе капиталистических отношений и увеличение объема городского пролетариата. Авангардом пролетариата становятся коммунистические партии, объясняющие ему смысл и механизмы его эксплуатации буржуазией. В определенный момент истории два антагонистических класса — буржуазия и пролетариат — сходятся в смертельной схватке. В результате этой борьбы должны произойти социалистические революции, в ходе которых пролетариат захватит политическую власть и создаст особый тип общества, основанный на «экспроприации экспроприаторов», справедливом устройстве, материальном и социальном равенстве, равномерном распределении результатов труда всех между всеми. Социалистические революции приобретут всемирный характер, и в конце концов наступит коммунизм, когда сознание всего человечества необратимо изменится, и история закончится эпохой всеобщего мира, счастья, изобилия, равенства, свободы, братства и творческого подъема. Деньги и государства отомрут, а технические открытия раскрепощенного гения человечества создадут технические средства, достаточные для благополучия всех и вся.
ИОАХИМИТСКАЯ ПРИРОДА МАРКСИСТСКОГО МИФА
Здесь в форме экономических и классовых моделей исторического процесса мы сталкиваемся с изданием исторических идей Иоахима де Флора. Прогресс человечества ориентирован на достижение «третьего царства», роль которого у Маркса играют социалистическая революция и наступление коммунизма. Эпоха отчуждения и закона (экономической эксплуатации) завершается, и начинается новый, волшебный век.
Данная мифологическая модель соответствует психологическим ожиданиям этносов и социальных слоев, пребывающих в состоянии фрустрации, оторванных от возможностей реализовать социальные амбиции в настоящем и склонных концентрировать свои энергии на мессианском идеале будущего. Логичность и стройность марксизма привлекала к нему как, с одной стороны, интеллектуалов, видевших в нем тонкую социологическую конструкцию, остроумную историческую топику, динамичную схему творческого антагонизма противоположных сил, глубокий анализ капиталистического производства, вскрытие механики развития промышленного капитализма (то есть рациональный, логосный аспект), так и широкие массы обездоленных, реагировавших на хилиастические мотивы грядущего «золотого века», на моральный пафос восстания низших против высших, этику равенства и братства, то есть на мифологические мотивы.
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: БАЛАНС ЛОГОСА И МИФОСА
Сам Маркс полагал, что пролетарская сознательность (то есть сторона логоса) должна быть главным инструментом грядущих социалистических революций, которые, по его убеждению, вначале должны произойти в промышленных странах Западной Европы с развитым и многочисленным городским пролетариатом, высоким уровнем индустриализации и экономики в целом. То есть он возлагал надежды на логос своего революционного учения. Но там, где он рассчитывал, то есть на Западе, социалистических революций не произошло, а произошли они там, где он менее всего их ожидал и даже считал совершенно невозможными — например, в преимущественно крестьянской, архаичной романовской России, изуродованной петровским «археомодерном» с относительно узким слоем пролетариата, слаборазвитой промышленностью и повальной неграмотностью. Однако волюнтаризм большевиков во главе с Лениным (1870–1924) и Троцким (1879–1940) и мессианские (иоахимитские) настроения широких народных масс (особенно русского сектантства в сочетании с пассионарными представителями еврейского хасидского мессианства из черты оседлости) повернули историю таким образом, что коммунистическая партия победила именно в России, и здесь было построено социалистическое общество строго по заветам Маркса. Явно восторжествовала мифологическая сторона марксизма, вера в наступающий «золотой век». Марксистский логос не реализовался там, где должен был реализоваться (на Западе), а марксистский миф воплотился там, где не должен был воплотиться (в России).
При этом экономическая составляющая, главенствующая в системе Маркса, в России была, по сути, волюнтаристским образом подстроена под требования теории. Ленин в работе «Развитие капитализма в России»34 (1899) практически подтасовал исторические факты, чтобы доказать, что Россия прошла все основные стадии экономического развития от рабовладельческого строя до феодального и вступила в фазу капиталистического развития. То, что в русской истории не было ни рабовладения, ни полноценного феодализма35, а капиталистические отношения затрагивали очень небольшую часть городского населения, Ленина не слишком волновало36. Русская экономика в ретроспективе выступала лишь как социологический аргумент для убеждения коммунистов и широких масс в том, что социализм «исторически назрел», «смена экономических формаций неминуема» и «социалистическая революция неизбежна».
После захвата большевиками власти в Советской России началось строительство социалистической экономики с опорой на тоталитарную репрессивную власть. И история показала, что сочетание мессианского мифа с фанатической тоталитарной властью догматиков-марксистов способно дать удивительные результаты мобилизации общества для осуществления небывалого экономического и промышленного рывка.
АРХЕОМОДЕРН ПО-СОВЕТСКИ
Советский строй породил новую версию археомодерна: марксистский логос (пролетарское сознание, коммунистическая идеология) наложился на русское народное мессианство, но несогласованность этих двух планов, противоречия между западной структурой социального логоса и автохтонным русским социумом дали о себе знать. «Русское народное сновидение», вначале поддержавшее большевиков [примером этого могут выступать поэзия Николая Клюева (1884–1937), Александра Блока (1880–1921), ранние повести и романы Андрея Платонова (1899–1951) и т. д.], позже блокировало марксизм, не пожелавший повернуться лицом к национальному бессознательному, и начало тонкую работу по интеллектуальному саботажу правящей рациональности. Ортодоксальный марксизм, со своей стороны, старался извести русский миф, а русский миф разъедал стройность марксистской рациональности. К 1960-м годам ХХ столетия это привело к стагнации, а в 1980-е годы послужило причиной краха СССР и всей мировой социалистической системы, державшейся во многом на социально-экономической, идеологической и военной мощи Советского Союза.
При этом коммунистический Китай (также аграрная страна с традиционным обществом), изначально уделявший больше внимания национальным традициям, сумел сохраниться и в эпоху 1980-х годов, перестроив свою идеологию в откровенно националистическом духе. Адаптировав экономику под прагматические нужды времени, переняв определенные стороны рынка и капитализма, он сохранил при этом государство, политическую власть компартии и социальную целостность страны.
Экономика в марксизме, таким образом, оказалась лишь составляющей стороной мифа, который, оперируя экономическими моделями и хозяйственными структурами, при необходимости подстраивал их в теории и на практике под свои нужды. Конец СССР был связан с изношенностью мифа. И то, что казалось стадией, следующей за капиталистической эпохой, оказалось лишь девиацией на пути развертывания более общих процессов.
Так обстоят дела на уровне социального логоса Запада. А на уровне коллективного бессознательного русского народа это было неудачной попыткой вывести национальный миф в социальное измерение сознания, то есть провалившейся попыткой индивидуации.
ТРИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УКЛАДА
Другой, более общей схемой смены экономических моделей в исторической топике Запада является общепринятая сегодня модель трехчастного деления экономических укладов на предындустриальный, индустриальный и постиндустриальный37. Эта типология, ставящая акцент на экономику, аналогична общей схеме Премодерн–Модерн–Постмодерн. В отличие от марксизма она выделяет преимущественно технологический уклад, не рассматривает классовую борьбу как двигатель истории и лишь констатирует изменения в приоритетных способах производства, свойственных разным типам обществ.
ПРЕДЫНДУСТРИАЛЬНЫЙ УКЛАД: АГРАРНОЕ ОБЩЕСТВО
Экономика обществ, относящихся к Премодерну, представляет собой разновидности допромышленного производства, в первую очередь сельское хозяйство. Это так называемый «первичный сектор производства». В «традиционном обществе» (Премодерн) он является доминирующим. Именно здесь сосредоточены основные объемы материального производства общества.
Строго говоря, можно различить в предындустриальном укладе два типа, один из которых соответствует архаической стадии, где преобладают охота, собирательство и т. д., а другой — собственно аграрной стадии (плюс скотоводство), характеризуемой более технологичными формами хозяйства. Как правило, эти два типа совпадают с религиозными (а не магическими) типами общества.
В исторической науке переход от обществ охотников и собирателей к обществу аграрному, связанному преимущественно с сельским хозяйством и скотоводством, называется «неолитической революцией»38.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УКЛАД
Эпоха Модерна отличается развитием промышленности («вторичный сектор производства»), причем в такой степени, что объем промышленного производства существенно превышает объем аграрного сектора в экономике в целом. Такой экономический уклад представляет собой классический капитализм, но к этой же модели относятся и такие причудливые с концептуальной точки зрения явления, как «развитой социализм», добившийся сходных результатов в экономике (пролетаризации, урбанизации, атоматизации и т. д.) ценой невероятных усилий по стремительной и насильственной индустриализации вчера еще аграрной страны.
Промышленная революция в области экономики — изобретение паровых машин, станков, промышленного оборудования, новых средств передвижения и связи и т. д. — хронологически и социологически связана с буржуазно-демократическими революциями в политике, а также с разработкой и закреплением в качестве главенствующей научной картины мира.
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
И наконец, Постмодерн означает наступление нового экономического уклада — постиндустриального общества, где преобладает третичный сектор (сектор финансов, услуг и т. д.). Такое общество отличается тем, что объем финансовых активов и средств, задействованных в трансакциях, кредитных операциях и работе с ценными бумагами (а также с различного вида деривативами), существенно превышает объем реального промышленного производства (не говоря уже об аграрном секторе). Так, в современной американской экономике в третичном секторе занято более 70 % населения, а сфера финансовых операций составляет основу бюджета страны. Это означает, что современная американская экономика находится в стадии постиндустриального общества. Промышленность все больше переносится в страны третьего мира с дешевой рабочей силой (явление делокализации), а «богатый Север» оказывается зоной повышенного благополучия, получающей доходы через эксплуатацию остального человечества (которому меньше повезло с экономическим развитием). Правда, финансовый кризис 2008–2009 годов продемонстрировал относительную хрупкость и уязвимость такого уклада.
Экономика Постмодерна называется «новой экономикой», «финансовой экономикой» или «экономикой знаний» (так как в ней решающим фактором является владение информацией).
ДИАХРОНИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
Эту схему топики экономических укладов в соответствии с типами обществ Премодерн–Модерн–Постмодерн можно представить таким образом.
Премодерн
Модерн
Постмодерн
Предындустриальное
(аграрное) общество
Индустриальное
обществоПостиндустриальное общество
Первичный сектор
Вторичный сектор
Третичный сектор
Схема 12. Типы экономических укладов
Очевидная на схеме аналогия между типами обществ и типами доминирующих экономических систем наглядно демонстрирует, что экономика есть проявление социального логоса. Как Адам Смит был интерпретатором либерального философа Джона Локка (1632–1704), одного из основателей парадигмы Модерна, применительно к хозяйству, а Маркс — учеником философа Гегеля (создателя грандиозной философии истории), так и все экономические модели и теории являются следствием приложения тех или иных социальных концептов к сфере хозяйства. Если само время есть социальный конструкт, то рукотворная и рационально организованная хозяйственная деятельность тем более есть продукт социального творчества, а не какая-то «объективная» стихия и тем более не «судьба». Экономическое время (к которому можно отнести «толкающее вперед время» и «изменяющее время» Гурвича) есть субпродукт социальных установок, а систематизация экономических формаций, укладов или эпох по диахронической шкале есть отражение общей модели развертывания социального логоса, как его понимает западная культура.
Контрольные вопросы
1. Кто впервые в европейской истории сформулировал теорию трех времен мира? Что это были за времена?
2. Как понимает логику истории марксизм?
3. Что такое постиндустриальное общество?
ГЛАВА 3.5
СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА МИФОВ
ТРИ ТИПА ОБЩЕСТВА ПО ПИТИРИМУ СОРОКИНУ
Рассмотрим вопрос о тех движущих факторах, которые влекут за собой изменение социальных систем по диахронической оси. Определенные изменения происходят в любых обществах, а не только в западных, хотя, как мы видели, Запад считает свою историческую синтагму универсальной.
Многие социологи и историки пытались выработать различные модели исторических изменений социальных систем и по-разному объясняли их причины. Проблема выяснения причин социальной динамики — одна из наиболее острых и неоднозначных проблем социологии.
Начнем краткий обзор с идей Питирима Сорокина. В своей фундаментальной работе «Социальная и культурная динамика»39 этот выдающийся классик социологии как раз и пытается ответить на вопрос о причинах и логике социальных трансформаций.
Сорокин выделяет три типа обществ: идеационный (ideational), идеалистический (idealistic) и чувственный (sensate)40.
ИДЕАЦИОННЫЙ ТИП
Идеационный тип соответствует обществу с радикально духовными устремлениям, основанному на пренебрежении земным в пользу небесного, абстрактного, трансцендентного. В таких обществах главенствуют идеи и моральные принципы. Русские философы-евразийцы называли это явление идеократией41.
Такое общество, как правило, аскетично и довольно жестко подавляет чувственные инстинкты, которые не входят в систему ценностей и скорее относятся к сфере досадных недостатков и грехов. Идеационное общество ориентировано на достижение трансцендентных горизонтов и в любой момент готово жертвовать земным и настоящим ради небесного и будущего (или золотого века — в будущем или в прошлом).
ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТИП
Следующий тип общества Питирим Сорокин называет идеалистическим. В нем преобладает рациональное начало, в котором сочетаются духовность (спиритуализм), ориентация на небесные, высшие, неземные ценности и внимание к материальной стороне жизни — вещам, ощущениям, чувствам, социальному и экономическому устроению.
В обществах идеалистического типа преобладает сбалансированность и гармония между духовным и материальным. Они более мягки и терпимы к материи, нежели идеационные. Утверждая в качестве нормы высокие героические требования, они, как правило, не очень настаивают на их безусловном и неукоснительном соблюдении.
ЧУВСТВЕННЫЙ ТИП
И наконец, чувственный (sensate) тип характерен для обществ, где преобладают материальные ценности и конкретные мотивации, где интерес к земным вещам затмевает собой духовные горизонты и делает рациональность относительной и прикладной — ей есть место только в сфере обслуживания материальных интересов.
Общества чувственного типа характеризуются эстетической развитостью, пластичностью, вниманием к деталям и нюансам, но в то же время низменностью нравов и ориентацией на наслаждение, комфорт и безделье.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТИПОВ ПО ПИТИРИМУ СОРОКИНУ
На основании своей главной социологической концепции об ограниченности социокультурных, философских и политических возможностей (из которых общество вынуждено выбирать свои ценностные ориентиры) П. Сорокин приходит к выводу о том, что никакого абсолютного прогресса не существует и что социальная динамика развертывается по строго определенной цепочке типов: идеационный–идеалистический–чувственный или чувственный–идеационный–идеалистический и снова чувственный.
Важно заметить, что последовательность именно такова: от чувственного переход осуществляется только к идеационному, а не к идеалистическому. Сорокин объясняет это тем, что от чувственной цивилизации, да еще находящейся в состоянии упадка (а упадок и есть предпосылка перехода к следующей фазе), мягкий возврат к гармоничному идеалистическому типу невозможен, и напротив, эксцессы материализма лечатся противоположными эксцессами фанатичного идеализма.
На базе огромного количества эмпирических данных Сорокин доказывает, что смена этих типов является общим свойством самых различных обществ — от архаических и религиозных до «цивилизованных» и самых современных. Он подробно разбирает природу влияний (внутренних и внешних), оказываемых на социокультурные системы и провоцирующих трансформации и флуктуации. В зависимости от направленности и качества этих сил общество того или иного типа может держаться долго или рассыпаться довольно быстро — длина исторического цикла общества каждого типа не может быть определена однозначно или даже приблизительно, так как это зависит от множества непредсказуемых факторов. Неизбежными являются только сама смена обществ и основные этапы, сопровождающие каждый цикл, — расцвет, укрепление (мужание) и распад42.
«АПОКАЛИПСИС» ПИТИРИМА СОРОКИНА
Современную западную цивилизацию П. Сорокин считает находящейся в стадии разлагающейся чувственности. По его мнению, это последняя фаза социума с ярко выраженной чувственной ориентацией. Идеационный период на Западе соответствует Средневековью, идеалистический — Возрождению и эпохе Просвещения, а со второй половины XIX века наступает эпоха материализма, экономизма и верховенства материального начала. На первых порах подъем чувственного типа ведет к расцвету науки и искусств, к реализму и открытию культурой «реального мира». Но к середине ХХ века эти тенденции вырождаются в культ гедонизма, комфорта, расслабленности.
Современное общество, по П. Сорокину, стоит на грани катастрофы. Доминация материализма, индивидуализма и экономизма приведет человечество к коллапсу, серии кровавых войн, социальных, экономических и экологических кризисов. Остальное человечество, подпавшее под влияние цивилизации Запада, захлебнется в этой материальности, перегниет в ней, и на смену всему этому — через болезненный катарсис, описываемый Сорокиным в апокалипсических тонах — снова придет идеационный порядок. Ценности иерархии, религии, трансцендентности, аскетизма и жесткого подавления материальных поползновений восторжествуют. И весь цикл смены фаз и флуктуаций повторится снова.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ ШАРЛЯ ЛАЛО
Современный французский философ и социолог Шарль Лало выдвинул свою модель смены доминантных стилей, но только в области эстетики. Он предложил тройственную модель эстетических форматов: предклассика–классика–постклассика. Это довольно точно соответствует общей социологической модели Премодерн–Модерн–Постмодерн или ее экономическому эквиваленту предындустриальное общество–индустриальное общество–постиндустриальное общество.
По классификации Лало, современное искусство находится в последней стадии постклассики, и подспудно уже сегодня зреют предклассические тенденции искусства будущего, которые дадут о себе знать в полную силу на следующем этапе43.
ДИНАМИКА МИФА У ДЮРАНА (СЕМАНТИЧЕСКИЕ БАССЕЙНЫ)
Несколько иная модель социокультурной динамики описана в социологии Жильбера Дюрана.
Дюран утверждает, что в социуме существует такое явление, как «семантический бассейн» (или «семантическое русло»)44. Это поток динамического утверждения в социуме того или иного главенствующего мифа в его различных ипостасях или комбинированных формах.
Дюран различает несколько стадий формирования «семантического бассейна». Это:
- стадия ручейков (различные архетипы символы, идеи, подчас принадлежавшие к прежним рекам, разрозненно текут в разных направлениях);
- стадия разделения вод (смысловые ручейки сливаются друг с другом и расходятся снова, в этой фазе образуется направление потока; это период споров и жарких теоретических дискуссий);
- стадия слияний притоков (крупные ручьи, движущиеся в одном и том же направлении, начинают сливаться, образуя основное русло; здесь миф получает более или менее четкие формы);
- стадия имени реки (смысловой поток захватывает широкие слои общества и приобретает четкое имя — того или иного бога, мифологического сюжета, научной теории);
- стадия организации берегов (исходя из основного смыслового вектора устоявшегося потока, осваиваются смежные области — миф выходит за свои границы и начинает влиять на самые различные социокультурные сферы);
- стадия дельты (смысловой поток исчерпывает свой потенциал и снова разделяется на отдельные ручейки, сила и динамика мифа иссякает).
ИОАХИМИТСКИЙ МИФ
По Дюрану, начиная с XIII века в Европе постепенно набирал силу иоахимитский миф (учение Иоахима де Флора о скором наступлении «третьего царства»). Вначале он выступает косвенно — через «братьев свободного духа», францисканцев, народные ереси. Потом ярко проявляется в Реформе и особенно в движении анабаптистов Томаса Мюнцера (около 1490–1525). Определенную роль в пропаганде этого мифа играет герметическая традиция: стремление алхимиков искусственным образом приблизить и ускорить «естественное» вызревание металлов в золото с помощью алхимических операций представляет собой сценарий приближения золотого века с помощью технических средств. М. Элиаде указывал на ту роль, которую герметическая традиция сыграла в формировании парадигмы Модерна и подготовке теорий прогресса.
Отсюда миф тянется к гуманистам, деятелям Просвещения, теоретикам буржуазных революций, социалистам-утопистам и далее — к Марксу и коммунистам.
Очень важная деталь: иоахимитский миф явно присутствует не только в коммунистической утопии, но и в буржуазных либеральных теориях построения общества «равных возможностей» и даже в национал-социалистических идеях о «планетарном тысячелетнем Рейхе».
Одним словом, Модерн и его социокультурные парадигмы структурировались под сильнейшим влиянием иоахимитского мифа. К этому же относятся и идеи основателя социологии Огюста Конта и его учение о «трех эрах» («trois etats»).
Семантический бассейн «иоахимизма» существует латентно, постепенно набирая силы в Средневековье (стадия ручейков), дает о себе знать в Возрождение и Реформацию (стадия разделения вод), полностью овладевает умами западного человечества в эпоху Просвещения (стадия слияний притоков), получает название «Нового времени» (стадия имени реки), становится магистральной и тоталитарной эпистемой, объемлющей все виды знания и культуры (стадия организации берегов), и, наконец, исчерпывается (стадия дельты), теряя свои силы и энергию ко второй половине ХХ века. Однако и в настоящее время мы продолжаем жить под влиянием этого мифологического потока, хотя уже совершенно изношенного, исчерпавшего свою энергию, инерциального и сходящего на нет.
Вместе с тем Дюран предчувствует развитие новых «семантических бессейнов», призванных сменить кончающийся иоахимитский миф.
МИФ О ПРОМЕТЕЕ
Как одну из составляющих иоахимитского мифа, как его семантический приток Дюран рассматривает миф о Прометее.
Циклический миф сезонного подъема и упадка был разъят на составляющие давно. Мы видели, что монотеистические религии понимают историю как регресс, выделяя в цикле линию Эпиметея. Это, как мы показали, есть следствие воздействия на циклическую картину героического солярного мифа тотальной борьбы со временем и основание консервативной социальной установки («замедляющего времени», по Гурвичу). Разъятая окружность цикла в ходе работы иоахимитского «семантического потока» открыла возможность взлету популярности второй — восходящей — половины циклической окружности, то есть мифу о Прометее. Он появляется у романтиков [Ф. Шиллер (1759–1805), Д.Г. Байрон (1788–1824), В. Гюго (1802–1885)], аффектирует Маркса и теории рабочего движения и находит свое выражение даже у теоретиков «консервативной революции», таких как Эрнст Юнгер (1895–1998), в своем «Труженике» выводящий на первый план фигуру титана, имеющего многие прометеические черты.
Прометей — сын титана или сам титан, согласно Эсхилу (525–456 до н. э.), принадлежащий к социальной группе низших сословий под эгидой римского бога Квирина и божеств плодородия, размножения, труда. И третье сословие (буржуазия), и пролетариат в равной мере могут видеть в фигуре Прометея символ их социальной борьбы. Энергетическая упругость этого мифа в полной мере реализуется в XIX–XX веках, доходя до апогея в буржуазных, социалистических и фашистских революциях.
Но уже с конца XIX века, когда социальные и политические энергии этого мифа на подъеме, появляются первые признаки его изношенности. Прометеизм все больше аффектируется декадентством и постепенно сползает в эстетический сатанизм. (Мифологическая близость Прометея и Сатаны, особенно в его ипостаси Люцифера, очевидна.)
МИФЫ О ДИОНИСЕ
По Дюрану, с середины XIX века, как раз в русле декадентского течения, постепенно складывается новый семантический бассейн — на сей раз это миф о Дионисе, боге ночи, оргий, экстаза, опьянения и растворения в хаосе витальных энергий. Здесь мы имеем дело с чистым ноктюрном, от синтетической формы переходящим в мистическую.
Миф о Дионисе вначале захватывает творческую элиту [«Цветы Зла» Бодлера (1821–1867), «La-bas» и «Au rebours» Гюисманса (1848–1907), поэзия А. Рембо (1854–1891), С. Малларме (1842–1898), труды Оскара Уайльда (1854–1900), импрессионизм и все последующее постклассическое современное искусство]. Затем он распространяется на средства массовой информации, где нормой становится «дионисийский» кодекс поведения (низкий уровень образования, свободные нравы, либертинаж, толерантность к извращениям, алкоголизм, наркомания). В 1960-е годы ХХ века этот стиль передается широким молодежным массам (движение битников, хиппи и т. д.) и из достояния отдельных групп и социальных прослоек становится общим знаменателем современной западной (особенно молодежной) культуры — лаксистской («всепозволяющей»), гедонистической, распущенной, подчас первертной, основанной на индивидуализме как высшей ценности.
Это триумф праздного мифа о Дионисе, вытеснившего трудовой, революционный и мессианский миф о Прометее.
МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ЖИЛЬБЕРА ДЮРАНА
Дюран считает, что миф о Дионисе, ставший практически «параллельной религией» современного западного общества — «общества потребления», — также исчерпал сегодня свою притягательность, подточив социальную систему чрезмерным притоком энергии ноктюрна. Этот миф из творческого и сознательного проекта нонконформистской элиты стал достоянием широких масс, которые приземлили и опошлили его несущие конструкции. Гомоэротизм декадентов из нонконформистского вызова превратился в моду и банальное извращение, утратив свою драматическую и в некоторой степени инициатическую (дионисийскую) природу — вплоть до превращения в социальную норму в рамках теории «прав человека» и императива «толерантности». Дионисизм разложил социальные структуры общества, подготовив почву для Постмодерна, который приходит под знаком мифа о Дионисе, причем в его разлагающейся, поздней, плебейской стадии.
Дюран считает, что эксцесс толерантности и преобладание ноктюрна в западной социокультурной модели конца ХХ — начала XXI века приведет с необходимостью к новому всплеску героических и солярных мифов, то есть к «возвращению Аполлона». В этом мифологический прогноз Дюрана совпадает с точкой зрения Питирима Сорокина на неизбежность перехода — через серию катастроф — к идеационной модели общества.
МИФ О ГЕРМЕСЕ
Сам Дюран персонально предпочитал миф о Гермесе, то есть не жесткий диурн, но и не дионисийский разгул, не говоря уже о навязчивом мифе о Прометее, который, по меньшей мере интеллектуальной элите Запада, явно «приелся». Кстати, этот подход параллелен симпатии Питирима Сорокина к идеалистической модели (промежуточной, в его теории, между идеационной и чувственной). Но показательно, что и Дюран, и Сорокин признают, что слишком далеко зашедшее разложение чувственной (дионисийской) культуры едва ли сможет остановиться на золотой середине, и, вероятнее всего, следующий миф будет представлять собой полную противоположность нынешнему. То есть за периодом анархии и гедонизма последуют жесткая диктатура и аскетическая мораль.
Дюран рассматривал семинар «Эранос» и миссию интеллектуального кружка, к которому он сам принадлежал, как проект возрождения мифа о Гермесе, «психопомпе», «водителе душ». Гермес — фигура, объединяющая логос и мифос, диурн и ноктюрн, богов и смертных. Он представлял бы, по Дюрану, мягкий выход из той ситуации, в которую завело человечество и в первую очередь западную цивилизацию некритическое следование Модерну как в его активной оптимистической фазе (Прометей), так и в усталой гедонической стадии (Дионис).
В этом состоит, по Дюрану (по меньшей мере, так его можно понять), спор о Постмодерне. Станет ли он гармоничным переходом к мифу о Гермесе — фигуре, сочетающей противоположности (тоже трикстере, как Прометей, но только со стороны богов, а не со стороны титанов), или окажется последней фазой дионисийского разложения, призванного похоронить современную цивилизацию, вслед за чем придут новые мифы и новые «семантические бассейны»?
Вопрос остается открытым.
КЛАССОВАЯ БОРЬБА
В марксизме мотором социально-культурной динамики выступает принцип классовой борьбы. Марксистская диалектика мыслит в качестве движущего фактора истории постепенное обострение классовых противоречий, достигающее своего апогея в капиталистическом обществе, где буржуа имеют все, а пролетариат — ничего. Маркс предвидит, что это противоречие разрешится в ходе пролетарских социалистических революций. Построение коммунизма положит конец истории, и коммунистическое общество будет «вечно» развиваться в свободном и неантагонистическом режиме.
Неудачный опыт СССР, отсутствие пролетарских революций в должные сроки и постепенное рассасывание пролетариата в странах Запада опрокинули стройность марксистских построений как достоверных социологических прогнозов будущего. И в настоящее время современный марксизм, пытаясь обосновать свою адекватность и пояснить теоретические несоответствия своих прогнозов логике исторического процесса, вынужден подвергать свои классические построения ревизии и все больше обращать внимание на «надстройку» («суперструктуру»), то есть «числитель» социальной дроби, на социальный логос — культуру, идеологию, интеллигенцию, эпистемы и т. д. [по этому пути еще ранее пошли А. Грамши (1891–1937), философы Франкфуртской школы] — или на сферу бессознательного (фрейдомарксисты).
В результате марксистская социология утратила доказательность и наглядность, а идеи Маркса служат сегодня не столько догмой (в этом качестве они более практически никем не принимаются), сколько источником вдохновения для одних и набором отдельных тонких и подчас остроумных социально-экономических и социально-политических интуиций для других (отсюда устойчивый интерес к раннему Марксу, к «Экономико-философским рукописям 1844 года»45 и т. д.).
РАСОВАЯ БОРЬБА
Теория Людвига Гумпловича о «расовой борьбе»46, намного менее популярная, нежели социологические конструкты исторической топики и движущих сил марксизма, объясняет многие исторические процессы формирования аллогенных (чужеродных) элит в контексте аборигенных масс. Хотя сам Гумплович был этническим евреем, его (и сходные) идеи в определенной мере были подхвачены и развиты идеологами расизма, утверждающими, что расовая борьба есть движущая сила истории и что «высшие расы» должны установить и поддерживать контроль над «низшими».
В национал-социализме подобные идеи приобрели форму теории «еврейского заговора» и привели к практике истребления евреев, а также других якобы «неполноценных» народов, в число которых расистские теоретики включали цыган, африканцев и даже славян (хотя славяне — ветвь индоевропейской, то есть арийской расы).
ОТ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАСИЗМА К КУЛЬТУРНОМУ
После 1945 года и открывшихся эксцессов расовой политики Гитлера значение аналогичных теорий было полностью дискредитировано и сведено к нулю. И сегодня едва ли кто решится рассматривать всерьез межрасовые и межэтнические отношения как «движущую силу исторического процесса». Но вместе с тем антирасизм западной культуры, резко возросший после 1945 года, как правило, не способен преодолеть определенный барьер в самокритике, и западная цивилизация (особенно в лице США) до сих пор пытается навязать остальному человечеству свою систему ценностей как «оптимальную», «универсальную» и «наиболее развитую», демонстрируя тем самым несколько завуалированный культурный расизм. Расизм и расовая борьба переходят здесь от уровня биологического и колониального на уровень аксиологический. Распространение американских ценностей (свободы, демократии, рынка, прав человека и т. д.) становится для американских политиков целью и смыслом исторического процесса. В этом современном американском «демократическом мессианстве» можно распознать последнюю попытку западного социального логоса установить свою власть над миром, подмяв под себя, подавив и заглушив все противоречащие этому внешне (со стороны иных цивилизаций) и внутренне (со стороны собственного коллективного бессознательного) тенденции. В этом смысле вполне можно сказать, что «расовая борьба» продолжается сегодня в форме навязывания США своих стандартов в качестве глобальных и универсальных всему остальному человечеству.
В этом можно также легко распознать иоахимитский миф, но только в либерально-демократическом (иногда фундаментал-протестантском) оформлении. Некоторые теоретики американской гегемонии, в частности Фрэнсис Фукуяма, поспешили в 1990-е годы провозгласить «конец истории»47, то есть победу американских ценностей над всеми иными ценностями в мировом масштабе и планетарный триумф либерализма. Еще более откровенно говорят о необходимости построения американской империи и установлении «благой гегемонии» («benevolent hegemony») в мировом масштабе современные американские неоконсерваторы (У. Кристол, Р. Кэйген, Ч. Капчин, П. Вулфовиц, Т. Барнетт и т. д.), еще совсем недавно занимавшие ключевые посты в администрации президента Буша-младшего.
ТРАДИЦИОНАЛИСТСКИЙ МИФ О «КОНЦЕ СВЕТА»
Еще одной версией относительно движущих факторов исторической синтагмы является традиционалистская философия, представленная такими авторами, как Рене Генон и Юлиус Эвола (1898–1974). В целом она совпадает с исторической топикой западного социального логоса, но совершенно противоположным образом расставляет акценты.
Традиционалисты утверждают в качестве основной идеи истории идею регресса48. В этом они солидарны с большинством религиозных учений, справедливость которых традиционалисты полностью признают. Но в отличие от конкретных религий, связанных со своими конфессиональными представлениями и догматами, традиционалисты поставили своей целью описать общий для разных религий сценарий социокультурных трансформаций49. Они-то и выделили на этом пути миф о регрессе как общую модель монотеистических и немонотеистических религиозных представлений.
Для традиционалистов общество деградирует от золотого века к веку железному. Миф и религия, в целом «традиционное общество» видятся ими как «нормальное» и «нормативное». Модерн же — с его мифом о прогрессе, материализмом, рационализмом, индивидуализмом и экономизмом — представляет собой аномалию, болезнь, признак близости «конца времен».
По реконструкции Р. Генона, история человечества проходит три фазы, которые он описывает через символ «космического яйца»50. В эпоху Премодерна «яйцо мира» (можно сказать, «социум») открыто сверху, и через отверстие в мир проникают «божественные энергии». В Модерне «яйцо мира» закрывается; это эпоха материализма и позитивизма. Далее Генон предсказывает следующий этап, который довольно точно соответствует Постмодерну, когда «яйцо мира» будет открыто снизу и в мир хлынут «демонические» энергии «подтелесного», инфернального уровня, библейские орды «гогов и магогов».
В этом случае будущее (да и настоящее, так как для постмодернистов «завтра уже наступило») будет апокалипсическим (не в переносном смысле, как у социологов, но в самом прямом и непосредственном). При этом Генон считает, что приближающаяся катастрофа будет не локальной, но глобальной и универсальной; она поставит точку в истории этого человечества и начнет новый «золотой век», в котором будут жить иные люди (или какие-то другие существа), не имеющие с нынешним человечеством никакой генетической связи.
В целом в традиционалистском мифе движущей силой истории является энтропия, естественный упадок любой проявленной реальности: как только реальность переходит от потенциального состояния в актуальное, считают традиционалисты, она обречена на постепенное рассеивание вплоть до обрушения в хаос и небытие.
А на следующем уровне потенциальность вновь исторгает из себя новую актуальность и все повторяется опять (золотой век — серебряный — медный — железный — снова «конец света»).
Контрольные вопросы
1. Назовите три типа обществ, по П. Сорокину.
2. Какова последовательность трех типов обществ и почему она именно такова?
3. Как понимает динамику мифа Жильбер Дюран?
РЕЗЮМЕ
Подведем итог нашему обзору концепций социального времени.
1. Время есть социальный конструкт, и представления о нем (от мифологического до научного) являются следствием базовых характеристик конкретного общества, то есть функцией от социального целого в его конкретном моменте.
2. Время может мыслиться самыми различными способами. Наиболее общими представлениями о нем являются идеи цикла, идеи регресса и идеи прогресса; кроме того, в некоторых социальных сегментах мы встречаем ориентацию на прямое и однозначное сопротивление времени (что составляет смысл и причину существования основных социальных институтов, мыслимых как нечто перманентное).
3. Время может иметь различные характеристики в разных обществах, которые сосуществуют друг с другом, что требует в каждом случае выяснения модели локального социального времени, а также соотнесения между собой периодов, в которых пребывают изучаемые общества (характер этого соотнесения определяется тем, какую обобщающую социологическую модель мы принимаем за основу — а выбор здесь довольно широк).
4. Время может иметь различные свойства в одном и том же обществе в зависимости от того, какой социальный слой, класс, страту или сегмент мы рассматриваем (пример — «восемь времен» Гурвича).
5. Время социального логоса, который претендует на универсальность в форме распространения базовых социологических нормативов западной цивилизации в планетарном масштабе, дублируется в самой западной цивилизации множественностью социальных времен в его глубинных пластах (социальных и бессознательных), то есть линейный прогресс «числителя» имеет параллелью веер мифологических конструкций времени в «знаменателе». Кроме того, действие «знаменателя» и его концепций мифологического времени многократно усиливается в случае гибридных обществ (то есть систем археомодерна (псевдоморфоза), прошедших или проходящих в настоящее время процесс аккультурации). И наконец, глобальное распространение линейного логоса в определенных случаях входит в прямой конфликт с иными конструктами времени в локальных незападных культурах (религиозных и архаических).
6. Концепция времени в Постмодерне претерпевает фундаментальные изменения, и мы стоим на пороге существенных трансформаций в этой сфере, которые приобретут, вероятно, довольно катастрофические черты под воздействием многочисленных внутренних и внешних факторов. По мере укрепления социальных структур Постмодерна мы в скором времени столкнемся с новыми формами времени — например, с тем, что Жан Бодрийяр называет «постисторией». Одна из версий подобного поствремени описана в форме ризомы у Ж. Делёза.
Многие социологи (а также философы, культурологи, историки, антропологи и т. д.), занимавшиеся проблемами циклов, периодизации и социального времени, приходят с разных сторон к единодушному мнению, что в настоящее время западная цивилизация переживает переломный момент, ситуацию фундаментального социального кризиса, за пределами которого ее и все человечество ждут серьезные потрясения, крушение старых мифов и появление новых, качественно отличных от предыдущих. Можно сказать в этой связи, что путь освобождения логоса от мифоса (который был смыслом становления современной западноевропейской цивилизации) достиг своего естественного предела и на следующем этапе человечество будет вынуждено отнестись к диалектической проблеме «логос vs мифос» совершенно иначе.
1 Bergmann W. The Problem of Time in Sociology // Time & Society. 1992. Vol. 1. №. 1. P. 81–134.
2 Врач, излечи самого себя (лат.).
3 Сорокин П. Социальная и культурная динамика. М., 2006.
4 Nisbet R. History of the Idea of Progress. New York: Basic Books, 1980.
5 Nisbet R. History of the Idea of Progress. New York: Basic Books, 1980.
6 Современный социолог Петр Штомпка обращает внимание на то, что в ХХ веке теория прогресса постепенно сменяется теорией кризиса. См.: Sztompka P. The Sociology of Social Change. Blackwell: Oxford and Cambridge, 1993.
7 Важные шаги сделал в этом направлении философ Ролан Барт (1915–1980), один из создателей постмодернистской философии. См.: Барт Р. Мифологии. М., 1996.
8 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: Изд-во АСТ, 2004.
9 Начиная с феноменологии Э. Гуссерля (1859–1938), повлиявшей на структурализм, философы предпочитают говорить не о времени как о явлении, сопряженном с объектом и материей и присущем им безотносительно чего бы то ни было, но о «темпоральности», то есть о времени как о феноменологическом конструкте. См.: Husserl E. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins / ed. R. Bohm. The Hague: M.: Nijhoff, 1905.
10 См.: Делёз Ж. Логика смысла. М.: Екатеринбург, 1998; а также: Дугин А. Постфилософия. М., 2009, где подробно излагается концепция времени Делёза.
11 Подробнее см.: Делёз Ж. Логика смысла. М.: Екатеринбург, 1998; а также: Дугин А. Постфилософия. М., 2009.
12 См.: Дугин А. Радикальный Субъект и его дубль. М., 2009.
13 Дословно — «времяборчество», по аналогии с «иконоклазмом» («иконоборчеством») (греч.).
14 См.: Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М., 1996.
15 Леви-Стросс К. Мифологики. Сырое и приготовленное. М.; СПб., 1999.
16 Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология. М., 2006.
17 См.: Элиаде М. Космос и история. М., 1987; Он же. Миф о вечном возвращении. М., 2000; Конец света / Под ред. А. Дугина. М.: Арктогея, 1998. С. 159–177.
18 Это дало основание историкам и археологам диффузионистской школы (в частности, Г. Вирту) сделать вывод об изначальной этнической инаковости аристократии архаических обществ (что подтверждается гипотезой социолога Л. Гумпловича об аллогенности элит в любой социальной структуре). См.: Wirth H. Die Aufgang der Menschheit. Berlin, 1927; Idem. Die Heilige Urschrift der Menschheit. Berlin; Leipzig, 1936, где собран огромный систематизированный палеоэпиграфический материал и предпринята попытка кодификации и классификации изначальных архаических символов и их сочетаний.
19 См.: Evola J. La Rivolta contro il mondo moderno. Roma, 1998, где даны интересные попытки систематизации кастовых и гендерных закономерностей древнейших обществ. Эта книга являет собой яркий пример социологии традиционалистской школы.
20 Сакральный характер бытовых (преимущественно женских) занятий в традиционном обществе воспел русский поэт Николай Клюев в поэме «Мать-Суббота» («Ангел простых человеческих дел»). См.: Клюев Н. Стихотворения и поэмы. М., 1991. См.: Мосс М. Социальные функции священного. СПб., 2000.
21 Для религии свойственно наличие «тео-логии», то есть «логического» (в той или иной степени) описания божества и его структур.
22 Генон Р. Кризис современного мира. М., 1992; Дугин А. Пути Абсолюта // Абсолютная Родина. М., 1999.
23 См.: Дугин А. Метафизика Благой вести // Абсолютная Родина. М., 1999.
24 См.: Дугин А. Метафизика Благой вести // Абсолютная Родина. М., 1999.
25 Там же.
26 См.: Дугин А. Метафизика Благой вести // Абсолютная Родина. М., 1999.
27 Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993.
28 См.: Gurvitch G. Traite de sociologie. Paris: PUF, 1960.
29 Gurvitch G. The Spectrum of Social Time. Dordrecht: Reidel, 1964.
30 Дугин А. Время Ляпунова // Русская Вещь. М., 2001. Т. 2.
31 Сорокин П. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
32 П. Сорокин считал, что в общество-свалку превращается выродившаяся чувственная культура, к которой он относил культуру современного Запада. См.: Сорокин П. Главные тенденции нашего времени. Указ. соч., а также: Он же. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006.
33 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция // Философия эпохи постмодерна. Минск, 1996. См. также: Дугин А. Постантропология // Радикальный Субъект и его дубль. М., 2009.
34 Ленин В.И. Избранные сочинения: В 10 т. М.: Политиздат, 1984–1987. Т. 2.
35 Это убедительно показывает в своих работах современный историк И.Я. Фроянов. См.: Фроянов И.Я. Древняя Русь. СПб., 1995, а также: Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Былинная история: Работы разных лет. СПб.: Изд-во СПбУ, 1997, где речь идет о слабости развития феодализма в Киевской Руси, а также: Фроянов И.Я. Драма русской истории. СПб., 2007, где описывается специфика политического и идеологического устройства Московской Руси в XV–XVI вв., существенно отличающегося от социальных систем Западной Европы того времени.
36 См.: Кара-Мурза С. Советская цивилизация. М., 2002. Т. 1–2.
37 Подробнее эта схема изложена: Дугин А. Теория евразийской экономики: синхронизм трех укладов, гипотеза вечности, интеграционный императив // Вестник аналитики. 2005. № 1(19).
38 Термин «неолитическая революция» был предложен австралийским археологом Гордоном Чайлдом (1892–1957).
39 Сорокин П. Социальная и культурная динамика. М., 2006.
40 П. Сорокин писал свои поздние труды по-английски и сам задумывался над переводом фундаментальных для его теории терминов на русский язык, полагая, что все варианты неточно передают смысл английских понятий. Например, в русском слабо различаются оттенки понятий «идеационный» и «идеалистический», а редкое английское слово «sensate», образованное на основе «sense» — «чувство», но также «орган чувств» и даже «смысл», вообще не поддается корректному переводу.
41 Основы евразийства / Под ред. А.Г. Дугина. М., 2002.
42 В чем-то сходные фазы в развитии этнической (этносоциальной) системы выделял Л. Гумилев (1912–1992) — пассеизм («героизм и верность прошлому»), актуализм («жить одним днем»), футуризм («бегство от мира» и «пустое мечтательство»).
43 В современном российском искусстве предклассическими тенденциями можно назвать Санкт-Петербургскую школу Тимура Новикова (1958–2002) и направление, представленное московским художником Алексеем Беляевым-Гинтовтом, лауреатом премии Кандинского за 2008 год.
44 Идея «семантического бассейна» развита Дюраном в более поздних трудах. См.: Durand G. Introduction à la mythodologie. Paris: Albin Michel, 1996.
45 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. Из ранних произведений. М., 1956.
46 Gumplowicz L. Der Rassenkampf: Sociologische Untersuchungen. Innsbruck, 1883. См. также: Гумплович Л. Основания социологии. СПб., 1899.
47 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2004, а также интервью автора с Ф. Фукуямой. Идеи имеют большое значение // Профиль. № 23(531). М., 2007. См. также: Gerson M. The Neoconservative Vision: From the Cold War to the Culture Wars. Madison Books, 1997; Irving K. Neo-Conservatism: The Autobiography of an Idea: Selected Essays 1949–1995. New York: The Free Press, 1995; Ehrman J. The Rise of Neoconservatism: Intellectual and Foreign Affairs 1945–1994. Yale: University Press, 2005; Shadia D. Leo Strauss and the neoconservatives. Evatt Foundation. September 11. 2004.
48 Генон Р. Кризис современного мира. М., 1991; Он же. Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм Данте. М., 2003; Эвола Ю. Пришествие «пятого сословия» // Элементы. № 5. М., 1994; Evola J. Rivolta contro il mondo moderno. Milano: Hoepli, 1934; Cavalcari la tigre. Milano: Vanni Scheiwiller, 1961.
49 См.: Дугин А. Постфилософия. М., 2009.
50 Генон Р. Царство количества и знамения времени. Указ. соч. См.: Дугин А. Постфилософия. Указ. соч.
РАЗДЕЛ 4
СОЦИУМ КАК ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. СОЦИОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА
ГЛАВА 4.1
ПРОСТРАНСТВО КАК МЕТОД. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ О СОЦИОЛОГИИ ПРОСТРАНСТВА?
Мы можем говорить о социологии пространства: так и поступают многие социологи, указывая на тот простой факт, что разные общества не просто понимают пространство по-разному, но имеют дело с совершенно различными пространствами, которые, более того, дифференцируются в зависимости от того социального сегмента или рассматриваемой социальной группы.
Но в рамках структурной социологии было бы совершенно некорретным автоматически проецировать на пространство то, что мы сказали о времени. Время есть социальный конструкт. А с пространством дело обстоит несколько иначе. Здесь все сложнее.
Тезис о том, что социум порождает время, безупречно точен. А вот тезис о том, что социум порождает пространство, не только не точен, но может привести нас к совершенно неадекватным выводам.
Иными словами, хотя между социологией пространства и социологией времени и есть некоторые аналогии, но прямой симметрии нет.
СОЦИАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ДЮРКГЕЙМА
Размышляя о соотношении социума и пространственного фактора, основатель классической социологии Эмиль Дюркгейм выдвинул тезис о социальной морфологии. Однако на практике это вылилось не в анализ социальных моделей пространства, а в построение карты общества, то есть в понимание общества как пространственного явления, описание общества как синхронической (пространственной, статичной) фигуры. За Дюркгеймом то же движение мысли повторил Марсель Мосс, критиковавший «слишком поспешные», на его взгляд, выводы представителей антропогеографии (сторонников «географического детерминизма» и геополитиков) и настаивавший на разработке социальной топики, где основой, фундаментом является сам социум, а не окружающая его географическая среда.
На первый взгляд можно оценить это как попытку абстрагировать культуру от природы, свойственную самому рациональному духу логоцентричной европейской цивилизации. Но это не совсем так. Задумываясь о пространстве, рефлектирующий свою профессиональную позицию социолог всегда вначале сталкивается с проблемой общества как пространства и лишь затем — во вторую очередь! — обращается к исследованию конкретных моделей социального понимания пространства. Этим вплотную занялся ученик Дюркгейма М. Хальбвакс (1877–1945) на примере изучения религиозной географии Святой земли, Палестины.
К значению этой последовательности — социальная морфология вначале, а социальный взгляд на пространство потом — мы обратимся чуть позже.
М. ХАЛЬБВАКС: КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ И ТОПОЛОГИЯ СВЯТЫХ МЕСТ
Социология Хальбвакса была сконцентрирована на исследовании «коллективной памяти». По наличию общей коллективной памяти и коллективной памяти отдельных социальных групп Хальбвакс стратифицировал общественную среду.
Это привело его к более пристальному изучению Святых мест Палестины, где различные религиозные группы (католики, протестанты, мусульмане, иудеи, сектанты) совершенно по-разному интерпретировали географию и значение библейских и евангельских событий. Маршруты для паломников этих групп и сама топика оказались совершенно различными. Пространств было столько же, сколько социальных сегментов, наделенных общей коллективной памятью — в данном случае религиозной.
Это дало Хальбваксу основание утверждать, что общество, интегрированное общей коллективной памятью, имеет дело с соответствующей моделью пространства, что объединяет его членов и помещает их в один и тот же пространственный контекст, делает их социальными соседями, «ближними». Дифференциация социальных групп по наличию особых форм коллективной памяти дифференцирует и их взгляды на пространство. Это сказывается на различиях представлений о пространстве у жителей города и села, а также различных районов города — например, кварталов для богатых и для бедных, и т. д.
Итак, проблема пространства в классической социологии делится на две части: на социальную морфологию (о чем говорили преимущественно Дюркгейм и Мосс) и на исследование социальной интерпретации пространства (чем занимался Хальбвакс).
СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ
Начнем с социальной морфологии. В основании самого базового социологического метода лежит представление об обществе как о пространстве. И на этом строится все здание социологии.
Прежде чем исследовать динамику, изменения, флуктуации, развитие общества, социология (в первую очередь структурная, но в некотором смысле вся социология есть структурная социология) выделяет его постоянную часть и описывает эту постоянную часть как синхроническую картину, как парадигму. Это и есть социальная структура. Социальная структура — это статическое изображение общества.
Морфология общества может быть наглядно представлена через двухмерную систему координат. Двухмерность — важный характер любого фигуративного изображения (как мы увидим несколько позже).
В ней есть ось Y (ось социальной стратификации) и ось Х (ось социальных групп). Точкой, то есть объектом социального исследования, является статус. Можно говорить об индивидуальном носителе статуса, а можно о коллективном.
Ось Y обобщает четыре оси социальных благ (власть, богатство, образование, престиж). Эту схему мы приводили в первом разделе. Выбор этих критериев не случаен, но основывается на тщательном изучении несколькими поколениями ученых релевантных факторов при построении социальной морфологии. Это и есть социум как пространство, то есть схема, учитывающая основные и социально значимые факторы социального существования. Это социологическая «mappa mundi», «карта планеты». В этой простой схеме сосредоточены глубины социологического метода (схема 13).
В ней заложены имплицитно несколько важнейших предпосылок.
1. Общество на морфологическом уровне фундаментально статично, синхронично, атемпорально1..
2. Социальное содержание факта, явления, действия, института и т. д. вытекает из его корректного позиционирования в корректно выстроенной предварительно системе координат (которая должна учитывать локальные отличия конкретного общества от фундаментальной схемы).
3. Статус — явление переменное (социальная мобильность П. Сорокина — важнейший принцип) не только в смысле возможности его изменить, но и в смысле того, что такое изменение влечет за собой изменение социального содержания того, кто является носителем этого статуса. Статика социума предопределяет динамизм и изменчивость социального атома (то есть «социологического человека»).
В этой социальной морфологии мы имеем дело с качественным пространством, то есть с таким пространством, в котором значение (смысл) точки определяется ее координатами, то есть соотнесением с целым (отсюда аксиома Мосса — «общество есть явление тотальное»).
СИСТЕМА В СОЦИОЛОГИИ
Чтобы подчеркнуть специфику пространственной природы социологии, иногда говорят о структурной социологии (как Сорокин и мы), а иногда вводят понятие социальной структуры. Социальная структура не есть нечто особое; это общество, осмысленное в контексте классической социологии — как синхроническая статическая карта.
В науке нередко любое утверждение влечет за собой его оспаривание, и поэтому с начала становления социологии мы встречаемся с попытками опрокинуть этот базовый структурный подход. «Понимающая социология» пытается обосновать социальную онтологию атома (социологического человека) — иногда через индивидуальный рационализм (Вебер), иногда через апелляцию к жизни — в духе Бергсона и Дильтея (Зиммель), иногда через выделение взаимодействий как несущей силы социальных процессов (Дж.Г. Мид, Ч.Х. Кули и другие). Чикагская школа — У. Томас, Ф. Знанецкий, Р. Парк (1864–1944) и т. д. — тяготела к исследованию частных случаев (case study), избегая обобщений, действуя в духе прагматизма. Социологическая феноменология — А. Шюц (1899–1959) — исходила из исследований микросоциума обывателя. Наконец, психологическое направление в социологии — Ж.Г. Тард (1843–1904), Ф.Г. Гиддингс, Л.Ф. Уорд — стремилось обосновать автономность индивидуума со ссылкой на его психическую и биологическую сингулярность и описать через индивидуальную психологию социальные процессы. Но постепенно сложилась и более интегрированная и организованная инициатива, вылившаяся в разработку системной социологии.
Структура как пространственное изображение социума отличается от системы как попытки представить социум в его динамике. Структурный (классический) подход утверждает первичность парадигмы — фундаментальная картина общества признается неизменной, а динамика групп, точек, статусов и внешнее изменение всего общества (политическое, идеологическое, экономическое, религиозное и т. д. — аффектирующими лишь поверхностные аспекты, ничего не меняющие в сущности общества.
Системный подход, доведенный до логического предела, показывает, напротив, что структура есть сиюминутный момент в динамике статусов и общественных отношений, что природа социума диахронична. Систематика основана на доминации синтагмы.
Системная социология, претендующая на социологическое обоснование диахроничности, является прямой наследницей философии истории, субпродуктом прогрессизма.
Идеи, лежащие в основе системной социологии, можно встретить у Т. Парсонса и особенно у Н. Лумана (1927–1998). В настоящее время их развивают такие социологи, как П. Штомпка2, М. Кастельс3 и т. д.4
СОЦИОЛОГИЯ ЗАВТРАКА
Поясним на простейшем примере различие между структурным и системным подходами. Каждое утро человек завтракает. Но каждый раз процесс завтрака в чем-то меняется. Сегодня человек пьет кофе с молоком и ест бутерброд с ветчиной. Завтра он пьет кофе без молока и съедает яичницу. Послезавтра он кладет в чашку кофе два кусочка сахара, а на следующий день он сыплет в нее три ложки сахарного песка (сахар в кусочках закончился).
Социологически завтрак можно описать двумя способами — структурно или системно. Структурное описание будет выглядеть приблизительно так: человек каждое утро, завтракая, совершает одно и то же действие с одним и тем же смыслом. Это константа, процесс, который встроен в общий распорядок жизни. Смысл завтраку придает именно весь контекст, а не его детали: ест ли человек яичницу или ограничивается бутербродом с вареньем — второстепенно и несущественно. Как структуралисты, мы должны зафиксировать наше внимание на самом завтраке как неизменном явлении и изучать его в координатах других столь же постоянных событий — обедов, ужинов, рабочего времени, досуга, семейных отношений, экономической состоятельности, статуарных особенностей (завтрак президента, олигарха, академика и телезвезды структурно отличается от завтрака безработного, нищего, невежественного и никому не известного маргинала — если взять крайние социальные страты). В принципе структурный подход — это наиболее общий и распространенный метод любого социологического исследования.
Системные социологи поступают иначе. Они считают, что раз в каждом случае завтрака мы имеем дело с большим количеством различий (сегодня одна ложка сахара, завтра две; сегодня молоко добавляется, завтра нет; сегодня яичница, завтра печенье, и т. д.) и совокупность этих различий может дополняться до бесконечности, то мы имеем дело с разными социальными событиями, которые представляют собой всякий раз различные системы, складывающиеся из индивидуальных деталей каждого конкретного завтрака каждого конкретного индивидуума. Каждый завтрак берется как нечто индивидуальное, неповторимое и раскрывающее свое содержание именно в силу своего отличия от всех остальных завтраков — предыдущих и последующих. Каждый завтрак есть система, выстраивающаяся из совокупности бесконечных индивидуальных деталей. И всякий раз эта система представляет собой отдельный случай (case), где то обстоятельство, что речь идет именно о завтраке, теряется среди множества других рядоположенных моментов социологического описания процесса.
Структурный анализ завтрака выделяет неизменную (если угодно, пространственную) морфологическую константу, считающуюся смыслообразующей. Системный анализ выводит смысл из времени и индивидуальности каждой конкретной ситуации, объясняемой с опорой на строго локализованный момент, создающий всякий раз новую систему, новые оси координат и, соответственно, новые смыслы.
ПАРЕТО И УОРНЕР: ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТАТИКИ
И УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУР
Ярким примером структурной социологии являются идеи круга социолога Вильфредо Парето. В своих трудах он показывает, что изменения западноевропейского общества в Новое время со всеми претензиями на «демократизацию», «либерализацию», «отказ от тирании, диктатуры и абсолютизма» ничего не меняют в сути социального неравенства между «элитами» и массами». Как бы ни называли себя правящие элиты — «кастой», «сословием», «классом» или даже защитниками «свободы, равенства и братства», — они функционально выполняют те же самые роли, что и всегда, только под новыми вывесками.
Исследования американского социолога Уильяма Ллойда Уорнера (1898–1970) в рамках изучения социальной стратификации небольших американских городов, например, показывают, что хваленые заявления об «обществе равных возможностей» не соответствуют действительности и принадлежность к тому или иному социальному классу до сих пор в огромной степени предопределяет судьбу современных американцев — жителей среднего индустриального городка. А те исключения, которые апологеты американского общества любят приводить как иллюстрацию высокой социальной мобильности их общества, могут быть найдены почти в той же статистической пропорции среди самых жестких и закрытых социальных систем (включая кастовые). Так, социальный лифт может обеспечить какой-то религиозный институт (например, монашество, позволившее мордовскому крестьянину из малообеспеченной, никому не известной и слабообразованной нижегородской семьи стать почти самовластным правителем жестко иерархизированного общества Московской Руси — речь идет о Никите Минове (1605–1681), известном также как могущественный патриарх Никон).
КРАХ СССР КАК УРОК НАГЛЯДНОЙ СТРУКТУРНОЙ СОЦИОЛОГИИ
Можно рассмотреть эту же закономерность устойчивости социальных структур на примере судьбы четырех осей социологии в советском обществе. После революции 1917 года было объявлено, что будет построено общество, радикально отличающееся от старого. Предполагался слом всех четырех осей, классических для стратифицированного классового общества, — власть (народу), богатство (рабочим и крестьянам и всем поровну), образование (равное и всеобщее), престиж (для всех одинаковый).
Ось власти восстановилась сразу — даже не после революции, а в процессе революции (необходимость политической борьбы против внутренних и внешних врагов).
Ось престижа была восстановлена на новой основе — партноменклатура и идеологические формы продвижения социальных образцов (пропаганда в искусстве, деятели советского искусства и советской науки).
Богатство, материальную дифференциацию общества, на самом деле свели к минимуму.
Образование было открыто для всех, но получившие лучшее образование имели больше шансов попасть в партийную власть и занять управленческие должности; образование было интегрировано в политико-идеологическую модель. Так продолжалось в течение приблизительно 70 лет.
В 1990-е годы, после распада СССР, ось власти покачнулась, но сохранила свое значение. Ось богатства развернулась в полную силу через бурную приватизацию, в результате которой в постсоветском обществе появились классовые экстремумы: олигархи и нищие, экономические гиганты и обездоленные карлики (при этом эта ось восстановилась почти мгновенно, тогда как для ее искоренения, выкорчевывания были затрачены в течение многих десятилетий огромные усилия с применением чудовищных репрессий). Ось престижа была скопирована с западного (поздне-«дионисийского») общества в сочетании с грабительскими нормами капитализма: престижно было быть известным (скандальным, первертным), богатым и знаменитым (гламур). Ось образования пришла в упадок — ученых и студентов, относящихся всерьез к занятиям, стали презрительно называть «ботаниками».
В последние годы ось богатства пусть номинально, но сглаживается. Власть потихоньку разбирается с олигархами, ставит ограничения на посещения Куршевеля и вызывающий кутеж. Ось власти столь же мощна, как всегда, и при этом сегодня менее зависима от оси денег, нежели в 1990-е. Ось престижа — такая же, как в 1990-е годы: Ксения Собчак, Борис Моисеев и Михаил Жванецкий известны не меньше, чем президент или олигарх, и точно больше, чем политики и бизнесмены второго эшелона. Ось образования понемногу начинает восстанавливаться после почти полного обрушения в 1990-е, когда в образование шли только для последующего обретения экономических преференций (ось денег) или по инерции.
Флуктуации социальной структуры налицо. Но мы видим, что она, тем не менее, упорно принимает классическую форму даже в ходе радикального социального эксперимента СССР и могучих социальных потрясений.
СТРУКТУРАЛИЗМ КАК ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ МЕТОД
Мы убедились, что социология (особенно структурная) преимущественно объясняет динамику через статику, время через пространство, движение через неподвижность.
Структурализм в антропологии и философии полностью разделяет такое отношение, и трудно сказать, что на что больше повлияло — социология на структурализм или структурализм на социологию. В любом случае, базовая для структурализма пара дискурс/язык в равной мере может быть применена во всех этих областях. Язык — постоянная часть (структура), дискурс (речь) — переменная.
Однако в нашем курсе мы ставим перед собой задачу не просто рассмотреть социальный логос в его структурной морфологии, но и добавить к модели классической социологии дополнительный этаж мифоса. Это означает, что мы применяем структурализм в квадрате, не только принимая структурный синхронизм социума за базовую канву исследования (со всеми вытекающими последствиями и в первую очередь — с неизбежным функционализмом), но и интегрируя весь этот план в еще более общую синхроническую картину — в «двухэтажную» социокультурную топику, разбиравшуюся в первом разделе. И в этом случае неизменные оси координат классической социологии помещаются в пространство большей размерности, что фундаментально видоизменяет всю картину общества, делает ее объемной. Но вместе с тем там, где был объем, обнаруживается его плоскостная проекция.
ГИПОТЕЗА ОСИ Z В СТРУКТУРАЛИСТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
В первом томе «Фундаментальной социологии» Добренькова–Кравченко5 есть одно место, которое можно понять двояко. Речь идет о достраивании плоскостной системы координат в социологии с осями X, Y до объемной через включение туда оси Z, представляющей собой ось социальных институтов. По версии Добренькова–Кравченко, введение этой оси примиряет между собой различные социологические школы и гипотезы. Вероятно, это так и есть, но нам представляется, что данная ось Z не аффектирует координаты фундаментально и вполне может быть отображена и в двухмерном пространстве.
Схема 14. Социальные структуры
Например, социальные институты могут рассматриваться как геометрические фигуры (в общем случае треугольники), опирающиеся на ось Х (ось социальных групп) и структурирующиеся вокруг четырех осей социальных благ, параллельных оси Y.
Внедрение оси Z как оси социальных институтов не меняет ничего в качественной картине социума, будучи чисто техническим ходом. И напротив, добавление к классической топике структурной социологии измерения мифа фундаментально меняет все дело. Структурная топика социологии оказывается лишь моментом более общей и более фундаментальной социологии структуралистской, то есть полноценной социологии глубин.
Добавляемое измерение психоаналитической глубины также отсылает нас не к динамике индивидуального подсознания, как у Фрейда и некоторых его прямолинейных последователей — в частности, Мелани Кляйн (1882–1960), но к столь же статичному внеиндивидуальному и коллективному явлению — к коллективному бессознательному, вместилищу архетипов, мифов, символов. Как Дюркгейм или Сорокин обосновали синхроническую социальную морфологию, так Юнг описал столь же синхроническую структуру коллективного бессознательного. Наложение друг на друга этих двух топик, двух пространств дает нам настоящую перспективу объема (не только в прагматическом и прикладном, но и в фундаментально-научном смысле).
Определенная динамика в коллективном бессознательном есть, но она второстепенна, поверхностна и — самое главное — всегда обратима. Юнг для подчеркивания этого обстоятельства и вводит понятие «синхронизма», «одновременности», о научной релевантности и эвристичности которого и идет речь в интереснейших диалогах Юнга и Паули6.
Как статус, меняясь в пространстве социологических координат, влечет за собой изменение содержания социологического человека, так и фиксация в разных точках карты бессознательного (как мы видели у Юнга) влечет за собой изменение содержания человека психического.
ДИАХРОНИЗМ VS СИНХРОНИЗМ
Из вышеприведенных замечаний выясняется, что пространственный фактор для социологов — в смысле пространства в его обыденном понимании — оказывается вторичным именно потому, что пространственное начало лежит в самой сердцевине структурного метода. Топика и морфология научного метода нераздельно связаны с пространством в его изначальном значении как синхронизма. И в этом можно явственно различить очень глубокие установки двух фундаментальных научных позиций — философии истории, где доминирует фактор времени, и структурализма и социологии как альтернативного подхода, где преобладает принцип пространственности как одновременности.
XIX век и его наука не сомневались в том, что прогресс, диахронизм, развитие, эволюция, накопление знаний фундаментальны [Ф. Бэкон (1561–1626)]. Динамизм — такова была структура социального времени Модерна. ХХ век поставил этот тезис под сомнение. И результат этого сомнения воплотился в целый веер научных школ — от социологии до аналитической психологии, антропологии, культурологии, этнологии и т. д., включая естественные науки. Началось настоящее соперничество между временем (диахронизм) и пространством (синхронизм), которое задело не только ход полемики между отдельными науками, но и развело по разные стороны ученых, работавших в пределах одной и той же дисциплины.
ПРОСТРАНСТВО ― НАШ ДРУГ
Рассмотрим фактор пространства в контексте социологии глубин и соотнесем его с концепциями имажинэра и антропологического траекта Дюрана.
Вспомним, как мы определяли имажинэр, воображение. Время — абсолютный враг воображения, оно в чистом виде есть смерть. Не заполненное работой воображения и его продуктами время представляет собой пустое движение к смерти. Поэтому главная задача воображения — так или иначе справиться со временем. Время как таковое есть абсолютная антитеза воображения (имажинэра). По этой причине воображение всячески стремится сделать его иным, нежели оно есть само по себе. Из этой работы и рождается социальное время — время как социальный конструкт.
Пространство не находится по ту сторону от воображения (имажинэра). Оно находится от него по эту сторону. Пространство есть антивремя. Это не свойство отчужденного объекта, это свойство животрепещущего траекта. Воображение всегда пространственно. Воображение и есть пространство. Не то чтобы пространство было нужно, чтобы воображение смогло продуцировать свои образы, мифы и архетипы. Образы, мифы и архетипы суть выражение пространства как синхроничности, как формы преодоления времени, каптивации (улавливания) времени, его пре-ображ-ения — то есть переведения во (вневременной) образ.
Поэтому Жильбер Дюран говорит, что пространство есть антирок, то есть противоположность времени (смерти). «Пространство — наш друг», — цитирует он высказывание проницательной женщины-психоаналитика — принцессы Марии Бонапарт (1882–1962)7.
ВООБРАЖЕНИЕ ― КАРТА
Столь важное значение пространства для воображения отражается в самой идее представления большинства символов в виде двухмерного изображения. Подавляющее большинство живописных изображений выполнено в модели плоской. Активное воображение само достраивает перспективу. Лишь живопись Ренессанса изменила это фундаментальное правило.
Воображение есть визуальная карта, распростертая антропологическим траектом. Это карта и есть образование внутреннего и внешнего мира.
В рамках дуализма культура/природа можно сказать, что пространство — это культура, а время — природа. Социум как прямое выражение культуры и основная форма работы воображения неразрывно и в самой своей сути связан с пространством. Пространство — это глубинная основа общества, его бытие.
Важнейшим свойством пространства для воображения является возможность пространственно зафиксировать движение и тем самым справиться со смертью, преодолеть смерть. Перемещение предметов в пространстве может заменять собой перемещение их во времени, а значит, перемещаемый предмет можно изобразить синхронно в различных состояниях. Множество примеров этого мы встречаем в традиционных для Египта и Греции изображениях и орнаментах, в иконных клеймах, где основной образ обрамлен синхронным изображением основных событий из жизни и подвигов святого, и т. д.
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОСТРАНСТВО СОЦИАЛЬНЫМ КОНСТРУКТОМ?
Здесь можно задаться вопросом: является ли пространство социальным конструктом?
Ответ: нет, не является. Пространство предшествует социальности и совпадает с ее творческим организующим началом. Пространство социально, но не вторично в отношении социума. Оно не есть конструкт. Именно с этим связано нежелание Дюркгейма и Мосса переходить к социальному определению пространства, а также косвенный и окольный переход к этой тематике у Хальбвакса — через коллективную память.
Пространство является неподвижным и живым. В структуре воображения поистине живое только то, что неподвижно (вечно, атемпорально). Все живое во времени уже частично мертво.
С этим связано бесчисленное разнообразие мифов разных народов, которые описывают географию посмертного мира, где нет времени, но есть пространство. Отсюда сама структурная топика трех миров — небесного–земного–подземного, — которая лежит в основе мифологической географии. Пространство обладает иммунитетом по отношению к смерти.
МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА
ЧЕРЕЗ ИСТОРИЧЕСКУЮ ТОПИКУ
Сейчас становится понятным, что наше рассмотрение в предыдущем разделе исторической топики трех социокультурных фаз, которую мы взяли за стартовую позицию в разборе темы социального времени, само по себе является структуралистским, так как помещает время и его различные разновидности в синхронную пространственную карту.
Распознав синтагму как синтагму и предложив осмыслять ее через парадигмальный анализ, то есть выясняя ее морфологию и при этом дополнительно указывая на этаж мифоса, ушедшего на определенном этапе в «знаменатель», но никуда не исчезнувшего, мы уже расчистили путь для того, чтобы использовать эту модель не как календарь, но как карту. Соответственно, мы можем воспользоваться ею для классификации пространства, как его понимают те или иные социумы.
Иными словами, обосновав пространственную природу социологии и пространственную в квадрате природу структурной социологии (как структуралистской социологии, социологии глубин), мы займемся сейчас тем, к чему подошел Хальбвакс. Если рассмотреть пространственность как неизменность, синхронизм, то она относится к социологии двояко — как ее внутреннее измерение, сопряженное с глубинной природой самого метода (морфология, социум как пространство), и как внешняя проекция этого свойства. Можно сказать, что антропологический траект (как силовой потенциал борьбы со временем) растянут между двумя пространствами, двумя синхронизмами, между двумя вечностями — внутренней вечностью архетипов и внешней вечностью наблюдаемых форм.
Контрольные вопросы
1. Какова структура пространства в социологическом подходе функционалистов?
2. Что имела в виду психоаналитик М. Бонапарт, говоря: «Пространство — наш друг»?
3. Чем отличается системный подход в социологии от структурного подхода?
ГЛАВА 4.2
ПРОСТРАНСТВО ПРЕМОДЕРНА
АРХАИКА И ИМАЖИНЭР
В архаических типах общества мифос полностью доминирует; он не соседствует с логосом — он присутствует на месте логоса, заменяет его собой. Поэтому изучение этих обществ и их представлений есть практически то же самое, что изучение структур воображения, имажинэра. Общество (точнее, община, по Ф. Тённису) в архаике есть прямое выражение коллективного бессознательного и его режимов, архетипов, символов.
МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Мифологическое пространство в архаике есть строго то же самое, что и пространство мифа. Между структурой воображения и структурой восприятия мира — прямого, непосредственного, конкретного, окружающего — нет никакого зазора. Более того, пространство и миф суть одно и то же. Миф помещен в пространстве, а пространство в мифе. Но здесь все же есть один нюанс.
«Мифос» в переводе с греческого — «повествование» (подразумевается, что повествование о богах и героях, то есть повествование об архетипах). Но, будучи повествованием, сам миф несет в себе нечто от синтагмы, от диахронического развертывания. В мифе, который есть способ борьбы со временем, есть следы самого времени. Поэтому Леви-Стросс говорил о мифеме, атомарной частичке мифа, которая является неизменной и постоянной, всплывая в мифе как в повествовании в разных комбинациях.
Миф сам должен быть приведен к пространственной матрице, то есть осмыслен в контексте своей структуры. Как и в случае социологического метода (и антропологического траекта), пространство находится у мифа внутри и вовне. Сам миф есть выраженнное в диахронической форме повествования развертывание синхронической картины, многослойное и репетативное описание образа, карты, фигуры. И вместе с тем рассказывание мифа предопределяет и конституирует морфологию внешнего мира: путешествия богов и героев оставляют следы в виде сакральной географии, полной священных рощ, табуированных мест, очагов того или иного культа, городов, страхов, чудовищ, народов и точек притяжения. Через диахронику повествования миф транслирует вовне синхронику своей внутреннейшей природы, порождая синхронизм географии и геометрии.
Миф своим движением утверждает неподвижное как отражение его внутреннего покоя.
ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО / ОБРАЗЫ ВЕРТИКАЛИ
Обратимся снова к Жильберу Дюрану и трем группам мифов, которые он выделяет. Все три группы мифов являются конститутивными для морфологии мифологического пространства. Все они и есть пространство, но каждая группа конституирует пространство по-своему.
Героический режим диурна конституирует один тип пространства — пространство вертикали. Это пространство с одним измерением. Постуральный рефлекс (рефлекс вставания) младенца прочерчивает траекторию полета. Становясь доминантой, этот рефлекс формирует масштабные миры вертикали.
Можно представить себе работу героического мифа как утверждение одной оси Z без Х и Y.
На этой оси находятся различные побочные пространственные структуры, а пара верх–низ служит для них основой. Мифологическая Вселенная развертывается, отправляясь от этой героической оси. На вершине ее — трон высшего существа, внизу — ужас, тьма, бездна и смерть. Многие народы считают Полярную звезду гвоздем, осью, оселком колеса.
Одномерное пространство героя выражено в геометрии молнии, а также прямой линии, меча, царского скипетра. Молнии и скипетр — атрибуты небесного Зевса. Само представление о линии, изображение линии — это следствие мифологической интуиции пространственной вертикальности. Человек, встающий на ноги, ребенок, учащийся ходить, — это жест творения пространства вертикали.
Гора, холм, выпуклость, утес — это фигуры диурнического мифа. Сюда же относится и галерея гигантских фигур, великанов, которые также населяют пространство в его вертикальном измерении, причем повсюду может разверзнуться бездна. Бытие по вертикали (вертикальный траект) организовано между полетом и падением, растянуто между ними. Важно заметить: вертикальный миф не отражает природных явлений, он конституирует их как явления культуры через наделение их культурными (то есть, в данном контексте, сакральными) свойствами.
Еще одна важнейшая составляющая пространства диурна — это участие в нем света и существ света. Чистый полет требует объединения движения и света, отсюда берут начала фигуры ангелов, световых духов, световых людей (А. Корбен посвятил этой теме одну из своих работ — «Световой человек в иранском шиизме»8). Ангел — необходимый важнейший элемент этого пространства, и сон Иакова, в котором он видит спускающихся с небес и поднимающихся туда световых существ, есть фундамент архитектуры мифологической Вселенной. По вертикальной оси (шесту, столбу) шаман поднимается на небо. Эта же ось символизируется центральным шестом в вигваме индейцев или юрте кочевников Сибири и Севера. У тюркских народов вертикальное измерение зафиксировано в дымнике — отверстии наверху юрты, куда выходит дым. [По древнемонгольскому преданию «Сокровенное сказание»9, божественный предок-дух рода Кият-Борджигин, из которого вышел Чингисхан (1155/1167–1227), явился к его праматери Алан-Гоа через дымник юрты — то есть по вертикальной оси.] Световой дождь, в виде которого Зевс спустился к Данае, относится к этой же категории мифов о пространстве.
Еще одно важное выражение героического пространства — это камень. Неподвижность камня есть отражение (проекция, выражение) основного качества пространства — неподвижности, синхронности. Отсюда предания о каменных людях, о петрификации (окаменении) героев, богатырей и мифических королей, а также сюжеты о рождении богов (иранский Митра) и героев (Сослан нартского эпоса) из камня.
В этом режиме, в котором преобладает дуализм, формируется также дуальная структура пространства — верх/низ, что является выражением визуального дуализма свет/тьма.
В сакральной анатомии этому соответствует позвоночник, на двух экстремумах которого находятся самый ценный орган (мозг) и самый презираемый (режимом диурна) — гениталии. На перестановке этих двух полюсов местами основаны многие мистические практики — например, кундалини-йога.
ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
В режиме драматического ноктюрна развертывается иная логика пространства. На этот раз пространство распускается горизонтально в форме круга. Если вертикаль нацелена на уничтожение времени, на поражение его стрелой, на его отмену, то круговой горизонтальный план улавливает время, вбирает его в себя. Мы имеем дело с классической стратегией эвфемизма.
Поэтому фундаментальной моделью пространства являются синхронический круговой календарь (аналогичный руническому) или тибетская мандала. Круговые календари встречаются на самых архаических пластах древних культур. Они представляют собой одновременно календарь и карту, то есть трактуют время как пространство, тем самым делая время менее опасным, менее антагонистическим, менее природным и более культурным.
Смена сезонов, отображаемая на круговом календаре, наглядно убеждает в том, что время побеждено, карта мира остается неизменной и движение во времени есть не более чем перенос внимания с одной точки синхронической картины на другую. Круговой календарь есть важнейший инструмент для достижения бессмертия.
В календаре-карте часто мы видим вместе Солнце и Луну, светило дня и светило ночи. Это также символическое указание на атемпоральную и даже антитемпоральную направленность мандалы или ее эквивалентов.
Круговой космос, Вселенная-колесо, постоянно вращается, но вращение по кругу есть всегда повторение одного и того же. Из этой модели возникает представление о сторонах света. Стороны света определяются в разных культурах по разным признакам — чаще всего по астрономическим наблюдениям, связанным с точками восхода и захода солнца в зимний, летний и весенне-осенний периоды10.
Пространство драматического мифа ритмизировано, то есть в нем развертывается диалектика пар противоположностей — световые и теневые моменты сменяют друг друга.
Драматическое пространство — это пространство движения, но движения по кругу, которое представляет собой эвфемизм движения, сведение динамики к статике. Мифы, связанные с этой группой, часто описывают походы, поездки на колесницах, передвижения, которые при ближайшем рассмотрении оказываются состоящими из мифем циклического круга, скомбинированных в том или ином порядке. Герои и боги, передвигаясь в мифе, не подвержены времени — они перемещаются в пространстве, и их жесты, подвиги и приключения соответствуют синхронической картине карты-календаря. Они находятся в разных точках своих эпопей одновременно и образуют тем самым простирающуюся модель мира, непрестанно — по мере повторения мифа или в отдельных символических мотивах внутри мифа — воссоздавая и укрепляя структуры пространства.
В ритуальных практиках это соответствует круговому вращению — либо в хороводе (бывшему некогда важнейшей формой сакрального обряда), либо во вращении вокруг своей оси (что до сих пор сохранилось в танцах исламских дервишей).
Так как драматический режим соответствует копулятивному рефлексу (рефлексу совокупления), можно сказать, что круговое пространство эротизировано, насыщено эротическими энергиями притяжения и отталкивания. Круг-карта есть танец, пляс, ритмическое развертывание и свертывание пространственных структур. Так, в индуистском мифе Вселенная творится в процессе огненного танца Шивы. Эта же фигура Шивы часто изображается в состоянии ритуального соития со своей шакти, женской паредрой.
МИСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Пространство мистических мифов в режиме ноктюрна — это пространство жидкое, тянущееся вниз, тяготеющее к центру. Его образом могут служить стоячие воды или ил. В книге «Вода и грезы»11 Гастон Башляр привел множество примеров мифологического осмысления водных пространств, связанных с изначальной для человека грезой о веществе.
Пространство мистического ноктюрна формирует пластическую субстанцию, предшествующую явлению пространства как такового — оформленного в фигуры или пронзенного молнией вертикали. Текучее, жидкое, влажное, нефиксированное, непостоянное, не имеющее формы пространство больше всего похоже на время и меньше всего — на пространство.
От грозной вертикали оно пытается укрыться в измерении глубины, прячась от небесных молний в земле, под землей, в норе, в лабиринте, в пещере. Тем самым конституируются своего рода пространственное время и топология подземных миров — с подземными реками, замерзшими торосами черного льда, палящей горечью влажного кипятка.
Иная форма бегства мистического пространства ноктюрна — это центростремительное движение: от фиксированной драматическим режимом ноктюрна мандалы сторон света оно укрывается в центре, где пытается склеить движение и неподвижность, верх и низ вертикали.
Эта разновидность мифологического пространства конституирует водные просторы, зыбучие пески пустыни, ледяное безмолвие пейзажей Арктики.
Можно соотнести вектор мистического пространства с точкой зимнего солнцестояния на карте-календаре. Весенне-летнее солнце взлетает (повторяя циклически и по кривой мгновенную и прямую траекторию ангельского взлета), достигает вершины (летнее солнцестояние) и, подобно падающему Икару или Фаэтону, вновь по кривой падает через осень к зиме. В точке зимнего солнцестояния совершается важнейший мифологический переворот: солнце, только что падавшее по инерции, снова обретает силы и под воздействием диурнического импульса вновь взлетает. Если рассмотреть тенденцию осенне-зимнего падения отдельно — без солярной мистерии солнцестояния, когда рождается новое солнце, новый свет, — можно распознать в этом пространственный вектор, конституируемый мистическим режимом ноктюрна в его чистом состоянии. Это пространство логически продолжает путь солнечного ската (падения) ниже точки зимнего солнцестояния, в под-зимние миры, в нору абсолютной вискозной тьмы. Отсюда мифы о проглоченном чудовищем Солнце и другие сюжеты, связанные с поглощением. Все они описывают идею о возможном пропадании циклического символизма в нижних водах. Описания Вселенского потопа в Библии, в шумерском эпосе или у греков в сюжете о Девкалионе фиксируют эту пространственную ориентацию.
В пределе мистического ноктюрна пространство перестает выполнять свои антитемпоральные синхронические функции и почти сливается с временем. Отсюда темпоральный символизм воды (выраженный, в частности, в мифе о Данаидах). И все же мы имеем дело не со временем, но с пространственным воплощением времени, то есть с работой воображения, которое таким причудливым способом защищается от смерти, имитируя ее и конституируя тем самым пространственно выраженные пределы антифразы.
СЕЛЕНИЕ / МИР / ЖИЛИЩЕ / РИСУНОК
Из приведенных выше траекторий воображения, конституирующих виды мифологического пространства, можно легко перейти к сериям пространственных гомологий. Раз культура есть выражение воображения, то мы обязательно получим пространственные модели разной размерности, воспроизводящие до бесконечности одни и те же фигуры.
Можно начать с пространства селения. Очевидно, что оно будет организовано по модели основных групп воображения. Где-то будет точка присутствия вертикали (дом вождя, святилище, алтарь, площадь для обрядов, место возжигания огня). Вокруг нее кругом или квадратом будет расположен горизонтальный скол синхронно взятой Вселенной с календарно-картографическими соответствиями. И где-то — пространство, отведенное мистическому ноктюрну: внутренности жилища, женская половина, поля для производства продуктов питания — одним словом, окрестности культуры, переходящие в природу.
Увеличив размерность, мы обязательно придем к сакральной географии страны, которая в общих чертах и на основании мифологических и символических соответствий будет воспроизводить ту же самую картину. Расширив границы еще дальше, мы получаем образ мира, где фигурируют светила, звезды, духи и боги. Но модель останется той же самой.
Теперь можно двинуться в обратном направлении и начать сужать охват. Так, внутреннее устройство хижины, дома или юрты обязательно будет воспроизводить ту же морфологию — снова центр (очаг, окно, дымник, столб, красный угол), стороны света (стены: круглые — в юрте — или квадратные), женская половина, подвал, отхожее место в стороне. И еще меньше — образ, фигура, символ, узор на домашней утвари или резьба по инструменту будут совсем в миниатюре воспроизводить все ту же картину или ее особенно важные в тех или иных случаях фрагменты — мифемы.
Столкновение с природой в ее неокультуренном виде снова включит ту же имагинативную функцию «опространствовления» — теперь она выразится в таксономии и морфологических классификациях растений и животных. А это, по обратной аналогии, вполне может быть включено в контекст культурного пространства — через структуру тотемов, символов и обрядов.
ГОРОД
Ничего принципиально не меняется, если мы вместо элементарного селения «примитивов» берем более технически усложненный агломерат — полис, город. Напластование нескольких племенных или этнических структур ничего качественно не нарушает в представлениях о мифологическом пространстве. Часть сакральной географии будет для всего города общей, как общими будут являться некоторые социальные институты, культы, верования, обряды, правила поведения. На этом уровне будет формироваться общее социальное пространство, разделяемый всеми и известный всем миф о структуре внутреннего (городского) и внешнего (ближнего и дальнего) мира.
Но при этом в локальных сегментах (большого) города может царить своя частная сакральная география, своя разметка пространства, связанная с социокультурными особенностями, профессиональной спецификой, этническим и историческими аспектами, статусным положением социальных групп и т. д.
ЛОГОСНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
Начало осмысления пространства с позиции логоса мы наблюдаем в греческом мире. Так, Пифагор систематизирует и классифицирует представления о сакральной геометрии, выделяя кванты воображения, сопряженные с символизмом простейших геометрических фигур. Пифагорейцы пытаются выделить из мифа мифемы, за что в ХХ веке взялись К. Леви-Стросс и другие антропологи-структуралисты. Позже эта линия найдет свое продолжение в философии Платона, и геометрия станет центральным методом во всей платонической системе понимания мира. Наиболее важные концепты платоновской философии носят пространственный характер — это символизм пещеры, сферический образ мировой души, теория о разных геометрических формах стихий (элементов), визуальный аспект идей, которые, по Платону, либо парят, либо умирают (явно диурнический аспект).
Еще более логосную модель пространства описывает Аристотель. Хотя рационально описанное пространство Аристотеля сохраняет сакральные качества: оно анизотропно, то есть направления в нем неравнозначны. И это свойство именно пространства, а не тел, которые его наполняют. В концепции Аристотеля мы видим отголосок мифологического пространства, структура которого первична по отношению к формам, его наполняющим.
Так, у Аристотеля при объяснении движения появляется идея «естественных мест», куда тела, будучи предоставленными сами себе, стремятся естественным образом и, находясь на которых, пребывают в полном покое. Такое пространство принято называть телеологическим, то есть состоящим из точек, каждая из которых есть цель для какого-то тела, находящегося или пока еще не находящегося в ней.
На этом этапе логос остается в гармонии с мифосом, не обращая свою рациональную систему против мифологической подоплеки пространства.
ПРОСТРАНСТВО И СТИХИИ
В греческой философии и в религиозных системах других народов (у индусов, китайцев и т. д.) пространство считалось дифференцированным по слоям стихий, элементов, представляющих собой четыре (или пять) модификаций изначальной субстанции (материи). Стихии распределялись по вертикали — от наиболее плотных (земля, вода) к более разреженным (воздух, огонь). Высшим синтетическим элементом был эфир, квинтэссенция, «акаша» — у индусов. Вертикальная иерархия пространства стихий могла мыслиться статичной или динамичной, в последнем случае философы и богословы говорили о «круговращении стихий», об их переходе друг в друга. При этом эта иерархия могла проецироваться и на горизонтальный план, в таком случае те или иные стихии связывались со сторонами света. Модель этого соотношения могла меняться, но основные элементы всегда были немногочисленны (4 или 5), и варьировались лишь их комбинации.
Гастон Башляр, изучавший элементы в их связи с поэтическим и научным воображением, показал, что греза о веществе лежит в основе любого осмысления материи и ее закономерностей как в мифологии, так и в современной науке. И версии представления вещества, связанные с ним воображаемые ассоциации и символические комплексы влияют на весь строй мифологического рассказа или научной теории.
В традиционном обществе (Премодерн) плотность пространства объяснялась исходя из дифференциации режимов воображения и структуры грез о веществе, чаще всего разделяющихся на небольшое количество базовых элементов — стихий.
РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В принципиальном плане — в структуре образа — религиозное искусство и сакральная география религиозных обществ (то есть обществ с развитой теологией, в отличие от обществ архаических) ничем принципиально не отличаются от архаического. И там и там мы имеем дело с разномасштабными моделями пространственного воображения, с разными его акцентами и оттенками. При этом религиозные культуры, как правило, свойственны обществам со сложной и смешанной структурой, поэтому общие представления о пространстве сплошь и рядом накладываются на локальные модели пространственного воображения. Это находит прямое выражение в религиозном изобразительном искусстве.
Новизна религии по сравнению с архаикой заключается в особом внимании к написанному тексту, то есть к синтагме, к логосу, разворачивающемуся во времени, хотя Священное Писание еще вполне может быть сведено к мифу и в конечном счете — к агломерату мифем. Такое мифологическое прочтение теологии характерно для локальных культур и для мистических традиций, иногда переходящих в ереси. Все это имеет прямое и первостепенное выражение в пространственном воображении.
Запись Вед или китайского канона Конфуция, несмотря на дискурсивность, не отменяет их мифологической структуры: многочисленные письменные комментарии к ним обязательно содержат как развитие рациональных (логосных — богословских) толкований, так и живое изобилие мифологических сюжетов, их комбинации и инкрустации новых мифем, то есть мифотворчество (таковы индусские Пураны, которые, отталкиваясь от Вед, развивают гигантские зоны мифа).
МОНОТЕИЗМ И ПРОСТРАНСТВО
Среди религий наиболее серьезный удар по пространству наносит монотеизм. И особенно монотеизм, в самой жесткой степени проводящий идею о единственности Бога-Творца. Так, две монотеистические религии из трех — иудаизм и ислам — запрещают изображения, живопись. К этому стоит добавить период иконоборческой ереси в Византии, когда эту логику временно приняла и часть христиан (позже это было признано ересью и на Востоке, и на Западе).
Смысл монотеизма состоит в вынесении Бога как Творца Вселенной по ту сторону творения. Так складывается базовый дуализм — Творец–творение12. Бог-Творец есть субъект, высшая личность. Вечность — исключительно Его атрибут. Он пребывает вне времени, то есть в синхроническом состоянии. Творение делается из ничто. Оно погружено во время и представляет собой в первую очередь именно время. Отсюда — центральность Священной Истории в монотеистических религиях. Эти религии диахроничны, они отводят творению лишь временные формы бытия. Поэтому сущность творения есть ничто.
Мир, осознанный как творение, меняет свое качество. Пространство, которое было живой плотью воображения, отныне переведено под власть времени. По сути, это серьезный удар по пространству. И не случайно в монотеизме мы сталкиваемся с линейным временем; время начинает раскрепощаться, освобождаться от пространства. Отступление пространства означает поражение воображения. Время как история претендует отныне на то, чтобы служить дистрибутором смыслов.
Конечно, в монотеизме есть множество направлений, которые восстанавливают воображение и пространство (а также сакральную географию) в их правах. Это мистические тенденции (суфизм и шиизм в исламе, каббала в иудаизме). Христианство выделяется здесь в отдельную область, так как утверждает догмат о Пресвятой Троице, то есть единство Бога, а не Его единственность. И очень показательно, что именно христианство включает визуальное изображение — иконопись — в свой религиозный канон. Каждая икона — это карта-календарь, равно как и каждое христианское изображение или символ, начиная с креста. Крест имеет и историческое, и мифологическое значение. Знак крестной смерти Спасителя может указывать на структуру мира, на вертикаль, на четыре стороны света, на топологию священного космоса13.
Более того, общества, принявшие монотеизм, осмысляли его богословские предпосылки только на уровне элит — в первую очередь жреческих, а большие массы простонародья сохраняли в пределах новой веры древние политеистические или архаические мифы, сквозь призму которых перетолковывали идеи и образы монотеизма. Так, в религиозных обществах сакральная география часто переходит с уровня официальных социальных теорий на уровень преданий, легенд, сказок и местных поверий.
Контрольные вопросы
1. Каковы три пространства мифа, проистекающие из трех режимов воображения?
2. Что такое гомология пространственных объектов?
3. Как монотеистическая религия меняет отношение к пространству?
ГЛАВА 4.3
ПРОСТРАНСТВО МОДЕРНА
БИТВА С АРИСТОТЕЛЕМ
Формирование представления о пространстве в Модерне начинается с войны со схоластикой и в первую очередь — с Аристотелем, чье понимание пространства было принято в эпоху Средневековья почти как религиозный догмат.
Схоластический аристотелизм представлял мир как структуру иерархизированного пространства, где пространство и иерархия были по сути взаимозаменяемыми символическими фигурами. Пространство было анизотропно и состояло из естественных мест. Единственным добавлением было утверждение его тварной природы и наличия за его пределами трансцендентного Творца.
Именно по этому наносился основной удар отцами-основателями Модерна.
ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЖИВОПИСИ
(УГАШЕНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ)
Прелюдией к складыванию нового понимания пространства в Модерне служили итальянские художники Возрождения, которые стали добавлять в живопись пространственную перспективу, что исключалось канонами сакрального искусства с архаических эпох до средневековой иконописи. Это был мощный удар по активному воображению, по достраиванию перспективы. По сути, введением оптической иллюзии объема вертикальное световое ангелическое измерение (ось Z героического мифа) подменялось сверхточным фокусом внешнего мира. Пространственная природа воображения в ходе такой операции затушевывалась и даже отрицалась.
ГАЛИЛЕЙ ― ТВОРЕЦ ПРОСТРАНСТВА МОДЕРНА
Наиболее системную атаку на аристотелевское понимание пространства, все еще хранящее связь с живой тканью мифа, с траектом антивременной направленности, осуществил Галилео Галилей14. Он бил в самый центр аристотелевской доктрины — в анизотропию и в теорию «естественных мест». Историк и философ науки Пол Фейерабенд (1924–1994) показал, что доказательства Галилея в пользу его понимания пространства — как изотропного (однородного) и не имеющего никаких естественных мест — были основаны на приемах умелого внушения, на полемическом таланте высмеивать оппонента, а в некоторых случаях — на прямых подделках. Фейерабенд не поленился повторить некоторые опыты Галилея — в частности, опыт скатывания шарика по деревянному желобку, — и оказалось, что он не может дать того результата, которым бахвалился Галилей и которому безоговорочно верили ученые и широкие массы учащихся в течение пятисот лет. Теории Галилея были придуманы «ad hoc», то есть «по случаю», и удовлетворяли критериям логичности и рациональности существенно меньше, чем продуманные и аргументированные теории схоластов.
Но Галилей верно ухватил тенденцию и солидаризовался с ней: при переходе к Модерну пространство претерпевало самые существенные метаморфозы и время готовилось к фундаментальному реваншу.
Г. ГАЛИЛЕЙ И П. ГАССЕНДИ: АТОМИЗМ
Галилей и другой философ Возрождения, Пьер Гассенди (1592–1655), обратились на новом витке и в новых исторических условиях к учению древнегреческого философа Демокрита (ок. 470/60 — 60-е до н. э.) об атомах, из которых состоит якобы вещество Вселенной. Пространство в таком понимании заполнялось дробными элементами, а не пластическими субстанциями, стихиями, и между атомами постулировалась пустота. По сути, это была проекция рассудочного логоса с заложенным в нем дуальным кодом (есть — нет, 1 — 0) на структуру материи. Заметим, что в Академии Платона труды Демокрита ритуально сжигались как выражение ереси.
Дробление вещества на атомы и постулирование пустоты (вакуума) отрывало пространство от его генетической связи со структурой воображения, рушило его мифологическую природу, заменяло живое пространство мифа логосной абстракцией, постулирующей объект и пространство как вместилище объектов, по ту сторону мыслящего существа, а не в его глубине.
Галилей и Гассенди возродили атомизм Демокрита, Эпикура (341–271 до н. э.) и Лукреция (ок. 99 — ок. 55 до н. э.) и внесли тем самым еще один штрих в становление представления о пространстве в Новое время. Здесь важный момент: постепенно в ходе этих операций и последующих нововведений Декарта, Ньютона и т. д. пространство становилось именно представлением, то есть социальным конструктом, а не тем, чем оно было в парадигме традиционного общества (Премодерна), то есть не самим обществом в его наиболее глубоком и органическом состоянии — имажинэре.
Р. ДЕКАРТ: RES EXTENSA
Еще один шаг к десакрализации пространства предпринимает Рене Декарт. Он доводит дуализм субъект–объект до самых крайних пределов и полагает на одной стороне res cogitans, то есть «нечто мыслящее», «рационального субъекта», а на другой — res extensa, то есть «нечто протяженное», «объект», собственно пространство. При этом Декарт полагает, что пространство не есть нечто отличное от расположенных в нем предметов, но составляет с ними одно целое — то есть пространственность предметов делает их составными частями пространства. При этом воображение Декарт отметает как фантазию, искажающую восприятие, идя в этом направлении еще дальше, чем Платон.
В результате философия Декарта помещает пространство, которое в мифе, архаике и даже частично религии находилось внутри антропологического траекта как его внутреннее естество, как движение борьбы со временем-смертью, на самую дальнюю периферию этого траекта — в область внешнего объекта, подлежащего механическому и чисто рациональному расчленению. Конечно, мы видим здесь далекие отзвуки режима диурна и предельную рационализацию логоса, который, в свою очередь, развернулся из диайретического мифа, но все же данный дуализм на корню выжигает саму суть режима диурна, отбрасывая глубинное напряжение имажинэра, проявляющееся через постулирование пространственной световой вертикали. Пространство в такой модели целиком и полностью переведено в сферу, которая в мифе относится к тому, что противопоставлено антропологическому траекту, — то есть ко времени и смерти. Главный инструмент к стяжанию бессмертия, пространство, становится у Декарта средоточением безжизненности и смерти.
Картезианство является важнейшей точкой в формировании социокультурной парадигмы Модерна.
И. НЬЮТОН: RES GRAVIS И ПРИНЦИП ЛОКАЛЬНОСТИ
Не менее революционные нововведения внес в представление о пространстве Исаак Ньютон. Он впервые заявил, что небесные тела состоят из той же материи, что и земные, тогда как мифологическое представление о пространстве полагало стихии все более и более разреженными по мере их возвышения по вертикали. Вертикаль в пространстве воображения есть световая реальность, качественно отличная от горизонтали, — это световое измерение, ось ангелической динамики (лестница, по которой поднимаются и спускаются ангелы во сне патриарха Иакова). Поэтому небесные тела мыслились как состоящие из света и эфира, в отличие от плотных субстанций земного мира. Идея того, что небесные тела субстанциально точно такие же, как и земные, уничтожала вертикальное измерение воображаемого мифологического пространства, приводила низшее к высшему, превращала трехмерную модель Вселенной в двухмерную, плоскую (в мифологическом смысле). По сути, это было сносом вертикальности, выкорчевыванием из траекта важнейшего режима воображения — героического диурна.
Далее, Ньютон сформулировал принцип локальности пространства. Это означало полное ниспровержение аристотелевской концепции «естественных мест». По Ньютону, все, что происходит с телами и их взаимодействием в сегменте пространства, бесконечно удаленном от другого сегмента, никак не влияет на то, что происходит в этом сегменте. Пространство становится относительным и изотропным, подлежащим фрагментации и делению на области любой масштабности, каждая из которых может быть рассмотрена как закрытая и полностью самостоятельная система. Значит, у вещей мира нет никакой цели и никакой пространственной судьбы; они находятся там, где находятся, в силу внешних материальных причин силовых воздействий и движутся произвольно, подчиняясь только силовым импульсам, проистекающим из других тел, или по инерции.
НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Так уже на заре Нового времени сформировалась радикально иная парадигма пространства, представляющая собой полную антитезу тому, чем пространство было в парадигме Премодерна. Научное пространство было атомарно, изотропно, протяженно, объектно и находилось на самом далеком от субъекта полюсе. Оно стало самым дальним и самым внешним, хотя в Премодерне было самым близким, самым интимным и самым внутренним, а внешним и далеким было время.
Такое механицистское пространство стало отныне мертвой сценой, на которой развертывались события времени, и субстанция (ранее служившая материалом фундаментальной войны против времени) превратилась в массу, функционально зависимую от времени через движение и силу (знаменитая формула Ньютона m=Ft/v).
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО / ГОРОД МОДЕРНА
Научные и философские мутации прямым образом сказывались на социальном пейзаже, вызывая к жизни современный город, город Модерна. Пространство этого города превращалось в пространство промышленное. Центрами становились фабрики и заводы, часто играющие градообразующую роль; финансовые институты — банки и биржи — превращались в дворцы; росли повсюду политехнические институты, обучающие представителей новой технической элиты и ее обслуги; процветали театры и музеи, призванные возводить социальные перемены и новшества в ранг искусства. Развивались механические способы передвижения, город и его службы рационализировались и автоматизировались.
В новых индустриальных городах пространственная иерархия (центр и периферия) отражала временные закономерности — время текло быстрее в центрах управлениях, на заводах, в учебных и культурных заведениях, где концентрировались инновации. По мере удаления к периферии города, на окраины и в пригороды, время на глазах замедлялось, а при перемещении в провинции (остающиеся руральными и аграрными) застывало и ползло в более привычном и традиционном ритме. Город и особенно городской центр — Сити — становился концентрацией времени. Село продолжало пребывать под очарованием пространства.
Все это находило отражение в городской архитектуре — что особенно наглядно в начале ХХ века в стиле модернизма, Jugendstill и т. д.
Отсюда возникла прогрессистская идея соединения города и деревни. В капиталистических обществах этот процесс шел сам собой, а коммунисты взялись за превращение крестьянства в пролетариат искусственным образом с опорой на тоталитарно-принудительные меры административного, политического и пропагандистского характера. Город в такой перспективе мыслился как завтра, а село — как вчера. При этом механическое и техническое пространство города, однородное и лишенное какого бы то ни было символизма и какой бы то ни было сакральности, считалось привилегированным и совершенным.
Все пространство планеты мыслилось исходя из концепта Города, что привело к проекту Мирового Города, или Мировой Столицы, которая стала бы результатом постепенного разрастания и срастания между собой мегаполисов — что происходит в настоящее время в Японии (с ее маленькой и густонаселенной территорией) и Китае (с его бешеной демографией).
И. КАНТ: АПРИОРНАЯ ФОРМА ЧУВСТВЕННОСТИ
Философ Иммануил Кант (1724–1804) представляет собой переломный момент в мышлении Нового времени, так как он ставит под сомнение оптимистические концепты раннего некритического Модерна — в частности, в отношении пространства и времени. Кант утверждает, что опытным путем субъект не может получить однозначного знания о том, каково внутреннее бытие объекта и его свойств, то есть пространства и времени, и это составляет недостижимую трансцендентную реальность, ноумен, Ding-an-sich, «вещь-в-себе».
Поэтому Кант называет время и пространство «априорными формами чувственности», то есть теми аспектами рациональности, которые отвечают за кодификацию восприятий, идущих из внешнего мира (а он есть «вещь-в-себе»). Иными словами, Кант делает шаг назад — в сторону от Модерна, — помещая пространство ближе к траекту, откуда его отшвырнули Галилей, Декарт и Ньютон. Уже в этом мы можем заметить отдельные черты будущего структурализма.
Но все же Кант остается в рамках Нового времени и поэтому распределяет априорные формы чувственности таким образом: время он располагает ближе к субъекту, а пространство — ближе к объекту, хотя с точки зрения имажинэра в его нормативном устройстве все обстоит прямо противоположным образом.
КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА И НЕЛОКАЛЬНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА
Определенные коррекции в понимание пространства в начале ХХ века начинают вносить и естественные науки. Причем здесь дают о себе знать законы социологичности научного знания. Философские, культурные и естественно-научные открытия, развиваясь своими путями и не пересекаясь ни методологически, ни концептуально, одновременно и «независимо» друг от друга приходят к сходным выводам.
И действительно эта зависимость существует, и она объясняется принадлежностью к социальному целому и соучастием ученых в коллективном сознании, а также их причастностью к общему коллективному бессознательному. Так, например, открытия квантов и квантовых взаимодействий Нильсом Бором (1885–1962) привели к выводу о том, что закон локальности пространства, сформулированный Ньютоном, не действует на уровне квантовых величин, то есть квантовое пространство нелокально и то, что происходит в одном его сегменте, бесконечно удаленном от другого, тем не менее влияет на процессы в этом первом сегменте. Это новое отношение требовало пересмотра взгляда на пространство, сложившегося и ставшего догматическим в классической механике. Новая механика, корректирующая ньютоновские закономерности в одном из фундаментальных оснований, получила название квантовой.
Параллельно этому теория относительности Эйнштейна продемонстрировала неудовлетворительность и ограниченность концепции однонаправленного времени.
Эти критические разработки постклассических направлений в естественных науках подготовили очередной этап мутации пространства и переход к новой парадигме — парадигме Постмодерна.
Так процесс отчуждения пространства от антропологического траекта и его животворной мифологической матрицы был доведен до логического предела, исчерпал себя и вызвал появление критических теорий, поставивших под сомнение на сей раз адекватность всей этой линии.
КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Идея однородности изотропного пространства, хотя и перестроенная в сегменте авангардных исследований фундаментальной науки, по инерции сохранялась в форме догмы в прикладных и технических областях. Это дало старт космическим исследованиям, которые в английском языке называются «space researches». То, что мы называем «космическим пространством», в английском языке звучит как «space», то есть, дословно, «пространство». Выход в космос — в «пространство», как его понимает механика Нового времени, — был еще одним шагом по его десакрализации. И хотя наивный аргумент, что космонавты и астронавты, посетив небо и Луну, не обнаружили там «следов Бога», с богословской точки зрения несостоятелен, это нанесло дополнительный удар по структуре воображения, окончательно сломив световую вертикаль в коллективном сознании и (отчасти) повредив структуры коллективного бессознательного. На это коллективное бессознательное ответило «летающими тарелками», НЛО, в которых Юнг еще в 40-х годах двадцатого столетия опознал отчаянный жест со стороны архаических пластов человека, пытающегося снова населить отчужденное, холодное, чисто количественное пространство механики символическими и чудесными предметами (летающими мандалами), волшебными существами (дружелюбными или опасными) — «инопланетянами» и всезнающими представителями «внеземных цивилизаций». Болезненность и клиничность подобных фантазий свидетельствует о том, насколько серьезно социальные парадигмы Модерна травмировали мифологические структуры коллективного бессознательного («знаменатель» дроби, где пребывает мифос), обрекая их на гротескные и бредовые реконструкции «экстрасенсов», «контактеров», «уфологов», «искателей снежного человека» и т. д.
Лишившись мифологической жизни и таящихся повсюду чудес, будучи расколдованным (по Веберу), десакрализированным, отчужденное объектное пространство стало невыносимым для человеческой психики, сохраняющей свои связи с глубинными безличными архетипическими структурами.
ПРОСТРАНСТВО МОДЕРНА И КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
Последнее замечание выводит нас на обобщающую тему о конфликте в эпоху Модерна между механическим, атомистским, технологическим, промышленным пространством «числителя» и древними, изначальными структурами мифоса, который сам по себе являлся пространством, развернутым по основным группам, режимам и траекториям имажинэра. Это напряжение между пространством как пределом отчуждения от траекта и пространством как сущностью траекта является гигантской территорией невротических и психотических расстройств. Воображение, основной своей функцией имеющее пространственное развертывание в борьбе со временем, вынуждено стянуться к невидимой точке перед лицом социальной конфигурации нормативного пространства, которое по своим системным параметрам организовано так, чтобы ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не допустить раскрытия (как цветка) основной функции воображения. Пространство мифа оказалось в темнице у пространства логоса — в его рационально-модернистическом состоянии15. Это породило войну пространств — внутреннего и внешнего, что манифестируется в растущих масштабах психических заболеваний, сокращение статистики геометрического роста которых возможно только через постоянное смягчение критериев нормы психического здоровья.
Накопление пространственной фрустрации привело к тому, что подавленные энергии стали выплескиваться через край, но не в упорядоченном и структурированном мифотворчестве, а в фрагментарном, искаженном, болезненном «мифохаосе». Этот «мифохаос», или хаосмос, по Делёзу, и стал основой пространства Постмодерна — игрового, виртуального, сетевого, галлюцинативного.
Контрольные вопросы
1. В чем особенности понимания пространства в философии и науке Нового времени?
2. Назовите основные черты промышленного пространства индустриального города.
3. Как понимал пространство И. Кант?
ГЛАВА 4.4
ПОСТМОДЕРН ПРОТИВ ПРОСТРАНСТВА
НИКОЛАС ЛУМАН: СОЦИОЛОГИЯ СИСТЕМ
Мы говорили в начале этого раздела, что в социологии помимо структурного подхода, ставящего акцент на морфологии и социальном пространстве, существует системный подход, рассматривающий общество исключительно в динамике, в изменении.
Приоритет времени и диахронического подхода, осмысленного как социологический метод, постулирует иное концептуальное пространство, которое является следствием действия. Еще Зиммель пытался выделить взаимодействие в качестве главной черты социальности. Символический интеракционизм был развит Дж.Г. Мидом, а Т. Парсонс поставил перед собой задачу построить на принципе социального действия и социального взаимодействия амбициозную интегральную социологию, претендовавшую на высшую степень систематизации.
В этом же направлении работал крупнейший современный социолог Николас Луман (1927–1998), который создал отличную от теории Парсонса социологию систем. Вместо социального действия Луман оперирует понятием коммуникации, к которому он и сводит все виды социальной деятельности. Общество, по Луману, есть пространство коммуникаций.
В социологии Лумана выделяются две основные категории: система (совокупность социальных коммуникаций, основанных на редукции импульсов, приходящих извне через фильтрацию смысла) и окружающая среда («ambiance» — англ., «Umwelt» — нем. как сосредоточие бессмысленных самих по себе квантов информации). Человек, по Луману, есть не центр коммуникаций, но «окружающая среда» для социальной системы. А социальная система есть окружающая среда для человека. Они конституируют, но не предопределяют друг друга. Из этого следует, что система может при определенном уровне развития обойтись и без человека (как лишь одного из возможных декодеров двоичного информационного кода).
Среда — «ambiance» — есть пространство, а система — динамическая инстанция постоянной переработки импульсов, идущих из пространства. В социуме, понятом как система, пространство выступает как среда, акциденция, «экстернальность». То есть в теории Лумана пространство не имеет никакого смысла, а смысл его элементам придают системы (замкнутые или открытые), образующие и питающие сами себя через использование общего смыслового кода.
Такое отношение подводит напрямую к перспективе создания обобщающей системы, которая начиная с определенного момента будет коммуницировать не со средой, а с сегментами малых, интегрированных в нее систем, что приведет к появлению «общества обществ»16. В социологии Лумана заложена модель постепенного упразднения пространства через его замену коммуникациями (то есть сетью кодирующихся и декодирующихся синтагм).
М. КАСТЕЛЬС: ОБЩЕСТВО КАК СЕТЬ
Продолжает тему системной социологии современный испанский социолог Мануэль Кастельс. Он ставит своей целью описание нового пространства Постмодерна с феноменологической стороны, но периодически поднимается до философских обобщений. Он вводит центральное понятие — сеть.
Сеть — это социум, понятый как чисто динамическое явление, то есть как чистая система. Единственный смысл существования сети — это (как у Лумана) коммуникации. В ходе коммуникации по сети передается информация, которая становится самостоятельной реальностью, предшествующей смысловой нагрузке. Информация — это знание, лишенное смысла. Смысл относится к области декодирования и трансляции концептуальных матриц, но это не дело сети и коммуникаций. Сеть и коммуникации живут динамикой передачи информации и ориентированы только на увеличение ее скорости и устранение помех.
Ситуация, при которой сеть становится всеобщей и всеохватывающей, определяется Кастельсом как «информационализм».
СЕТЬ ЗАМЕНЯЕТ ИНДИВИДУУМА
В обществе-сети фундаментальной мутации подлежит само понятие об индивидууме. Кастельс пишет:
«Первый раз в истории базовая единица экономической организации не есть субъект, будь он индивидуальным (таким как предприниматель или предпринимательская семья) или коллективным (таким как класс капиталистов, корпорация, государство). Как я пытался показать, единица есть сеть, составленная из разнообразного множества субъектов и организаций, непрестанно модифицируемых по мере того, как сети приспособляются к поддерживающим их средам и рыночным структурам»17.
Здесь мы видим, как постепенно начинает приобретать форму замеченная Луманом (пока еще весьма относительная) независимость системы от человека.
ПРОСТРАНСТВО ПОТОКОВ
Сеть влечет за собой новое понимание пространства. Кастельс пишет об этом так:
«Новая пространственная форма, характерная для социальных практик, которые доминируют в сетевом обществе и формируют его, — пространство потоков. Пространство потоков есть материальная организация социальных практик в распределенном времени, работающих через потоки. Под потоками я понимаю целенаправленные, повторяющиеся, программируемые последовательности обменов и взаимодействий между физически разъединенными позициями, которые занимают социальные акторы в экономических, политических и символических структурах общества»18.
Пространство потоков отрывает от привычного пространства (географического и социального) тех, кто интегрируется в сеть. Сеть уничтожает пространство, снимает его, переводит фиксированную позицию в эфемерный, быстро меняющийся пучок энергии.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ГОРОД
Постепенно, по Кастельсу, привычный нам город как социальная матрица, расположенная в физическом пространстве и структурированная в соответствии с социальной морфологией, превращается в «глобальный город»:
«Глобальный город не место, а процесс. Процесс, посредством которого центры производства и потребления развитых услуг и местные общества, играющие при них вспомогательную роль, связываются в глобальной сети на основе информационных потоков, одновременно обрывая связи с районами, удаленными от промышленного центра»19.
Ж. ДЕЛ¨З: «ТЕЛО БЕЗ ОРГАНОВ»
Своеобразную модель пространства мы встречаем у наиболее глубокого философа, размышлявшего над природой Постмодерна, Жиля Делёза.
Делёз считает, что главным действующим лицом в (пост)социуме Постмодерна становится «тело без органов»20 — термин Антонена Арто (1896–1948). Это чистая телесность, лишенная своих форм. Это философский (онтологический) концепт. Мы уже сталкивались с телесностью в теории Делёза о времени (темпоральность хроноса). «Тело без органов» есть сама субстанция времени как хроноса (телесного вечного настоящего).
Именно «тело без органов», по Делёзу, конституирует пространство, и это конституирование может идти двумя разными путями.
ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ МАРКСИЗМ ДЕЛ¨ЗА
Делёз позиционирует себя как мыслитель, стоящий на стороне Постмодерна и его новых «кондиций». Поэтому для него период Премодерна и Модерна объединяется в нечто сливающееся — это то, что было до Постмодерна, то есть это единый «Пре-Постмодерн». В этом Делёз оказывается последовательным марксистом, вслед за Марксом считая буржуазию прямой наследницей эксплуататорских классов прошлых эпох (традиционного общества) и утверждая, что процессы отчуждения, господства, подавления и насилия одних над другими составляют историческую социокультурную константу всех исторических систем (как Премодерна, где насилие явно и эксплицитно, так и Модерна, где оно более завуалированно). Не учитывая этого, нельзя понять отношения Делёза к пространству и фундаментальные акценты его философии.
Главным содержанием исторического процесса Делёз считает репрессии. Кто подвергается репрессии? «Тело без органов». А инструменты репрессии он видит в социальных системах, психологических паттернах, культуре, работе рассудка, экономической деятельности и т. д.
ТЕРРИТОРИАЛИЗАЦИЯ
Первичным и изначальным (логически и хронологически) этапом репрессии «тела без органов» Делёз считает появление у тела органов (по-древнерусски — «уд»). Слово «орган» происходит от древнегреческого ὄργανον — «орудие, инструмент; машина; орган», далее из праиндоевропейского приходит *worg- (*werg-) — «делать», откуда также немецкое «Werk» — «труд», «работа».
«Тело без органов» сталкивается с «пространством», это порождает адаптацию как отчуждение, результатом которой и служит орган. Орган есть продукт территориализации. Он привязывает свободную телесность «тела без органов» к некоей строгой функции, репрессируя свободу. Орган нужен для чего-то конкретного, и выполнение этой конкретной функции есть уже зародыш разделения труда и грядущей эксплуатации.
ИЗБОРОЖДЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО (ESPACE STRIE)
Параллельно формированию органов — территориализации — осуществляется конституция особого рода пространства — пространства изборожденного, неровного, дискретного. По Делёзу, это еще более закрепляет телесность в формах, проецируя вовне структуры иерархий, подавления и репрессий, то есть власть, и одновременно укрепляя конституцию организма, предназначенную для исполнения строгого и инвариантного набора функций. Нога появляется у «тела без органов» вместе с пространством, чтобы ходить по нему. Само пространство, по которому надо ходить, то есть переступать через выпуклости и вогнутости, есть изборожденное пространство. И нога, и ухабы суть продукты отчуждения, результат работы репрессивного тоталитарного аппарата (воли к власти).
Пространство есть синоним власти. В перспективе Постмодерна можно сказать, что пространство (как изборожденное пространство) и, соответственно, территориализация суть содержание отчуждающих социокультурных структур, составляющих основу Премодерна и Модерна.
Здесь стоит обратить внимание на то, почему Делёз относил себя к пост-структурализму. В своих трудах он полемизирует с Леви-Строссом, критикуя самое понятие структуры как воплощения фиксированного парадигмального пространства, то есть обобщения территориализации. Постструктурализм Делёза стремится уйти от синхронистских моделей и схем. В этом мы сталкиваемся с наиболее радикальной версией философского левого нонконформизма.
ДЕТЕРРИТОРИАЛИЗАЦИЯ
Территориализации Делёз противопоставляет детерриториализацию. Это означает процедуру освобождения от иерахизированных структур, выраженных одновременно в изборожденном пространстве и в телесных органах, которые такому пространству соответствуют. Делёз приводит в пример четвероногих животных, встающих на задние лапы. Передние лапы оказываются детерриториализированными. Они не имеют больше строгого предназначения. И животное перебирает ими в беспорядке и безмыслии — так оно «вспоминает» о «теле без органов».
Рука человека, если верить эволюционной теории, — это детерриториализированная нога, источник более свободных стратегий по поиску наслаждений. Также результатом детерриториализации Делёз считает женскую грудь. Если у самок четвероногих она свисает вниз как функциональный кормящий орган, то у женщин (за исключением кормящих матерей) она оказывается относительно детерриториализирована и служит атрибутом горделивой свободы (в силу бессмысленности и никчемности), а не закрепощения и репрессий.
ГЛАДКОЕ ПРОСТРАНСТВО (ESPACE LISSE)
Параллельно детерриториализации Делёз приходит к концепции гладкого, скользкого пространства, однотипного и текучего, идеальной формой которого служит море или океан.
По такому пространству, в котором нет борозд, кочек, холмов и гор, по совершенно ровному пространству «тело без органов» может свободно скользить в любом направлении, так как направлений в нем нет. В социуме этому соответствует пролиферация экранов (компьютеров, биллбордов и т. д.) и глянцевых журналов. Гламур — это оптимальная среда для скольжения.
СКЛАДКА (LE PLI)
Важнейшим философским концептом Делёза является «складка». Она отражает модель различия и тождества, перетекающих одно в другое. Складывая ткань, мы соотносим между собой как противолежащие две точки одной и той же поверхности, по которой, двигаясь постепенно и не меняя плана, можно прийти к тому, чтобы оказаться лицом к лицу с самим собой.
Складка — это такое пространство, которое не просто противостоит борозде, но снимает борозду в мягком скольжении.
РИЗОМА
Понятие ризомы у Делёза противостоит фигуре растения, имеющего вертикальный стебель и тянущегося вверх. Об этом шла речь, когда мы говорили о времени. Ризоматическому времени соответствует ризоматическое пространство — пространство с дырами, неоднородное, причудливо извивающееся, переплетающееся и расплетающееся, как клубневые растения или грибницы.
Ризоматическое пространство — это пространство свободного скольжения, причем траектория движения мгновенно стирается по мере самого движения, как не оставляет следа в воздухе летящая птица.
Клубневая организация пространства — как «тело без органов» — очень напоминает сеть (Кастельс) и коммуникационное пространство (Луман), только без каких бы то ни было иерархизации центров, точек развития, инстанций, устанавливающих коды функционирования системы.
И. ПРИГОЖИН: ФИЗИКА ВРЕМЕНИ И СИНЕРГЕТИКА
В рамках естественно-научных исследований постструктуралистский маневр Делёза повторяет выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин (1917–2003)21. Основное направление разработок Пригожина и его школы принято называть «синергетикой»22. Пригожин ставит перед собой задачу построить такие научные конструкции, которые рассматривали бы время не как внешний по отношению к физическим процессам фактор, а как нечто, что относится к самой природе вещества. Мы узнаем в этом типично системный подход. Сам Пригожин начинает с критики классической механики, которая, признавая в физическом мире необратимость в линейном времени, строила свои модели так, как если бы они имели пространственный характер. В реальности признавалась необратимость времени, а в моделях неявно преобладала обратимость. То есть Пригожин, совершенно в духе постмодернизма, обнаруживает в парадигме Модерна пережитки традиционного общества и его структур.
Отталкиваясь от этого, он выстраивает такие физические теории, которые объясняют неравновесные процессы и концептуализируют необратимые явления, основанные на неинтегрируемых системах. Это важный шаг к абсолютизации времени; теперь само вещество начинает восприниматься как временное явление и устанавливается прямая взаимосвязь массы и времени. У материи обнаруживается память.
Показательно, что Пригожин применял свои модели не только к физическим явлениям, но и к социологии, описывая с помощью своего метода динамику развития автогужевой отрасли.
В такой модели пространство становится акциденцией от времени, и идея прогресса, диахроники и иоахимитский миф снова дают о себе знать после периода почти повсеместной доминации критического структурализма. То же можно сказать и о Делёзе.
Постструктурализм (равно как и синергетика в естественных науках) как явление есть попытка возвратить приоритет диахронического начала в главенствующую эпистему науки Постмодерна, но в данном случае речь идет не о возврате к наивному и некритическому прогрессизму (темпорализм) философий истории XVIII–XX веков, а об учете и опровержении на новом этапе тех аргументов, которые составляли наиболее убедительные стороны структуралистского метода критики историцизма.
НАРКОПРОСТРАНСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ
Еще одной разновидностью пространства Постмодерна является наркопространство. Оно имеет две составляющие: с одной стороны, это планетарная сеть нелегальной структуры наркотрафика — от плантаций в Боливии, Перу или Афганистане через центры обработки в Колумбии или Люксембурге вплоть до гигантских торговых сетей драг-дилеров, присутствующих в каждом индустриальном городе. Эта сеть наркоторговли может быть взята (кстати, так делает тот же М. Кастельс) за образец постмодернистской сети как таковой.
Во-первых, она состоит из разнородных элементов: крестьяне, выращивающие и собирающие урожай опиатов, конопли или марихуаны; технические специалисты по переработке сырья (к ним по социологической и технологической функции примыкают специалисты — химики и медики — по производству синтезированных наркотиков); преступные наркокартели, контролирующие гигантские финансовые потоки, которые сопоставимы с бюджетами развитых стран и представляют собой внушительные экономические показатели. Спецслужбы большинства стран, где осуществляется добыча, переработка и массовое распространение наркотиков, как правило, стремятся манипулировать этими процессами в своих геополитических интересах. И наконец, гибкость и адаптивность драг-дилеров, их навыки проникать в любые среды и создавать и расширять клиентуру в самых различных социальных группах могут служить образцом развития глобального рыночного подхода, сверхэффективного менеджмента, интерактивной и оперативной подготовки и переподготовки кадров. Структура планетарного наркотрафика представляет собой модель глобального пространства, разнородные сегменты которого интенсивно и эффективно коммуницируют друг с другом, выстраивая системное взаимодействие вокруг одного конкретного товара — наркотиков, добиваясь при этом бешеных результатов и обходя множество труднопреодолимых преград. В качестве успешно функционирующего, бурно развивающегося и предельно адаптивного к изменению внешних условий сетевого ризоматического пространства сеть мировой наркоторговли может быть взята за оптимальный образец.
Кроме предельной и гиперэффективной рационализации сетей производства, переработки и доставки, включенных, как клубневые подземные корневые системы, в номинальное пространство планеты, наркотрафик имеет еще одну важную черту. Употребление наркотиков провоцирует облегченный и субстанционально обусловленный доступ к структурам коллективного бессознательного, то есть к пространству мифов и сновидений, которые в наркотическом опьянении переживаются выпукло, остро и пронзительно. (Вспомним, что в коллективном бессознательном находятся, по Юнгу, точки нуминозности, которые несут в себе опыт сакрального — das Heilige, о чем говорилось в разделе 1.) Наркотик — это билет в страну мифа, то есть в то живое пространство, которое составляет саму природу воображения. От обескровленного и десакрализированного социума инерциального Модерна с его объектным пространством наркоман бежит в страну знаменателя, во «Внутреннюю империю» («Inner Empire» — так называется фильм постмодернистского режиссера Дэвида Линча). Дэвид Кроненберг в фильме «Завтрак нагишом» по одноименному роману Уильяма С. Берроуза (1875–1950) описывает структуры наркотического путешествия, где реальное пространство постепенно переходит в галлюцинации. Убедителен в этом смысле также фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» режиссера Терри Гильема по роману Хантера С. Томпсона (1937–2005) с Джонни Деппом в главной роли.
Через наркотики наркоман пытается прорваться к подлинной географии воображения, войти в то пространство, которое пребывает в «знаменателе» человеческой дроби. Но при нынешней оппозиции логоса и мифоса, предопределяющей структуры социума, примирить и гармонизировать между собой эти два этажа невозможно, поэтому такой путь ведет к десоциализации, моральной и физической деградации, маргинализации, девиации, а далее к делинквентности, болезням, ускоренному старению и преждевременной смерти. Через наркотики, несмотря на иллюзию освобождения, человек не только не выпускает на волю бессознательное, но лишь еще больше укрепляет власть обескровленного социума, который эксплуатирует человека двояко — и лишая его мифа в рациональном, социальном измерении, и продавая ему иллюзорную причастность к мифу через теневую сеть наркотрафика, на определенном уровне сопрягающуюся с репрессивным аппаратом социума (теми же спецслужбами).
Представим себе гипотетически отсутствие в обществе Модерна разветвленной сети наркотрафика. Энергии «знаменателя», мифологические напряжения бессознательного, голос мифологического пространства рано или поздно стали бы настолько отчетливыми и властными, что неудовлетворенность и потребность в возвращении мифа достигли бы критического уровня и вылились на социальные этажи логоса. Вспомним, что участники студенческих восстаний в Европе и Америке 1968 года одним из главных провозглашали лозунг «Свободу воображению!». Иными словами, давление мифа рано или поздно переросло бы в социально-политическую стратегию. Попав в сеть наркоторговли — в наркопространство во всех его смыслах (и в первом, и во втором), — человек (как правило, молодой) расходует энергию мифа и силу имажинэра в стерильном саморазрушении, в иллюзии того, что цель уже достигнута, причем простейшими средствами. В результате отчужденная система получает и деньги, и контроль, и покорность маргинализированного потенциального «революционера», который соскальзывает от перспективы изменения общества к малому и самоубийственному циклу получения очередной дозы.
ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Под стать наркопространству и виртуальное пространство Интернета, компьютерных игр, анонимного сетевого общения. Здесь также преобладает миф, но только искусственный, фрагментарный, манипулируемый разработчиками игр и технологий из мультинациональных глобальных корпораций. Отождествляясь с тем или иным персонажем, изобретая собственную историю и даже пол в сетевом общении, участник виртуального пространства выплескивает ностальгию по глубине. Но проявляется это в двухмерном пространстве экрана, где отсутствуют световая вертикаль символических образов и телесная глубина пространственных грез ноктюрна.
Виртуальное пространство захватывает внимание, время, средства, и в этом процессе, так же как в наркопространстве, постепенно расходуется потенциал мифологического сопротивления. Логос ставит перед остаточным мифосом знаменателя зеркало в форме компьютерного экрана, и тот, завороженный увиденным, блокируется в своих попытках выбраться на поверхность, оставаясь загипнотизированным иллюзиями. А параллельно этому логоцентричный социум только усиливает свой контроль над прикованными к компьютеру существами, выкачивая из них энергию, творчество и гарантируя себе прочный заслон от возможных ощутимых последствий (потенциальных революций) на уровне числителя.
ВЕЛИКАЯ ПАРОДИЯ НА ПРОСТРАНСТВО
Итак, мы видим, что Постмодерн стремится преодолеть механическое пространство Модерна, сделать его более гибким и подвижным. Но вместе с тем речь идет отнюдь не о возврате к пространству мифа, но, напротив, о более изощренных, гибких и эффективных стратегиях по блокировке знаменателя. В отличие от пространственных стратегий Модерна, теперь пространство мифа не просто игнорируется, будучи запертым в глухом подвале, но начинает фальсифицироваться, подделываться, имитироваться, заменяться симулякрами, частично выпускаться, чтобы каждый росток немедленно включать в жесткую модель новых систем контроля.
Внешние параллели между пространствами Делёза, сюжетами наркотических состояний, горизонтами виртуального мира, с одной стороны, и базовыми архетипами коллективного бессознательного — с другой, не должны нас обманывать. Это не просто разные изводы пространства, это прямо противоположные стратегии, и Постмодерн в этом смысле ни в коей мере не является сам по себе возвратом к Премодерну, несмотря на некоторые пародийно схожие черты. Чтобы точно описать отличие, традиционалистский философ Р. Генон назвал такое положение дел «великой пародией»23 (о чем шла речь в предыдущем разделе на примере «яйца мира»), а социолог Жан Бодрийяр говорил в этом отношении о «порядке симулякров»24.
Контрольные вопросы
1. Как трансформируется пространство в эпоху Постмодерна?
2. Что такое «тело без органов» в философии Ж. Делёза?
3. Как понимает современное пространство социолог М. Кастельс?
ПРИЛОЖЕНИЕ
СОЦИОЛОГИЯ ГЕОПОЛИТИКИ
ГЕОПОЛИТИКА КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
Сегодня много споров ведется о статусе геополитики среди других наук. Одни считают, что это ответвление теории международных отношений, другие — разновидность военной стратегии, третьи вообще отказывают геополитике в научности, считая ее вариацией «политической идеологии».
Это проистекает из некоторых исторических аспектов становления геополитики — в частности, из-за институционализации геополитики как науки в Германии 1920–1930-х годов и близости (на ранних этапах) одного из крупнейших геополитиков немца Карла Хаусхофера (1869–1946) к Гитлеру. Это спровоцировало настороженное отношение к геополитике и со стороны либерально-демократических режимов в ХХ веке, и со стороны СССР, где, кроме всего прочего, геополитика была признана «буржуазной наукой» (в этот разряд были занесены не только представители немецкой школы, но и ее англосаксонские отцы-основатели). В сталинскую эпоху одно только подозрение в интересе к геополитике влекло за собой репрессии — как мы видим это в случае разгрома школы выдающегося советского экономического географа В.Э. Дена (1867–1933) (так называемое «дело геополитиков»25).
Корректное определение геополитики связано с пониманием самой этой науки и ее методов как отдельного направления в социологической науке, так как основным объектом исследования геополитики является именно общество, причем взятое в его тотальности, цельности и первичности по отношению к отдельным составляющим элементам (что является отличительным признаком именно социологии) и соотносимое с пространством, в котором это общество пребывает и которое оно, с одной стороны, отражает, а с другой — конституирует. В свете того, что мы говорили выше о роли пространства в социологии, особенно в структурной социологии, было бы совершенно справедливо отнести геополитику к структурному направлению в социологии. Примат пространства в геополитической методологии также сближает эту дисциплину со структурализмом в широком понимании.
Таким образом, с точки зрения окончательной институционализации геополитики корректнее всего отнести ее к разряду социологических дисциплин.
Основные категории, которыми оперирует геополитика, — Суша и Море, теллурократия и талассократия, сердечная земля (heartland), береговая зона (rimland), разбойники Моря и разбойники Суши, Левиафан и Бегемот и др. — относятся к разряду привычных для социологии научных метафор, подобных героям/торговцам у Зомбарта, Gemeinschaft/Geselschaft у Тённиса, трем типам общества (идеационному, идеалистическому и чувственному) у Сорокина, парам культура/цивилизация у Шпенглера, приготовленное/сырое у Леви-Стросса, сакральное/профаническое у Дюркгейма и т. д.
Характер геополитического анализа мировых проблем, будучи специфичным, вполне вписывается в зону социологических исследований: он также оперирует со статистикой, классифицирует базы данных, соотносит между собой разнообразные социальные факты и явления. Но оригинальность геополитики состоит в том, что широкий спектр социальных фактов она интерпретирует в своих особых координатах.
ГЕОПОЛИТИКА КАК СОЦИОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА
Мы неоднократно в данном разделе ссылались на колебания классических социологов (Мосса, Хальбвакса и т. д.) относительно интерпретации пространства как социального явления. И постарались показать причины этого: интуиция социологов подсказывала им, что пространственный фактор (в виде социальной морфологии) находился не в сфере объекта социологического изучения, но заложен в самом основополагающем методе, в самой природе социологии. Этим вызвана критика Моссом «антропогеографии» — имелись в виду работы Ф. Ратцеля (1844–1904), основателя политической географии и идейного предтечи геополитики26.
Но если внимательно вдуматься в критику Мосса, мы увидим, что он критикует не столько сам подход, сколько натуралистическое понимание окружающей среды и «географический детерминизм», где пространство мыслится как нечто внешнее и целиком автономное от общества, но влияющее на него. Мосс настаивал на первичности социальной морфологии, то есть на первичности социума, которая не просто проявляется в подлаживании к окружающей среде и пассивной аффектации ею, но структурирует и даже конституирует саму эту среду через проекцию своей имплицитной морфологии.
Вместе с тем мы видели, как другой классик социологии, Морис Хальбвакс, преодолевает эту трудность и закладывает основания социологии пространства. С учетом методологических поправок Мосса относительно первичности социальной морфологии и концепций социологии глубин Дюрана о пространственной природе воображения можно обоснованно говорить о геополитике как одной из версий социологии пространства.
Ф. РАТЦЕЛЬ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Фридрих Ратцель рассматривает государство как живой организм, основными параметрами которого являются:
1) отношение к пространству;
2) демография;
3) культура.
Оформление пространства, устроение народа и культурные формы определяют социальное содержание этого организма — открывают перспективы роста и развития или, напротив, предопределяют деградацию и упадок. Недостаточные территории могут стать препятствием для органического развития общества, считал Ратцель. Определенные идеи Ратцеля перекликаются с социал-дарвинистской социологией Спенсера с различием выводов: Ратцель приходит к органицистскому этатизму, а Спенсер — к аристократическому либерализму.
Р. ЧЕЛЛЕН: ГОСУДАРСТВА КАК ФОРМЫ ЖИЗНИ
Ученик Ратцеля, швед Рудольф Челлен (1864–1922) был социологом и политологом. В своей книге «Государство как форма жизни»27 он впервые вводит понятие «геополитики».
С точки зрения геополитики Челлена существует три основных фактора, влияющих на положение государства:
1) расширение;
2) территориальная монолитность;
3) свобода передвижения.
Геополитику Челлен определил следующим образом: «Это наука о Государстве как географическом организме, воплощенном в пространстве»28, что повторяет идею его учителя Ратцеля. Из текстов Челлена следует при этом, что не только государства структурируются в тесной привязке к пространственным параметрам, но и общество в своем устройстве вписывается в окружающую среду всякий раз специфическим образом, что влечет за собой многочисленные социокультурные особенности.
У Ратцеля и Челлена впервые мы встречаемся с идеей географии как судьбы, которая может служить девизом всех геополитиков. Однако следует учитывать, что здесь речь идет об особой географии, политической географии, антропогеографии (Ратцель) или социальной географии, то есть о географии социумов.
А. МЭХЭН: «МОРСКОЕ МОГУЩЕСТВО»
Довольно сходные мысли совершенно независимо от германской школы развил американский контр-адмирал А. Мэхэн (1840–1914), который в монументальном исследовании «морского могущества»29 и его влияния на мировую политику представил картину стратегического видения роли США в планетарном масштабе с опорой на концепцию Моря как пространственной опоры и привилегированной стихии. Мэхэн показал на множестве исторических примеров, что контроль над морскими просторами и береговыми зонами является ключом для достижения мирового господства. Он же сформулировал военную стратегию США с опорой на военно-морские силы, которая остается доминирующей в США вплоть до сегодняшнего дня.
История ХХ века доказала правоту и проницательность идей Мэхэна, так как, следуя очерченной им геополитической логике, американцы действительно достигли внушительных успехов в установлении контроля над большей частью планеты.
Мэхэн остается в рамках стратегии, но концентрация внимания исключительно на морской стихии и связанных с ней возможностях в общих чертах предвосхищает геополитический метод. В Мэхэне мы видим движение к геополитике со стороны стратегического мышления.
Х. МАКИНДЕР: СОЗДАТЕЛЬ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ТОПИКИ
Прорыв в геополитическом методе осуществил довольно прагматический англосаксонский аналитик и эксперт Хэлфорд Дж. Макиндер (1861–1947). Будучи озабоченным концептуальным обеспечением британской экспансии и удержанием за Англией статуса «владычицы морей», Макиндер закладывает основные методологические принципы новой науки. С полной уверенностью можно утверждать, что геополитика берет свое начало в небольшой статье Макиндера «Географическая ось истории»30, опубликованной в 1904 году в «Географическом журнале». Следовательно, истинным основателем геополитики надо считать англосаксонского либерал-демократа Макиндера (что, помимо всего прочего, снимает всякие подозрения в связи этой науки с национал-социализмом).
Макиндер утверждает, что для государства самым выгодным географическим положением было бы срединное, центральное положение. «Центральность» — понятие относительное, и в каждом конкретном географическом контексте она может варьироваться. Но с планетарной точки зрения в центре мира лежит евразийский континент, а в его центре — «сердце мира», или «heartland». Heartland — это средоточие континентальных масс Евразии. Это наиболее благоприятный географический плацдарм для контроля над всем миром.
Heartland является ключевой территорией в более общем контексте в пределах Мирового Острова (World Island). В Мировой Остров Макиндер включает три континента: Азию, Африку и Европу.
Таким образом, Макиндер иерархизирует планетарное пространство через систему концентрических кругов. В самом центре — «географическая ось истории», или «осевой ареал» (pivot area). Это геополитическое понятие географически тождественно России. Та же «осевая» реальность называется «heartland», «земля сердцевины».
Далее идет внутренний, или окраинный, полумесяц (inner or marginal crescent). Это пояс, совпадающий с береговыми пространствами евразийского континента. Согласно Макиндеру, «внутренний полумесяц» представляет собой зону наиболее интенсивного развития цивилизации. Это соответствует исторической гипотезе о том, что цивилизация возникла изначально на берегах рек или морей, так называемой «потамической теории». Надо заметить, что последняя теория является существенным моментом всех геополитических конструкций. Пересечение водного и сухопутного пространств является ключевым фактором в истории народов и государств. Эта тема в дальнейшем специально будет развита у Шмитта (1888–1985) и Спикмена (1893–1943), однако первым вывел эту геополитическую формулу именно Макиндер.
Далее идет более внешний круг: внешний, или островной, полумесяц (outer or insular crescent). Это зона целиком внешняя (географически и культурно) относительно материковой массы Мирового Острова (World Island).
Макиндер считает, что весь ход истории детерминирован следующими процессами. Из центра heartland’а на его периферию оказывается постоянное давление так называемых «разбойников суши». Особенно ярко и наглядно это отразилось в монгольских завоеваниях. Но им предшествовали скифы, гунны, аланы и т. д. Цивилизации, проистекающие из «географической оси истории», из самых внутренних пространств heartland’а имеют, по мнению Макиндера, авторитарный, иерархический, недемократический и неторговый характер. В древнем мире он воплощен в обществе, подобном дорийской Спарте или Древнему Риму.
Извне, из регионов «островного полумесяца», на Мировой Остров осуществляется давление «разбойников моря» или «островных жителей». Это колониальные экспедиции, проистекающие из внеевразийского центра, стремящиеся уравновесить сухопутные импульсы, исходящие из внутренних пределов континента. Для цивилизации «внешнего полумесяца» характерны «торговый» характер и «демократические формы»политики. В древности таким характером отличались Афины или Карфаген.
Между этими двумя полярными цивилизационно-географическими импульсами находится зона «внутреннего полумесяца» которая, будучи двойственной и постоянно испытывая на себе противоположные культурные влияния, является наиболее подвижной и становится благодаря этому местом приоритетного развития цивилизации.
История, по Макиндеру, географически вращается вокруг континентальной оси. Она острее всего ощущается именно в пространстве «внутреннего полумесяца», тогда как в heartland’е царит «застывший» архаизм, а во «внешнем полумесяце» — полухаотический динамизм31.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Макиндер приводит здесь основные моменты того, что можно назвать геополитическими осями координат или геополитической топикой. Вместо географии и даже политической географии мы имеем дело с социологией, оперирующей фундаментальными категориями, которые располагаются в особом концептуальном пространстве. Это пространство не тождественно физической географии, это особое геополитическое пространство, растянутое между двумя концептуальными полюсами — Сушей (Рим) и Морем (Карфаген). Между ними ведется борьба (конфликтологический аспект), которая есть мотор социального и исторического развития. Промежуточная — «береговая» — зона есть поле соперничества между внешними и внутренними силами (по отношению к этой зоне).
Другой геополитик, Николас Спикмен32, продолжатель Мэхэна, несколько оппонируя Макиндеру, но принимая и развивая его метод, утверждал, что именно «береговые зоны», вынужденные постоянно отвечать на вызовы «разбойников Суши» и «разбойников Моря» и комбинировать сухопутные и морские черты в своих культурах, являются творческими источниками развития цивилизации и очагами социокультурной динамики. Эти элементы являются столь же базовыми для геополитического анализа, как оси социальной стратификации и социальных групп для классической социологии. Поэтому геополитическое пространство — это в первую очередь социальная морфология, а не физическая география. Это особенно наглядно видно в том, как описывает Макиндер Сушу и Море, поскольку в этом описании преобладают социокультурные критерии — Суша (Рим, Спарта) соответствует консервативным ценностям, иерархии, воинскому сословию, константам, пространственности, укорененности, постоянству, а Море (Карфаген, Афины) — развитию, прогрессу, изменчивости, демократии, торговле, подвижности, адаптивности, космополитизму и темпоральности. Одним словом, подход геополитики есть типично социологический подход и ее категории суть категории социологические, соответствующие основным критериям социологической теории.
Можно сказать, что геополитика есть одна из социологических гранд-теорий, которая в силу ряда исторических обстоятельств и превратного понимания долгое время оставалась на обочине институционализированных должным образом социологических исследований.
КАРЛ ХАУСХОФЕР (1869–1946)
Германская школа геополитики ассоциируется с именем Карла Хаусхофера33 (1869–1946) (и его коллег по журналу «Zeitschrift fur Geopolik» Обста, Маулля и т. д.), который действительно развил и систематизировал многие прикладные аспекты геополитического анализа. Но в научно-методологическом плане взнос Хаусхофера в геополитику был довольно скромным, а тяжелый стиль его текстов и подчас неясность изложения (Хаусхофер был в первую очередь генералом, а от военных красноречия ожидать, как правило, не приходится) отталкивают от его работ не меньше, чем миф о его близости к Гитлеру (при этом тщательный анализ его отношений с Третьим Рейхом и факт участия его сына Альбрехта в попытке покушения на Гитлера в 1944-м, в результате чего Альбрехт Хаусхофер (1903–1945) был казнен, показывают, что отношение Хаусхофера к нацизму неоднозначно).
КАРЛ ШМИТТ: ЛЕВИАФАН И БЕГЕМОТ
Намного более фундаментальный вклад в геополитику внес другой немецкий ученый, юрист и социолог Карл Шмитт. В своих работах «Номос земли»34 и особенно «Земля и Море»35 (а также «Теория партизана»36 и т. д.) он дал фундаментальное обоснование основных геополитических категорий, предложенных Макиндером, с точки зрения философии, истории, социологии. Шмитт сумел оценить громадный социологический и методологический потенциал макиндеровской геополитики и возвел эти концепции в статус полноценных и обоснованных научных теорий.
Именно Шмитт утвердил термины «Суша» («Земля») и «Море» как фундаментальные концепции, описывающие типы цивилизации, а не простые констатации развитости и неразвитости флота в том или ином государстве и островное или континентальное проживание того или иного народа.
Карл Шмитт на примере битв Испании и Англии за господство над мировым океаном продемонстрировал, что две державы, имеющие огромный флот и множество заморских колоний, могут представлять собой две противоборствующие геополитические тенденции: Англия — морскую, Испания — сухопутную. Все дело в том, что у англичан «Море как стихия» вошло в базовую структуру их социальности, а у испанцев — нет, и их социальность осталась «сухопутной». В частности, это нашло свое выражение в дальнейшей судьбе двух Америк. Англосаксонские США стали морской державой по стратегической ориентации и по доминирующему культурному типу, а страны Латинской Америки построили общества сухопутного (теллурократического) типа.
Это принципиальный момент. Шмитт показывает, как стихия — то есть структура пространства — способна войти в социальность на уровне ее корней и предопределить в дальнейшем парадигму, вектор и стиль развития.
Показательно объяснение Шмиттом промышленного технологического рывка, совпавшего с подъемом Англии как мировой морской державы. Шмитт — в духе классических социологических теорий — объясняет развитие науки и техники в русле научной парадигмы Модерна именно влиянием Моря, а еще точнее, тем, что английские мореплаватели — в том числе и пираты — встали на сторону Моря как особой динамичной, постоянно меняющейся стихии и начали смотреть на Сушу со стороны берега, а не со стороны внутриконтинентальных глубин. Инкорпорировав в свое социальное самосознание текучесть морской стихии, англичане в какой-то момент спроецировали отношение экипажа корабля (чисто мужского, оторванного от окружающей пучины, населенной неприручаемыми животными и постоянными опасностями) на социальную реальность, и результатом этого стал механицизм, рывок в техническом развитии, резкий рост значения финансовых институтов — потоки капитала, ликвидность (то есть жидкостность) и т. д.
Шмитт вводит дополнительные синонимы к базовой геополитической паре, определяя Сушу как библейского Бегемота (сухопутного зверя), а Море — как библейского Левиафана (морское чудовище). Битва между ними предопределяет характер геополитической динамики. Возможно, Шмитта на эти образы натолкнули многолетние исследования философии Томаса Гоббса (1588–1671), главная книга которого называется «Левиафан»37.
Геополитические идеи Шмитта могут быть лучше поняты, если мы соотнесем их с концепциями Башляра относительно «грез о веществе». И, в свою очередь, книги Башляра «Вода и грезы»38, «Земля и грезы покоя»39 и «Земля и грезы воли»40 станут лучше понятными через призму концепций Шмитта.
ГЕОПОЛИТИКА И РЕЖИМЫ ВООБРАЖЕНИЯ
Здесь напрашивается один методологический ход. Осознав социологический характер геополитического подхода, мы вполне можем поискать соответствия между категориями «Суша» и «Море» в понимании Карла Шмитта (то есть в привязке к социологической природе стихий), с одной стороны, и режимами архетипов в социологии глубин Жильбера Дюрана — с другой. И в данном случае философские идеи Делёза о свойствах пространства также могут нам помочь.
Сразу бросается в глаза, что категория «Суша» (Бегемот, Рим, Спарта) есть привилегированная область героического мифа, то есть режима диурна. Константность, иерархия, постоянство, консерватизм, традиционализм и, напрямую, героизм как нельзя более точно соответствуют свойствам постуральных мифов, мифов о вертикали.
Стихия Моря, воды относится к сфере ноктюрна, женского начала. В чистом виде эта стихия — без корабля — соответствует мистическим мифам (или «скользящему пространству» Делёза, по которому свободно катится в произвольном направлении «тело без органов»). Корабль является расширенной версией чаши — женского символа по преимуществу — отсюда погребальные корабли и обычай некоторых народов хоронить покойников в воде (память о чем сохранилась в русском народе вплоть до начала ХХ века в девичьем обряде «похорон кукушки»).
Береговая зона, где идет постоянная борьба между Сушей и Морем, представляет собой пространство развертывания драматических мифов (копулятивный рефлекс). Такому соотнесению соответствует идея Спикмена о том, что именно в береговой зоне происходит наиболее интенсивное и динамичное культурное созидание.
В этой же перспективе мы можем истолковать совпадение эпохи основных тенденций в науке и искусстве Возрождения и введение нового представления о десакрализированном пространстве с эпохой великих географических открытий и освоением Мирового океана (как стихии воды).
Углубление и развитие этих намеченных соответствий может существенно обогатить методологию геополитики.
ЕВРАЗИЙСТВО И ПРОСТРАНСТВО
В России геополитическая школа стала складываться только в 90-е годы ХХ века, после публикации моего учебника41 (с включенными в него в качестве хрестоматии основными заново переведенными геополитическими текстами Макиндера, Мэхэна, Хаусхофера, Шмитта и других). Однако предшественники геополитического подхода были и раньше.
О стратегическом положении России в мире стали всерьез систематически задумываться российские военные — Д.А. Милютин42 (1816–1912), А.Е. Снесарев43 (1865–1937), а А.Е. Вандам44 (Едрихин) (1867–1933), русско-советский офицер военной разведки, написал ряд работ, которые по своему значению и по качеству обобщений вполне сопоставимы с трудами Мэхэна. Но в отличие от «морской силы» русские предшественники геополитики рассматривали ситуацию с позиции Суши, интересам которой перманентно угрожали англосаксы (цивилизация Моря).
Книги славянофилов К. Леонтьева45 и Н. Данилевского46 обосновывали природу России как особой цивилизации, отличной от западной и обладающей своей собственной системой ценностей. Такой подход также прекрасно вписывается в геополитику.
И наконец, прямое знакомство с идеями Макиндера мы находим у одного из представителей евразийского движения — Петра Савицкого (1895–1968) в статье «Континент–Океан»47.
Евразийцы развили теорию России как цивилизации, полагая, что это цивилизация самобытная, имеющая западные и восточные черты, но не сводимая ни к Европе, ни к Азии. При этом евразийцы подчеркивали — как и все геополитики — значение пространственного фактора в определении основных свойств цивилизации.
Савицкий разработал концепцию «месторазвития», основанную на утверждении, что невозможно рассматривать культурный тип в отрыве от пространства, в котором он появляется. Здесь мы сталкиваемся с важнейшей чертой социологии (и структурализма) — выделением пространственного фактора как главенствующего. Философии истории видят развитие как протекающий принципиально во времени процесс. Идея «месторазвития» акцентирует, напротив, роль пространства.
Основателем евразийства был Николай Трубецкой48 (1890–1938), крупнейший лингвист с мировым именем и последователь Ф. де Соссюра. Другом и единомышленником Трубецкого и по науке (фонология), и по евразийству был Роман Якобсон (1896–1982), другой крупнейший лингвист мирового масштаба. Якобсон в Нью-Йорке близко сотрудничал с Леви-Строссом и стал для него проводником в область структурализма. Леви-Стросс неоднократно признавал, что Якобсон был той фигурой, которая предопределила его занятия структурной антропологией, которую Леви-Стросс и создал.
Таким образом, в русском евразийстве мы видим сосредоточение некоторых принципиальных научных и методологических тенденций, связанных с социальным пространством: это и идея рядополагания цивилизаций по синхронической пространственной схеме (развитие идей Данилевского), и концепт «месторазвития» (как преобладание фактора пространства над фактором времени), и цитирование Макиндера (с соответствующей перестановкой позиций и принятием на себя ответственности за цивилизацию Суши — а это и есть Россия, «сердечная земля», по Макиндеру), и выдающиеся исследования в области структурализма (вплоть до принципиального влияния на крупнейшего структуралистского философа и антрополога Леви-Стросса). Кроме того, многие идеи евразийцев — в частности, об «идеократии», «евразийском отборе», позитивной переоценке влияния азиатских культур (монгольской, тюркской) на становление русского социокультурного стиля [эту линию приоритетно развивал Лев Гумилев (1912–1992), называвший себя «последним из евразийцев»], о гарантийном государстве [у евразийца Н.Н. Алексеева49 (1879–1964)] — без всяких натяжек можно отнести к области социологии50.
Евразийская мысль — в геополитическом, социологическом и философском измерениях — тесно сопряжена с социальным пространством; пространственный фактор — и в смысле внутренних корней социальной морфологии, и в смысле значения, придаваемого социальным структурам пространства в их фундаментальных основаниях (Суша/Море), — играет здесь решающую роль.
Контрольные вопросы
1. К какой науке следует отнести геополитику?
2. Кто автор концепции «морского могущества»? В чем суть этой концепции?
3. Каковы две главные силы, которые сталкиваются между собой в геополитической картине мира?
РЕЗЮМЕ
Суммируем основные моменты данного раздела.
1. Пространство в социологии не симметрично времени. Оно является не социальным конструктом (как время), но внутренней и конститутивной стороной социума. Социум пространственен.
2. Режимы воображения отвечают на вызов времени-смерти развертыванием пространственных структур. Разные режимы конституируют разные аспекты и измерения пространства — в зависимости от характера отношения ко времени.
3. Архаическое пространство как пространство мифа по преимуществу есть социальное пространство в его корневой основе.
4. Религия, особенно монотеизм, постепенно приводит к выделению социального логоса, корректирующего архаические структуры пространства и соответствующие модели социума.
5. Новое время развертывает радикально новую матрицу пространства как объектной стороны бытия, создавая механическое отчужденное пространство. Это не случайно совпадает с эпохой великих географических открытий.
6. Структурализм (и отчасти социология) в критической фазе становления парадигмы Модерна пытается реабилитировать пространство.
7. Постмодерн, особенно постструктурализм, обосновывает новые типы пространства, отвергающие и пространства Модерна, и пространства Премодерна. «Пространство потоков», «пространство сети», «виртуальное пространство», «наркопространство», «ризоматическое пространство» постепенно вытесняют пространство Модерна, не позволяя при этом всплыть мифологическому пространству «знаменателя» иначе как в форме симулякров, пародии, остатков (residui).
1 Даже позитивизм и механицизм ранней социологии показывают на стремление к выделению статичной матрицы. В механике время обратимо; ее законы позволяют рассматривать процесс в любой временной точке; время, ось времени, изображается статически и мыслится статически — как совокупность временных моментов, каждый из которых фиксирован (парадокс о летящей-покоящейся стреле Зенона).
2 Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект-Пресс, 1996.
3 Castells M. The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell,1996; Idem. The Network Society: A Cross-Cultural Perspective. Cheltenham, UK; Northampton, MA, Edward Edgar, 2004.
4 О новейших тенденциях в системной социологии см.: Давыдов А.А. Системная социология. М.: Эдиториал. УРСС, 2006.
5 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология. М., 2003. Т. 1.
6 Pauli W., Jung C.G. Ein Briefwechsel 1932–1958. Berlin: Springer Verlag, 1992.
7 Bonaparte M. Chronos, Eros, Thanatos. Paris, 1952. Мария Бонапарт, правнучка Наполеона Бонапарта и супруга греческого короля Георгия II, принцесса Греческая и Датская, была ученицей Фрейда и помогла ему спастись от нацистов.
8 Корбен А. Световой человек в иранском суфизме // Волшебная Гора. 2002. № 8.
9 Козин С.А. Сокровенное Сказание Юань Чао Би Ши. М.; Л., 1941. См. также: Гумилев Л.Н. «Тайная» и «явная» истории монголов XII–XIII вв. // Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977; Гаадамба Ш. «Cокровенное сказание монголов» как памятник художественной литературы XIII века. М., 1961.
10 См.: Дугин А. Символы великого Норда. М., 2008.
11 Башляр Г. Вода и грезы. М., 1998.
12 См.: Дугин А. Метафизика Благой Вести // Абсолютная Родина. М., 2000; Он же. Философия традиционализма. М., 2002; Он же. Философия политики. М., 2004; Он же. Постфилософия. М., 2009, где подробному разбору особенностей монотеизма и креационизма посвящены большие концептуальные блоки.
13 См.: Генон Р. Символика креста. М., 2003.
14 См.: Дугин А. Эволюция парадигмальных оснований науки. М., 2002.
15 Антрополог Маргарет Мид (1901–1978), изучая мифы примитивных племен, обратила внимание на тот факт, что дети в этих племенах не знают сказок и мифов (Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М., 1988). Миф есть удел взрослого населения, в первую очередь — мужчин племени, прошедших инициацию. Сознание ребенка примитивного племени столь же материалистично и недоверчиво, практично и вульгарно, как сознание современного взрослого европейца, и за всеми явлениями оно стремится увидеть утилитарный интерес или простейшие грубые мотивации. И наоборот, сознание взрослого воина и охотника настроено на волну мифа и в этом больше похоже на психологию современных европейских детей, верящих в сказки и боящихся злых фей. Это свидетельствует о перемене мест двух пространств — мифологического и логического — у архаических и современных народов. Но миф никуда не делся, и у взрослых цивилизованных людей он перешел в область подсознания и стал источником перманентного беспокойства (исследованием и лечением этого занимался в течение всей своей жизни Карл Густав Юнг).
16 Луман Н. Общество общества. М., 2005.
17 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000 (http://polbu.ru/kastels_informepoch/).
18 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.
19 Там же.
20 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007.
21 Пригожин И.Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986; Prigogine I., Nicolis G. Self-Organization in Non-Equilibrium Systems. Wiley, 1977; Prigogine I. From Being To Becoming. Freeman, 1980.
22 Само понятие «синергетика» ввел в оборот современный немецкий физик Герман Хакен в 1977 г. См.: Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980.
23 Генон Р. Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм Данте. М., 2003; см. также: Дугин А. Постфилософия. М., 2009.
24 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.
25 Чепарухин В.В. В.Э. Ден и современная Россия // Известия РГО. 1994. № 2. С. 89–91.
26 Ratzel F. Anthropogeographie. Stuttg., 1882–1891. Bd. 1–2; Idem. Politische Geographic. Munch.; Lpz., 1897; Idem. Raum und Zeit in Geographie und Geologie: Naturphilosophische Betrachtungen/ Hrsg.
v. P. Barth. Lpz., 1907.
27 Челлен Р. Государство как форма жизни. М.: Роспэн, 2008.
28 Там же.
29 Mahan A.T. The Interest of America in Sea Power, present and future. London: Sampson Low, Marston & Company, Limited, 1897. См.: Мэхэн А.Т. Влияние морской силы на историю, 1660–1783. М.: ACT; СПб.: Terra Fantastica, 2002.
30 Макиндер Х.Дж. Географическая ось истории // Дугин А. Основы геополитики. М., 2000.
31 Дугин А. Основы геополитики. М., 2000.
32 Спикмена называют «крестным отцом» политики «сдерживания» и «холодной войны», так как именно он обосновал геополитически необходимость стратегического давления стран Запада (в первую очередь США) на Советский Союз, не позволяя тому распространить влияние за пределы евразийского континента. См.: Spykman N. The Geography of the Peace. New York: Harcourt, Brace and Company, 1944; Idem. America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power. New York: Harcourt, Brace and Company, 1942. Вместе с тем Спикмен был не только геополитиком, но и социологом и одну из своих ранних работ посвятил социальным теориям Георга Зиммеля. См.: Spykman N. The Social Theory of Georg Simmel. Chicago: University of Chicago Press, 1925.
33 Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет. М.: Мысль, 2001.
34 Шмитт К. Номос земли. СПб., 2008.
35 Шмитт К. Земля и Море // Дугин А. Основы геополитики. М., 2000.
36 Шмитт К. Теория партизана: Промежуточное замечание по поводу понятия политического. М., 2006.
37 Schmitt C. Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Berlin, 1938.
38 Башляр Г. Вода и грезы. М., 1998.
39 Bachelard G. La Terre et les rêveries du repos: essai sur les images de l’intimité. J. Corti, 1948.
40 Bachelard G. La Terre et les rêveries de la volonté: essai sur l’imagination de la matière. J. Corti, 1947.
41 Первое издание книги вышло в 1997 г. См.: Дугин А. Основы геополитики. М., 1997.
42 Милютин Д.А. Первые опыты военной статистики: В 2 кн. СПб.: Типография военно-учебных заведений, 1847. Кн. 1; Он же. Первые опыты военной статистики: В 2 кн. СПб.: Типография военно-учебных заведений, 1848. Кн. 2.
43 Снесарев А.Е. Философия войны. М.: Финансовый контроль, 2003.
44 Вандам А.Е. Геополитика и геостратегия. М.: Кучково поле, 2002.
45 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Леонтьев Константин. Избранное. М., 1993.
46 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1995.
47 Савицкий П. Континент Евразия. М., 1997.
48 Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 1999.
49 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998.
50 О евразийстве в целом см.: Основы евразийства / Под ред. А. Дугина. М., 2002.
Схема 13. Социальная морфология
Социальные страты (и классы)
Социальные группы
Статус
Социальные страты — ось Y
власть
Социальные группы — ось X
Государство
богатство
Экономика
образование
Религия
Наука
престиж
Искусство

Схема 15. Рунический календарь


Схема 16. Тибетская мандала

Схема 17. Мистический ноктюрн
РАЗДЕЛ 5
СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ:
ЧЕЛОВЕК КАК СТРУКТУРА
ГЛАВА 5.1
HOMO SOCIOLOGICUS
СТАТУС И РОЛЬ
В классической социологии центральным понятием является точка, расположенная в социологическом пространстве с двумя осями координат — осью X (социальных групп) и осью Y (социальной стратификации). Эта точка отмечает статус, в котором заложены соответствующие ему роли. Через свой социальный статус (как фиксированной статической величины) и исполнение вложенных в статус ролей (или неисполнение их) человек определяется как социальное явление, как «социологический человек» (Р. Дарендорф).
Социология в том разделе, в каком она занимается проблемой человека, имеет дело именно со статусом или многими статусами, а остальные вопросы, связанные с природой и сущностью человека вне его социальных связей и позиций, социология предоставляет исследовать другим наукам, подразумевая при этом, что исследование человека вне общественного контекстанесущественно. Более того, социологические максималисты убеждены, что любое философское, психологическое, экономическое и даже биологическое представление о человеке суть производные от социальных установок, довлеющих над теми, кто пытается эти вопросы ставить и изучать. Вообще социология скептически относится к тем направлениям в науке, которые игнорируют социальную матрицу и ее влияние на все стороны человеческой жизни — от быта до фундаментальной науки.
Поэтому постановка в центре внимания социологически понятой антропологии статуса имеет огромное значение: в этом выражается сама суть социологического метода, в котором неявно можно прочитать подразумеваемую истину — человек есть явление социальное и представляет собой совокупность социальных статусов и социальных ролей.
ТИПЫ СТАТУСОВ
Американский антрополог и социолог Ральф Линтон (1893–1953) разработал структуру социальных статусов, разделив все возможные статусы на две категории: предписанный или приписываемый, прирожденный статус (ascriptive status) и достигаемый или достигнутый, приобретенный статус (achieved status)1.
Приписываемый статус, по Линтону, — это социальный статус, с которым человек рождается (он определяется расой, полом, национальностью) либо который будет ему назначен по прошествии времени (наследование титула, состояния и т. д.).
Достигаемый статус — социальный статус, который достигается в результате собственных усилий человека.
Если положение, занимаемое человеком, обладает одновременно свойствами приписываемого и достигаемого статуса, то говорят о смешанном статусе.
Эти определения чрезвычайно важны. В социологическом смысле человек есть явление не биологическое и не зоологическое, а социальное. Даже такие, казалось бы, природные свойства, как пол или раса, суть производные от распределения социальных статусов, почерпнутых из структуры общества, а не присущие человеку как таковому — вне общества и помимо общества. Обладал ли бы расой и полом человек вне общества, нельзя сказать наверняка, так как само существование данной ситуации с точки зрения социологии есть нелепость. Человек социален по своей сущности, и само представление о животных, инстинктах и полах есть проявление социальности — коллективного сознания. Белка не знает ни того, что она белка, ни того, что мимо нее проползает еж, ни того, что она самка, а рядом на ветке сидит самец. У белки нет самосознания, и все ее свойства, якобы присущие ей, приписаны ей извне — человеком (зоологом, экологом или простым наблюдателем), а тот, в свою очередь, полностью сформирован обществом. Поэтому биология не предшествует социальности, но является одним из социальных концептов. Биологическое объяснение отдельных сторон человека вполне допустимо, но оно будет не чем иным, как одной из социальных гипотез наряду с другими.
Различие между двумя видами статусов, предложенное Линтоном, показательно. Предписываемый статус помещает его носителя в жесткий контекст, хотя новейшие либеральные тенденции и операции по смене пола и расы (например, ныне покойным популярным певцом Майклом Джексоном) показывают, что предписанный статус, казавшийся ранее незыблемым, можно искусственно корректировать — но эта коррекция тоже будет социальным действием и продуктом вполне определенной социальной тенденции, связанной с расширением «прав человека». С другой стороны, хотя достигаемый статус и составляет коридор свободы для социального человека, существует жестко структурированная обществом позиция, и, освобождаясь от прежнего статуса при достижении нового, человек ни в коей мере не освобождается от жесткой привязки к социальной структуре.
Поэтому даже самое широкое и гибкое толкование человека как статуса не способно обособить человека от решающего и тотального воздействия социума.
АНТРОПОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Антропологией называется — в широком смысле — наука о человеке. В древности, начиная с Аристотеля, под этим понималось направление, изучающее духовную сторону человека, откуда берет начало религиозная и философская антропология. Физическая антропология (как подраздел общей биологии и зоологии) изучает человека как биологический организм. Культурная антропология концентрирует свое внимание на изучении архаических этносов и племен, чаще всего не имеющих письменности. Иногда под антропологией без уточнений в наше время понимают именно такую культурную антропологию.
Последнее словоупотребление не случайно, поскольку многие антропологи, занимавшиеся изучением примитивных культур и этносов, пришли к основополагающим выводам о древних глубинных корнях человеческого мышления (архаического мышления, «la pensee sauvage», «дикарской мысли», по Леви-Строссу), которые скрыты и замаскированы в более развитых культурах, но тем не менее присутствуют там и предопределяют в них многие фундаментальные процессы.
На социологию культурная антропология Э.Б. Тэйлора (1832–1917), Дж. Фрэзера (1854–1941), Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса, Б. Малиновского (1884–1942), М. Мид, А. Рэдклифф-Брауна (1881–1955), Ф. Боаса (1858–1942) и других оказала огромное влияние. В области пересечения культурной антропологии и социологии возникло общее смежное направление — социальная антропология.
Социальная антропология фокусируется на тех антропологических вопросах, которые касаются непосредственно социальных структур архаичных этносов. Но так же, как сами антропологи так или иначе экстраполируют результаты исследования архаических культур на современные общества (хотя и делают это чрезвычайно осторожно и косвенно — более через подразумевания, чем через прямые утверждения), социальные антропологи прилагают свои исследования не только к «примитивам», но и к современным обществам: именно в архаических обществах наглядно фиксируется костяк социальности, который лежит в основании общества как такового и представляет его структуру, завуалированную и переведенную в статус подразумеваемой всеми, но не привлекающей пристального внимания «операционной системы» в обществах более комплексных и многоэтажных.
Эти определения подсказывают, что социальная антропология имеет все отличительные признаки структурного подхода, и не случайно одним из ярчайших классиков антропологии является Леви-Стросс, называвший свое направление исследований «структурной антропологией»2.
Здесь следует напомнить то, что мы говорили ранее относительно сущности социологии. Вся полноценная социология в силу самого своего метода и своих базовых, конститутивных для науки установок есть в той или иной степени структурная социология, хотя в узком смысле это понятие принято относить к теории П. Сорокина и его последователей (Э. Тириакьян и т. д.). Точно так же вполне можно сказать, что вся антропология есть структурная антропология, хотя в узком смысле последняя относится преимущественно к Леви-Строссу и его школе.
СОЦИУМ КАК ПИСЬМО БЕСПИСЬМЕННЫХ КУЛЬТУР
То, что антропологи фокусируют внимание на бесписьменных культурах, не случайно. Они стремятся обнаружить в них то, что позже станет системой знаков и письма, а значит, и фундаментом письменных культур, к которым относится культура Модерна.
Так, Леви-Стросс, применив к исследованию архаических обществ метод структурной лингвистики, предложил рассмотреть социальные отношения древнейшего племени как язык, в котором морфологической основой являются структуры родства и браков, а аналогом слов и высказываний — обмен женщинами между фратриями и кланами, а также выстроенные на схемах этого обмена конструкции патрилинейных и матрилинейных связей.
Социальная организация и родственные связи составляют «письмо» бесписьменных культур, текст, в котором проявляет себя социальное бытие людей.
Первичные табу, среди которых наиболее древним и фундаментальным является табу на инцест, кровосмешение, объяснялись Леви-Строссом социально. Он приводит свидетельство, полученное Маргарет Мид3 от одного аборигена из Новой Гвинеи (племя арапеш) относительно «безумия мысли жениться на собственной сестре». Арапеш провозглашает в споре с воображаемым сторонником инцеста: «Ты с ума сошел? А откуда у тебя возьмутся свояки? Ведь если ты женишься на правильной девушке, не на сестре, то у тебя будут сразу два свояка — брат жены и муж сестры. А так — с кем ты будешь охотиться?! К кому будешь ходить в гости?!» Леви-Стросс ассоциирует нарушение табу на инцест с нарушением грамматических правил письма — с неверным использованием падежей или ошибкой в склонении или спряжении. Родство (брат–сестра) и свойство (брат жены–муж сестры) являются ключами к дешифровке социальной антропологии, включая структуры мифов, многих обрядов, устройства селений, представлений о пространстве и времени и т. д.
Правила языка социальной антропологии вбирают в себя и другие пары и системы оппозиций — например, сырое–приготовленное (или триаду жареное–вареное–копченое), что соответствует фундаментальному делению мира на культуру и природу. По глубинным осям социальной морфологии распределяются в дальнейшем символы, тотемы, мифы, профессии, социальные институты, страты, классы и т. д.
ТАБУ И НАО
Общеизвестный термин «табу», означающий сакральный запрет, в меланезийском языке сопровождается другим сакральным термином — «нао», что означает «сакрально допущенное, позволенное». Это очень важное понятие, так как наделяет качеством сакральности не только запрет, но и позволения. Часто считают, что запрет сакрален, а то, что не запрещено, а просто позволено, разрешено, не имеет сакральной нагрузки. Это не так: «нао», священное позволение, сродни благословению. Это не просто допущение совершить незапрещенное, но поощрение к совершению этого. Пара «табу»/«нао» кодифицирует структуру социальной антропологии.
Можно привести близкий нам пример Великого поста в православии. Во время поста вкушение мяса, молока, рыбы, яиц, продуктов животного происхождения запрещено. Это сакральный запрет, «табу». Но на Пасху священник читает особую разрешительную молитву, освящая скоромные продукты — яйца, творог и т. д. При этом православные наставления не просто позволяют вкушать на Пасху скоромную пищу, но и порицают тех, кто этого не делает. Иными словами, если человек постится тогда, когда надо есть скоромную пищу, он также идет против логики священного, и за это ему положена епитимья и даже более жесткие формы наказания. Это значит, что он нарушает «нао» — отказывается выполнять благословленное и также священное действие, в данном случае — поглощение непостной пищи.
DO KAMO
Теперь рассмотрим, как в контексте социальной антропологии в архаических обществах определяется статус. Хрестоматийный пример этого находим в работах известного антрополога и этнолога Мориса Леенгардта (1878–1954), изучавшего меланезийский этнос канаков в Новой Каледонии4. Леенгардт был протестантским проповедником и многие научные открытия сделал, пытаясь объяснить аборигенам христианство, для чего, как выяснилось, отсутствовали базовые концептуальные предпосылки. Кстати, другой протестантский проповедник, этнолог, антрополог и лингвист Дэниел Эверетт, столкнувшись в бразильском бассейне Амазонки с уникальным индейским племенем пирахан, у которого в языке вообще не было числительных5, из-за неудачных попыток объяснить им простейшие вопросы христианства даже разочаровался в вере.
Леенгардт обнаружил, что в среде канаков вообще отсутствовал термин для обозначения индивидуального «я». В разных случаях, когда большинство языков предполагает произнесение «я», «мне», «мое», меланезийцы произносят: «Do Kamo», что означает «живое существо», «то, что живет»6. «Do Kamo» — это и человек, и группа людей, и клан, и фетиш — змея на головном уборе вождя, к которому жена вождя обращается так же: «Do Kamo».
Далее, Леенгардт подметил, что меланезийские юноши никогда не ходят поодиночке, но всегда группами. И, говоря о себе, они всегда повторяют: «Do Kamo», что подразумевает их группу как общее нерасчленимое существо. Даже на свидание с девушками меланезийские юноши ходили небольшими коллективами, равно как и девушки. Как происходят свидания, Леенгардт выяснить не смог. Дальше — больше: оказывается, у канаков нет представления об индивидуальном теле, тело для них — «одежда Do Kamo». Не более того. Сводя воедино значения о социальной структуре канаков, Леенгардт пришел к следующей схеме:
Схема 18. Do Kamo
На схеме разные «а» — это статусы Do Kamo. Одно «а» — это Do Kamo как муж, другое «а» — Do Kamo как воин. Третье «а» — Do Kamo как охотник. Четвертое «а» — Do Kamo как участник магического или религиозного обряда. Do Kamo женится на другом Do Kamo, причем если одна женщина другого Do Kamo уже вышла за кого-то замуж, то берется другая сестра, которая считается той же самой Do Kamo.
Если спросить меланезийца: «А что внутри этой схемы? Каков Do Kamo сам по себе?» — в ответ он недоуменно пожмет плечами. Do Kamo — это тот, кто есть, он не объясняется ни через что другое. Но Do Kamo можно лишиться. Если человек совершает какой-то проступок или преступление, он выбрасывается из социальных структур, лишается статуса. После этого у него нет имени, нет бытия. Это самое страшное для меланезийца — стать социальным изгоем, потерять Do Kamo. Это намного хуже смерти, так как в социальном контексте умерший член общества становится духом, продолжает жить в других частях клана, то есть Do Kamo сохраняется. Потерять Do Kamo — это значит бесследно исчезнуть, даже если биологическая индивидуальность еще где-то осталась.
ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУУМА: ПУСТОЕ МЕСТО
Do Kamo — ключ к социологии, это объяснение фундаментального содержания понятия «статус». Общество как дистрибутор статуса есть дистрибутор Do Kamo, социального бытия.
В социальной антропологии и социологии как таковой не может быть обосновано содержание индивидуума. Автономного индивидуума (отличного от статуарного набора) вообще нет. Единственное, что есть, — это статус, опознанный как Do Kamo. Конечно, такая чистая картина существует лишь в простых обществах, да и среди примитивных народов не всегда все излагается столь откровенно, но на уровне базовых структур социологического метода все именно так, и исследование общества — даже самого сложного и многослойного — должно начинаться с тщательного изучения того, как формируются в нем статусы и вложенные в них роли, какова сложность и какова форма фигуры с пустым центром. То, что статус функционален, социален и внеиндивидуален, является очевидным. Но вот описание того, что пребывает в центральной пустоте, то есть индивидуума (человека как индивидуума), гораздо менее очевидно не только в отношении того, каков он, но и в более глубоком смысле: а есть ли он вообще?
Как правило, социология этот вопрос не ставит, ограничиваясь изучением статуса (Do Kamo). Но, тем не менее, вполне можно рассмотреть версии того, что те или иные школы и философские системы полагают в пустом центре нашей фигуры. Но это рассмотрение следует производить с социологических позиций, то есть всегда удерживая в сознании, что мы анализируем вторичные и третичные конструкции, основанные не на прямом прорыве в сущность человека, а на социально обусловленных представлениях, на которые статусы и статуарные наборы вполне конкретного общества оказывают чаще всего решающее воздействие.
Итак, что можно поставить в пустой центр?
ИДЕЯ СОЦИОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИНДИВИДУУМА: ФЕРАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Социал-дарвинистская модель либеральной социологии (Г. Спенсер) пытается выделить в человеке внесоциальное ядро через обращение к его зоологической составляющей. Внутри социального человека живет феральный (от латинского «fera» — «дикий зверь») человек, зверочеловек, ницшеанская «белокурая бестия» («bestia» — латинское «зверь»).
Феральный индивидуум движим звериными инстинктами — выживания, пищи, размножения, и социальность толкуется здесь как маска феральности, а общество превращается в джунгли. Английский философ Томас Гоббс7 сформулировал следующую истину феральной социологии: «Человек человеку волк» (homo homini lupus est). Если принять такую антропологическую топику, то мы получаем социум как естественное поле действия хищных зверей (предаторов). Гоббс считал, что государство-Левиафан (порядок, власть, социум) возникает как проявление рассудочной стороны феральных людей, добровольно договаривающихся о соблюдении некоторых правил под угрозой всеобщего истребления — «войны всех против всех». То есть естественная звериность добровольно ограничивается системой рассудочных договоров, которая сплошь и рядом лишь канализирует агрессию, легитимизируя ее через правомочное полицейское насилие (насилие со стороны государства, направленное против тех, кто нарушает договоренности) и стихию межгосударственных войн (выплескивающих агрессивную феральность и хищные инстинкты вовне).
Жесткой форме такого ферального либерализм Гоббса, Спенсера и отчасти Ницше (философия которого в целом сложнее и парадоксальнее), противостоит мягкий социал-дарвинизм таких авторов, как Ф. фон Хайек (1899–1992) и т. д. Французский философ Ален де Бенуа описывает теорию Хайека так:
«Современная цивилизация сформировалась в процессе культурной эволюции и естественного отбора, а социальные правила играют роль своеобразных мутаций в этой неодарвинистской теории: некоторые из них выживают в силу большей эффективности, предоставляя естественное преимущество тем, кто их принимает. Такой социал-дарвинистский взгляд естественным образом соотносится с идеологией прогресса и предполагает оптимистическое, сугубо утилитарное понимание человеческой истории»8.
Феральность в таком подходе выступает не прямо, а опосредованно, как движущая сила развития общества.
Идеи Хайека развивают теоретик «открытого общества» Карл Поппер9 (1902–1994) и мировой спекулянт Дж. Сорос.
КОНРАД ЛОРЕНЦ: ЗООСОЦИОЛОГИЯ
Оригинальным развитием феральной антропологии является теория Конрада Лоренца (1903–1989), называемая этологией10. По Лоренцу, человек есть животное гораздо в большей степени, чем это принято считать. В доказательство своего тезиса Лоренц, будучи прекрасным знатоком животного мира и выдающимся зоологом, приводит множество сложнейших ситуаций из жизни зверей, при которых детерминизм инстинктов формирует гигантское поле выбора и индивидуальных стратегий. Этология Лоренца —это самая настоящая зоосоциология, так как в его трудах демонстрируются и обобщаются примеры моногамных семей у лебедей и ворон, больших семей у крыс, где не только оба родителя, но и деды и бабки, а также дяди и тети заботливо ухаживают за новорожденными крысятами, никогда не путая своих малышей с представителями других больших семей и т. д. В среде животных есть агрессия и милитаризм, пацифизм и миролюбие, коллективизм и индивидуализм, трудолюбие и беззаботность. Теории Лоренца существенно нюансируют упрощенный подход ранних феральных гипотез, как правило, подчеркивающих жесткость и агрессивность звериных стратегий. Лоренц системно убеждает нас, что звериность бывает не просто обаятельной, но почти «нравственной». Так, он говорит о «парламенте инстинктов». Социолог справедливо заметит тут особенности влияния коллективного сознания на позиции (и проекции) зоолога. Жесткие либералы-рационалисты, пытаясь обосновать экономическое неравенство, видели в животных свое зеркальное отражение — звери у них были преимущественно агрессивны и эгоистичны. Прошедший Вторую мировую войну в войсках вермахта, раскаявшийся в нацизме и получивший дозу гуманистического послевоенного перевоспитания в духе «прав человека» и «толерантности», Лоренц описывает царство зверей в «экологических» тонах с высокой долей прекраснодушия. На смену мускулиноидной феральности в стиле «hard» приходит феминоидная феральность в стиле «soft».
Вполне в духе этой мягкой зоосоциологии многие явления, считавшиеся ранее социально-культурными, в последнее время принято объяснять феральными свойствами приматов. Отсюда, в частности, идея пролиферации феромонов (феральных гормонов), объясняющих влечение людей друг к другу наличием специфических запахов, улавливаемых бессознательно.
Но, помещая в центр статуарного набора зверя, мы все равно не можем обосновать индивидуума, так как звериные инстинкты по определению внеиндивидуальны. И кроме того, толкование звериности несет на себе несмываемый отпечаток человеческой социальности, так что мы приходим к замкнутому кругу.
HOMO VIVENS
Более утонченная форма заполнения пустоты индивидуального начала предложена последователями философии жизни — Дильтеем (1833–1911), Ницше, Зиммелем, Бергсоном. В их теориях индивидуум есть носитель витальной энергии, не сводящейся к чисто звериным инстинктам, но скорее являющей собой волю к жизни, или «elan vital» (фр. «жизненный порыв») Бергсона.
Немецкий философ-романтик Людвиг Клагес (1872–1956) сформулировал эту же идею в формуле «Дух как враг души» («Geist als Widersacher der Seele»11): под душой он имел в виду жизненную энергию, а под духом — рациональные структуры, в том числе социальные.
Жизненный порыв не социален, но индивидуален, «человечен» и оживляет бытие формальных и фиксированных социальных структур.
Но снова, как и в случае с инстинктами, индивидуальность этой жизненной энергии никак не доказывается и не обосновывается. Вся аргументация сводится к тому, что она не проистекает из социума и не является механическим следствием его закономерностей. С этим можно согласиться. Но несоциальность жизненной энергии еще никак не означает ее индивидуальности.
Нам указали, что пустота в центре перекрестья социальных отношений, то есть в центре совокупного статуса (полного статусного набора, по определению американского социолога Р. Мертона), наполнена энергией жизни. Хорошо. Но почему эта энергия неделима (то есть этимологически «ин-дивидуальна» — по-латыни «in-dividuo», «неделимый», то же, что греческое «а-том»)? Даже если она разлита не только в социальным человеке, но и в других сегментах бытия, сами эти сегменты не залог внутренней цельности, и, более того, само представление о них в свою очередь есть не что иное, как социально предопределенные проекции. Снова замкнутый круг.
ИНДИВИДУУМ КАК СТАТУС В «ПОНИМАЮЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ» М. ВЕБЕРА
По другому пути в доказательстве индивидуума и его бытия идет Макс Вебер. Социология Вебера обосновывает индивидуума как рациональное существо, способное к расчету. В чистом виде это homo economicus. Он рождается, по Веберу, из секуляризации протестантской религии, в которой, в свою очередь, обосновывается индивидуум как носитель критического сознания, что следует из специфического развития общехристианского представления о душе. Неделимая душа христианской религии наделяется в Реформации свойством выносить критическое суждение о религиозных вопросах на основании рационального прочтения и толкования священных текстов Библии и Евангелия. Таким образом, постулированная христианством душа получает новое качество — отныне в протестантской логике и протестантской этике она способна критически отнестись и к самой религии, которая ее же — социорелигиозным образом — и учредила. Дальнейшая секуляризация этой критически настроенной души, остающейся на первых порах «христианкой» (выдающемуся раннехристианскому писателю Тертуллиану (155/165–220/240) принадлежит высказывание «Всякая душа — христианка»), дает нам рационального, высчитывающего свои поступки в логике причинно-следственных связей индивидуума. Лучше всего такой индивидуум проявляет себя в экономике, где развертывание рациональных стратегий, подсчетов и логических цепочек представлено наиболее наглядно. Так из протестантской этики рождается капитализм12, а вместе с ним и homo economicus.
Другой великий немецкий социолог — Вернер Зомбарт — также говорит о происхождении индивидуума из христианского учения об индивидуальном спасении13.
Действительно, не подлежит сомнению, что перенос религиозной теории индивидуального спасения на общественную модель — через фазу протестантизма — порождает буржуазно-демократические общества, где по умолчанию предполагается, что индивидуум как носитель индивидуального рассудка (индивидуальной формы социального логоса) и индивидуальной воли существует сам по себе. Но тот же веберовский и особенно зомбартовский анализ показывает со всей очевидностью, что концепт индивидуума есть результат четко прослеживаемых социальных и социологических трансформаций, которые не только безусловно первичны по отношению к фигуре такого «индивидуума», но и безупречно реконструируются на всех этапах корректным социологическим анализом. Таким образом, наличие под статуарным набором индивидуума есть не что иное, как введение нового социального статуса, обоснованного спецификой буржуазно-демократической либеральной идеологии (а до этого христианской антропологией). То есть социологическое обоснование досоциальной индивидуальности привело к прямо противоположному результату — к выяснению социально-статусной природы индивидуума. Этот статус в либерализме фундаментально мистифицирован, о чем мы будем говорить в следующем разделе.
Называя пустое место в центре социальной фигуры Do Kamo, меланезийцы называют вещи своими именами. Отказываясь от личных местоимений, они вскрывают антропологические корни социума, то есть осуществляют высшую форму научного познания. И наоборот, рациональные формы либеральной социологии, вводя фигуру индивидуума, лишь превращают строгую реальность Do Kamo в недоказуемый и произвольный миф. Отсылки же к христианской антропологии и учению о душе, будучи вполне корректными, обращают нас к иным формам антропологии, которая в своем полноценном виде намного ближе к архаическим формам, нежели к секулярному мистицизму либерального индивидуализма. Homo economicus и «невидимая рука рынка» А. Смита (1723–1790) суть фигуры особой либеральной «мистики» Нового времени.
Если проводить веберовскую логику до конца, можно сказать, что индивидуум в «понимающей социологии» есть не что иное, как еще один статус, только предписываемый нормативно в специфических типах общества — и в первую очередь в обществах буржуазно-демократических и либеральных, построенных на секуляризации христианских (особенно протестантских) представлений об индивидуальной разумной душе.
ИНДИВИДУУМ В МАРКСИСТСКОЙ ТЕОРИИ
Марксистская социология эксплицитно отрицает автономность индивидуума, утверждая классовую сущность человека. Марксизм отрицает и феральность, и душу. Он полагает, что социум имеет свои законы, которые полностью трансформируют биологическое начало в человеке и заменяют его классовым содержанием.
На пустом месте в центре фигуры в социальной антропологии марксизма стоит классовая природа общества, что много говорит нам о статусе и социальной личности, но ничего не говорит о ее автономном содержании. Более того, этого автономного содержания, по Марксу, у человека просто нет. В этом он является последовательным социологом.
Контрольные вопросы
1. Из чего состоит статус? Как вы понимаете статус?
2. Каков социальный смысл табу? Что такое «нао»?
3. Как понимает человека К. Лоренц?
ГЛАВА 5.2
ЧЕЛОВЕК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ИНДИВИДУАЦИЯ
ПОПЫТКА ОБОСНОВАТЬ ИНДИВИДУУМА В БИХЕВИОРИСТСКОЙ
(КЛАССИЧЕСКОЙ) ПСИХОЛОГИИ
Если невозможно обосновать индивидуума в социологической структуре координат, то можно попробовать перенести его в иную область. Чаще всего этой «спасительной» областью становится психология.
Психология тщится исследовать человека в отрыве от его социального статуса и социальных ролей.
На практике этого добиться невозможно, так как психологическое содержание человека (максимального очищенного от социума) состоит из:
1) десоциализированных социальных статусов и ролей (то есть не подкрепленных реальными статусами и ролями, но являющимися следствием несбывшихся ожиданий, фрустраций, фобий и т. д.);
2) памяти о прежних социальных статусах и ролях (например, в младенческом состоянии, на чем ставят акцент фрейдизм или ответвления психиатрии, изучающие пубертатный период, в частности различные формы гебефрении);
3) гипертрофированных масштабами микросоциальных отношений в малых группах (семья, трудовой коллектив и т. д.).
То есть психология изучает то же социальное, только не в актуальном, а в потенциальном аспекте. Психика в такой ситуации оказывается все той же неиндивидуальной социальностью, только пребывающей в латентном, потенциальном состоянии. Психолог оказывается последним прибежищем в случае неудачной социализации: он либо помогает пациенту собраться с силами и попытаться гармонизировать социальные отношения (чаще всего в малой группе), либо утешает его, если это по каким-то причинам не получается. И снова объектом психологического воздействия и изучения является не индивид, но носитель социальных статусов, интериоризированных в силу тех или иных причин и чаще всего находящихся в дисгармоничных отношениях с социальной средой. Индивидуальными в таком случае являются только сочетания сбоев и неудач социализации, то есть отходы становления и динамики социальной личности.
ПСИХОЛОГИЯ ГЛУБИН
Совсем иная картина предстает перед нами в другом направлении психологии — в психоанализе. Здесь вопрос о человеке, то есть антропологическая проблематика, ставится самым серьезным образом.
Так, психология глубин Юнга одной из важнейших своих задач считает обоснование индивидуации. Открытое Юнгом коллективное бессознательное является одновременно внеиндивидуальным, нерациональным (напрямую, по крайней мере), несоциальным. Поэтому апелляция к нему проблемы индивидуальности автоматически не решала.
Однако Юнг с самого начала обратил внимание на то, как проблема индивидуальности (или ее отсутствия, недоказуемости) связана с религией и различными религиозными, а также магическими, мистическими, герметическими и гностическими учениями. Поэтому психологические и психиатрические исследования Юнга всегда сопровождались детальным анализом религиозных представлений, в том числе и представлений о душе. Исследование религий — и особенно сравнительное религиоведение с учетом не только христианства и монотеизма, но и восточных религий — открывало для Юнга двоякую перспективу: во-первых, тщательного изучения географии коллективного бессознательного, чьи основные архетипы имели прямые аналоги в религиях, мифах и сакральных обрядах, и во-вторых, подход к пониманию феномена души как чего-то самостоятельного и выделяющегося как из массы сновидений, предчувствий, импульсов, так и из жесткой социальной механики статусов и ролей.
ЧЕЛОВЕК ПО ЮНГУ
Обратимся вновь к тому, как Юнг понимает человека и процесс индивидуации14. Эго — это рассудочный индивидуум, называющий себя Я. Он находится на пересечении двух внеиндивидуальных областей — социума (внешнего мира) и бессознательного.
Ту сторону Эго, какой оно обращено к социуму, Юнг называет личностью, персоной. Личность, персона и есть то, что в социологии понимается под «полным статуарным набором».
Здесь полностью действуют социальные законы. От этой линии на внешней стороне Эго развернута вся система социальных отношений и связей. Там, в экзопсихической области, начинается общество.
Схема 19. Эндопсихическая и экзопсихическая стороны Эго
Юнг постулирует, что нечто аналогичное этой персоне (пустой изнутри) существует и с обратной стороны Эго, в энодопсихической сфере. Мы можем повторить ту же схему Леенгардта, с которой начали данный раздел, только обратив ее вовнутрь.
Схема 20. Do Kamo в эндопсихической проекции
Только теперь на том конце от «а» будут структуры не социума, а коллективного бессознательного — архетипы, сны, импульсы. Вот это внутреннее пространство Эго, обращенное вовнутрь, а не вовне, Юнг назвал «душой» (анима/анимус — напомним, что у женщин, по Юнгу, душа мужского рода), то есть симметричным аналогом персоны, которая обращена вовне. Как персона есть набор статусов, сформированных обществом, так душа есть набор функций, сформированных коллективным бессознательным.
То, что казалось у Вебера обоснованием индивидуума, то есть душа, в психологии глубин Юнга стало динамическим процессом, причем столь же внеиндивидуальным, непостоянным (переменным) и функциональным (выражающим нечто иное, нежели оно само), как персона-статус.
АНАЛОГИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И СНОВИДЕНИЕМ: ЕЕ ПРЕДЕЛЫ
Социология жестко классифицирует статусы по вертикальной (высшие, средние и низшие классы) и по горизонтальной шкалам: социальные группы, профессии, принадлежность к социальным институтам и т. д. То, что соответствует социальным нормам и социализовано, относится к социальному конформизму, то, что не социализовано (десоциализировано, девиантно и, в пределе, делинквентно), помещается в рамки маргинального и относится к области аномии (сфере беззакония, распада норм, регулирующих индивидуальное поведение и социальное взаимодействие). Мы видели, как на карте социального логоса статусы распределяются по оси координат. Здесь картина предельно упорядоченная и однозначная. Любая многомерность и любые суперпозиции статусных наборов раскладываются на соответствующие им пункты по оси абсцисс и ординат.
Сходная картина наблюдается и в пространстве мифа, то есть коллективного бессознательного. Эго может находиться в разных отношениях к структуре бессознательного, и эти отношения формируют душу и ее содержание. Как персона состоит из набора статусов, так душа состоит из архетипов.
При этом в структуре внутреннего мира — души — также есть конформные и аномические сферы, повторяющие деление общества на социализированные легитимные формы и поля аномии (десоциализации). Так, области маргинального в обществе в душе человека соответствует, по Юнгу, тень. В религиозных обществах ей соответствовала фигура дьявола, обобщающая как невидимую сферу внутреннего мира (души), так и социокультурный круг, соответствующий аномии и маргинальности (преступники, сектанты, ведьмы и колдуны, а также больные, как показывает Фуко в своих книгах15, рассматривались как «социальное воплощение дьявола»).
Соблазнительно было бы продолжить аналогию между структурой общества и структурой души в мире коллективного бессознательного и попытаться провести стратификацию души, нарисовать оси, на которых мы могли бы определить положение души так же точно, как мы отмечаем положение статуса в пространстве социальных координат. Что касается стратификации, то она у Юнга есть: внутри у Эго есть пласты — память, субъективные компоненты функции, аффекты, инвазии, индивидуальное бессознательное, коллективное бессознательное. Но выделение психоаналитической стратификации не дало бы нам полной аналогии с социальной системой координат, так как едва ли душу можно поместить на одну из этих страт (что было проделано со статусом). Иерархии глубины в юнгианской топике не дали бы нам точной гомологии с обществом.
СОЦИУМ ГОМОЛОГИЧЕН РЕЖИМУ ДИУРНА
Чтобы выяснить причину такой асимметрии, обратимся к Жильберу Дюрану и его режимам бессознательного. Мы уже упоминали, что социальный логос вырастает не просто из мифоса, но приоритетно из героического (диайретического, различающего) мифа, из диурна. В социальном пространстве и в самой идее иерархизации страт по вертикали заложен механизм развертывания героического архетипа, конституирующего, как мы видели в предыдущем разделе, ось вертикали. Поэтому гомология будет прослеживаться только между социумом и теми архетипами, которые относятся к мифу диурна. Вот там действительно можно проследить некий аналог социальной вертикали. Этой вертикали будет соответствовать процесс движения от коллективного бессознательного к рациональному Эго. В этом — и только в этом! — режиме коллективное бессознательное и (отчасти) индивидуальное бессознательное можно сопоставить с низшим классом, промежуточную эндопсихическую область (инвазии, аффекты, субъективные компоненты функций и память) — со средним классом, а само Эго — с высшим классом. На этой оси покоится сама юнгианская этиология психических заболеваний: «понижение ментального уровня» Эго от нормы через невроз и вплоть до психоза есть снисхождение по психическим слоям в направлении болезни.
Другими словами, по аналогии с социальным лифтом, мы имеем дело с психиатрическим лифтом, поднимающим душу от бессознательного уровня на уровень сознаниям (или опускающим ее). При этом душа выступает здесь столь же функционально и зависимо от структур коллективного бессознательного, как статус — от структуры общества.
Ось этого процесса Юнг и называет индивидуацией. На уровне архитектуры психики человек движется к Эго, подобно тому как на уровне социума он движется к высшим этажам. Душа же есть местоположение движения, точка пребывания психиатрического лифта на том или ином этаже. То есть душа в таком понимании есть явление функциональное и переменное. Душа есть процесс. Более того, душа есть процесс развертывания только одного режима воображения — героического. Поэтому душа и даже ее аналоги присутствуют не во всех религиозных системах, а только в тех, где диурническое начало выражено сильнее всего.
АРХАИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК НОРМАТИВНОЕ
Если мы возьмем архаическое общество, то получим полное совпадение структуры сновидения или процесса актуализации символов и знаков, с одной стороны, и обрядов и обычаев социальной практики — с другой. Душа и персона в этом обществе есть не просто симметричные явления, но две стороны строго одного и того же жеста — развертывания структур имажинэраво всех направлениях, и эти направления (внутреннее и внешнее) конституируются именно развертыванием. Внешнее (социальное, персона) и внутреннее (душа) в архаических обществах есть строго одно и то же. Именно поэтому архаические общества следует взять как нормативные и образцовые. В этих обществах полнее и органичнее всего выражена суть человека во всем его творческом объеме.
На этом пути развертывания души тень (дьявол) конституирует свой теневой сегмент общества. В области тени копятся фрустрации, неудачи, сбои, отклонения, помехи, фрагментации, остановки и соскальзывания на пути индивидуации — каждому из подобных явлений соответствует тот или иной психиатрический диагноз или порок в моральных системах. В обществе же тени соответствуют десоциализированные, маргинальные элементы, все то, что считается обществом неприемлемым, нелегитимным, неприличным, отверженным.
ПРОБЛЕМА НОКТЮРНА
Аналогия между стратификацией социума и эндопсихическим миром получилась стройной в режиме диурна. Но бессознательное намного шире, и в нем полнокровно действуют иные группы символов — режим ноктюрна, практика эвфемизма. Эта часть мифа гораздо менее четко отражается в социальной модели и не поддается прямому переносу в социальную сферу.
«Психология глубин» называется так потому, что она изучает человека вглубь, не страшась того, что она может обнаружить там внутри, и не ставя себе цели прийти к заведомо известным выводам из рационального опыта и привычной культуры.
В жестко диурнических системах (психологиях, религиях и моральных системах) режим ноктюрна без колебаний отнесли бы к категории тени и далее третировали бы соответствующим образом. Но столь жесткие системы довольно редки, и большинство социальных моделей допускает ноктюрн в свою структуру при условии его ограничения, экзорцизма, изгнания из него опасных, зловещих сторон.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДРАМАТИЧЕСКИХ КОПУЛЯТИВНЫХ МИФОВ
Драматический ноктюрн прежде всего институционализирован через социализацию гендера и социальный институт брака. Сама стихия отношений мужчина–женщина считается опасной для общества и поэтому подлежит многочисленным табу, требует соблюдения множества обрядов, запретов, предписаний, ограничений. Прежде чем допустить эрос в социум, необходимо соблюдать множество предосторожностей, осуществить обряды экзорцизма, так как речь идет о социализации/индивидуации опасных архетипов. Поэтому брачные обряды являются самыми развитыми, сложными и устойчивыми — обряд венчания в церкви или гражданской регистрации брака суть далекие отголоски сложнейшей религиозно-очистительной обрядовости.
КУКУШКИНЫ ПОХОРОНЫ
На Руси до начала ХХ века сохранялись обряды девичников, называемые «кукушкины похороны». Перед выдачей замуж девки собирались в безлюдном месте на берегу реки или ручья, сооружали небольшого размера куклу (она называлась «кукушкой») и пускали по потоку, при этом плача и выкрикивая особые ритуальные формулы, часто с обсценной лексикой, проклиная мужчин, сожалея о девичестве и описывая темные стороны брачной жизни.
Вступление в брак мыслилось как опасный переход в новый режим. Женская природа, вода, смерть, кукла актуализировались в обряде как стихия ноктюрна, с которым невеста и ее подружки прощались на пороге нового, диурнического режима, где ноктюрну предстояло быть укрощенным и порабощенным в условиях доминации мускулиноидности.
СТРУКТУРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ
Институт семьи является фокусом пересечения двух режимов бессознательного, вовлеченных в процесс индивидуации. Семья есть вертикальная ось диурна, надстроенная над горизонталью синтетического ноктюрна. Человек в пространстве семьи развертывается социально и гендерно одновременно. На уровне индивидуации это означает, что вертикаль индивидуации в данном случае включает в себя элементы ноктюрна, а не выносит их за пределы социума. Семья — это основа социального экзорцизма, в ней день на договорных началах мирится с ночью, к чему всегда готова ночь, но почти никогда не готов день (согласно Дюрану).
Если в сфере социальной публичности женщины исключаются, то в рамках семьи они получают определенную легитимацию.
Именно семья в обществе обосновывает и гендер (то есть социальный пол) женщин как таковой и снабжает их антропологическим свойством. Женщина есть человек только в социальном пространстве семьи. Сама по себе, в чистом виде, она выносится за рамки человеческого вида, что иллюстрируется бесчисленными рассказами о ведьмах, колдуньях, Бабе-яге, которые всегда изображаются одинокими (чаще всего пожилыми, вышедшими за рамки брачного периода) женщинами.
Социум диурничен по определению, и семья есть институт допущения женщин к сфере дня. Но при этом следует соблюдать многочисленные и ритуальные предосторожности: во многих культурах женщины не садятся за стол с мужчинами, живут в отдельной (женской) половине, прячут лицо или волосы от посторонних мужчин, не могут прикасаться к определенным предметам или произносить отдельные имена, относимые к исключительному ведению мужчин, и т. д.
ТЕМНАЯ МИСТИКА ОБЕДА
Мистический режим мифа также допускался до социальных практик после экзорцизма. Причем правила здесь были еще более жесткие.
Дело в том, что мистический ноктюрн в человеке есть необоримое влечение к коллективному бессознательному в его нерасчлененной, целостной стихии; сила сопротивления героическому мифу асцензиональной психологии; антитеза полету и подъему; движение, влекущее в глубины сна, в норы внутренней тьмы. То есть эта группа мифов прямо противоположна индивидуации.
Лишь некоторые аспекты, сопряженные с ночной стороной имажинэра, интегрировались в общественное пространство. В частности, речь шла об обряде приема пищи. Это сопровождалось также множеством ритуальных предписаний, ограничений, сложных церемоний и табу. Само приготовление разных видов блюд, по Леви-Строссу, в разных культурах — как архаических, так и современных — является компактным выражением всего культурного кода, содержит в себе формулу всего общества в целом. Что есть, когда, как, с кем и как это готовить, подавать, обставлять — все это представляет собой огромную работу духа по изгнанию из мистического ноктюрна его уничтожающей стороны, которая состоит в том, чтобы эвфемизировать время и смерть. Из съедаемой материи необходимо изгнать смерть.
Поэтому трапеза, с одной стороны, часто переносилась в пространство семьи, как бы вглубь и так уже ноктюрнического института, а с другой — часто экстериоризировалась, представлялась как пир, который всегда был чем-то иным, нежели просто приемом пищи — например, охотой, уничтожением противника (поглощение пищи становилось аналогом схватки), жертвоприношением Do Kamo и т. д. Пир мог переходить в частично узаконенную оргию, в ходе которой правила диурна временно отступали и стихия ночи захлестывала пирующих (в таких случаях одним обжорством и пьянством, как правило, дело не ограничивалось и происходили иные эксцессы — свальный грех, драки, богохульства и т. д.).
ЖИВОТ И ТЕНЬ
Не будучи тенью в полном смысле юнгианской терминологии, режим мистического ноктюрна, тем не менее, представляет собой притяжение к полюсу, обратному полюсу Эго, к которому стремится процесс диурнической индивидуации.
Тень — это ипостась неудавшейся индивидуации, неосмысленные архетипы бессознательного, столкнувшиеся с блокадой рассудка; признанные нелегитимными желания. Чаще всего они состоят из неупорядоченных позывов драматического ноктюрна и безграничного набора копулятивных поползновений (либидо). Такая частота драматических сюжетов, накапливаемых в области тени, и позволила Фрейду свести психоанализ к выявлению веера подавленных рассудком сексуальных желаний.
Мифы мистического ноктюрна — это скорее пласты человека, которые вообще противоположны подъему. Они служат магнитом глубокого сна без сновидений, к плотным слоям великого покоя, к комфорту растворения в чистой телесности. Тень и дьявол мыслятся подвижными и юркими, магия глубокого дигестивного ноктюрна — это спокойное и неподвижное урчание сытого живота.
И тем не менее именно мистический ноктюрн представляет собой наиболее конститутивный слой тени, так как притяжение коллективного бессознательного и создает психоаналитическую «гравитацию», которая блокирует процесс индивидуации, угрожая тем самым обрушить Эго и, соответственно, социальные структуры. Поэтому к мифах так часто появляется фигура злодеев — чудовищ, драконов и т. д., — которые проглатывают главных персонажей или других людей. Ужас быть проглоченным — дигестивный ужас, сопровождающийся образами падения внутрь желудка (великана, огра), и предвосхищение дальнейшей диссоциации во тьме агрессивной ненасытной утробы (с образами предварительного приготовления — разделки, варки, жарки и т. д.) — является важнейшим мотивом сказок и легенд самых разных народов. Эта сторона мистического ноктюрна входит в структуру тени как важнейшая составляющая.
СОЦИУМ ТОЖДЕСТВЕНЕН ПСИХИКЕ
С этой поправкой на различные режимы аналогия между юнгианским представлением о человеке психологическом и человеке социологическом становится полной и абсолютной.
В сфере психики есть вертикальная ось — это диурническая траектория индивидуации, перевода коллективного бессознательного на уровень Эго. Фигурой этого динамического процесса является душа (анима/анимус), которая структурирует архетипические мотивы, символы, знаки, видения, сны, импульсы, идущие из глубин, в соответствии с особым паттерном. Здесь можно было бы задаться вопросом: а каков этот паттерн души и каким образом он появляется?
Можно сказать, что в этом случае мы также имеем дело с прямым аналогом общества. Есть универсальная модель социума с его стрелами, осями, константами. То есть абсолютная структура общества. Структурная социология оперирует именно с такой структурой. Но каждое конкретное общество относится к частной подгруппе, соответствующей ограниченному числу парадигм. В предыдущих разделах мы видели некоторые парадигмальные модели, описывающие типы обществ (традиционное, современное, постмодернистское и т. д.). Процесс социализации и качество статуса, а также специфика заложенных в каждом статусе ролей зависят от того, какое конкретное общество мы рассматриваем. То есть наряду с базовым типом общества (Idealtypus Вебера или Normaltypus Зомбарта) мы имеем дело с конкретным паттерном.
Оставим в стороне рассуждения о природе и причинах различия конкретных обществ — налицо факт наличия в каждом из них постоянной и общей для всех части и исторических или пространственных отличий.
Точно так же и с душой. Она имеет общий паттерн — функциональный и топологический. Душа всегда и во всех случаях представляет собой траекторию индивидуации коллективного бессознательного по диурническому маршруту диайрезиса. Но конкретные параметры этого маршрута и конкретные профили души могут различаться.
И теперь самое главное: между различиями паттерна души и конкретными типами обществ имеется прямая связь. Что здесь первично, установить невозможно: либо душа социальна, то есть является продуктом общества, либо общество душевно, то есть является продуктом работы души — причем души конкретного паттерна. И сама невозможность выяснить, что первично, уже указывает на то, что это не два отдельных процесса, но нечто единое, интегральное и целое.
На практике это очевидно: в разных обществах существуют разные представления о душе или ее аналогах. Где-то душа динамична и почти совпадает с коллективным бессознательным, где-то она строго индивидуализирована, причем так, что напоминает Эго (протестантизм), где-то находится строго между коллективным бессознательным и Эго, а где-то считается лишь частным случаем «великого Я», Selbst (учение об атмане в индуизме). И всякий раз представления о душе и ее структуре строго соответствуют социальной структуре и, соответственно, качественному содержанию социальной персоны, личности (как носителя совокупного статуса).
Это наблюдение показывает, что двойная социокультурная топика, обоснованная нами в первом разделе, предельно соответствует анализу такого явления, как человек, и обосновывает его (двояко)функциональную индивидуальность.
Душа и социальная персона на пересечении дают нам индивидуума, но это пересечение в сингулярном есть повторение на новом уровне внутреннего родства обобщенной социальности и обобщенной психичности, то есть коллективного сознания и коллективного бессознательного, которые не разнородны в своих истоках, но однородны (если не сказать тождественны), хотя и развернуты в соответствии с различающимися кодами, траекториями и сценариями.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАЕКТ: СТРУКТУРАЛИСТСКИЙ ГУМАНИЗМ
Последнее замечание снова приводит нас к концепции антропологического траекта. По Дюрану, траект есть способ ответа изначального имажинэра на вызов времени-смерти. Траект растянут между воображаемым объектом и воображаемым субъектом, которые являются двумя измерениями его ответа (героического или эвфемистического) на вызов смерти. Траект и есть человек.
Социальное выражение траекта развертывает социальную морфологию, то есть структуру социума. Вторым действием пространство социума развертывает визуальное пространство внешнего мира и социальное время (как форму борьбы с ним и победы над ним). Это вектор объективации траекта.
Психоаналитическое измерение траекта в точности повторяет то же самое, но только в измерении психики, структурируя коллективное бессознательное в соответствии с тремя группами мифов и двумя режимами. Более того, социальность и психологизм траекта не суть два отдельных и последовательных действия — они строго синхронны и суть одно и то же действие, один и тот же жест. Перипетии психической жизни и приключения индивидуации (жизнь души) строго тождественны социальным маршрутам персоны (жизнь личности).
Концепт траекта дает нам надежную основу для социальной антропологии глубин, которая позволит изучать общество и психику в рамках одной и той же методики, одной и той же дисциплины, одной и той же науки, одними и теми же средствами. Заменив понятие «человек» на понятие «антропологический траект», мы получаем уникальный инструмент для строгого и аккуратного анализа многочисленных явлений и закономерностей, постижение природы которых вместе с заложенными в них парадоксами ставило в тупик не одно поколение социальных мыслителей — социологов, философов, культурологов, историков, антропологов, этнологов и т. д.
Контрольные вопросы
1. Какова структура человека по Юнгу?
2. Что такое «тень» в философии Юнга?
3. Как соотносятся между собой диурн и ноктюрн в структуре человека?
ГЛАВА 5.3
ПЯТАЯ ОСЬ
ИНИЦИАЦИЯ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
В социальной антропологии огромное место уделяется описанию и сравнительному анализу обрядов инициации, посвящения.
Типичным сценарием инициации является обряд посвящения в тайный союз (мужской союз, Mannerbund) подростка, достигшего половой зрелости и готового стать полноценным членом племени16. Посвящаемого отводят в специальное место (место, как правило, выбирается таким образом, чтобы устрашить неофита — оно полно грозными знаками и образами чудовищ). Там с ним совершают ритуальные действия, символизирующие травму или смерть (ломают пальцы, выбивают зубы, подвешивают за ноги, закапывают в землю, помещают в душную яму с жаром, погружают под воду, оставляют одного во льдах, калечат, пронзают ножами и копьями, душат, избивают, мучают, секут, пытаются что-то оторвать, откусить, пугают, унижают, издеваются и т. д.). После этого посвящаемый символически восстает из мертвых. Ему вручаются атрибуты полноценного члена союза, рассказываются мифы, дается новое имя, и все члены племени празднуют это событие.
После прохождения инициации посвящаемый считается полноценным членом общества, участвует в охоте, сражениях, может вступать в брак, иметь детей, собственность, принимать участие в решениях старших, полноценно питаться.
Инициация является идеальным примером пересечения социального и психологического. С психоаналитической точки зрения она означает индивидуацию — сознательный спуск в коллективное бессознательное и последующий подъем к Эго, но отныне Эго получает знание о структуре бессознательного, о его этажах и иерархии его пластов, а значит, до определенной степени свободно от него и от его притяжения17.
Инициация развертывается по вертикальной оси, самое важное в ней — подъем и воскресение, при этом инициация необратима, она не должна повторяться (черта диурна). Однако в полной мере задействован и символизм ноктюрна, так как полноценный посвященный, «герой», должен не только созерцать то, чему он противостоит (смерть, чудовищ, время, мрак, ночь), лицом к лицу, познакомиться с этим поближе, узнать его силу, но и убедиться в своей мощи, которая даруется причастностью к мужскому союзу, одним словом, к Do Kamo.
При этом инициация является базовым социальным явлением, она лежит в основе важнейших политических, хозяйственных, профессиональных, религиозных и брачных институтов любого общества, снабжает посвящаемого статусом — именем, гражданством, «паспортом» полноценного социального члена.
Инициация делает непонятно кого социологическим человеком.
Инициация не отдельный институт общества — это суть общества, социальный фундамент общества, который лежит в основе развертывания всех социальных институтов и предопределяет паттерн социальной структуры.
ТИПЫ ИНИЦИАЦИИ
У наиболее простых обществ инициация касается преимущественно мужчин в пубертатный период. Структура инициации почти везде одинакова, а ее оформление, разыгрываемые в ней сюжеты, открывающиеся в ходе нее мифы, обряды, символы, жесты и т. д. содержат в себе бесконечное разнообразие и неисчерпаемое богатство деталей.
В более сложных обществах — с развитой кастовой системой, с этническими и религиозными меньшинствами, с различными типами гендерных структур — сценарий инициации усложняется и дифференцируется. Возникают особые инициации для жрецов (шаманов), отдельные — для вождей, царей и воинов, другие — для охотников, землепашцев или скотоводов. Иногда встречаются женские инициации — особенно там, где есть институт женского жречества. Инициации могут иметь несколько этапов и растягиваться на целые периоды жизни.
В монотеистических религиях инициатическими являются обрезание у иудеев и мусульман, крещение у христиан. У иудеев существуют также обряды царской инициации (прототипом является помазание пророком Самуилом царя Давыда), перешедшие в христианство, а также особое посвящение в жрецы (у левитов). В христианстве жреческой инициацией является рукоположение (хиротония) в попы. Особая разновидность — монашеское пострижение.
Крещение символизирует смерть и погребение (вода — символ смерти, ноктюрна). Троекратное погружение — трехдневное пребывание в могиле Христа. После этого рождается новый человек — христианин. Как и архаические инициации, крещение не повторяется — отсюда слова формулы веры: «Верую во едино крещение».
Масонские ложи, распространенные на Западе, имели свои многоплановые обряды посвящения, в которых также центральную роль играли обряды символической смерти и воскрешения18.
Даже в светских обществах есть пародийные посвящения — посвящения в студенты, в октябрята и пионеры (кстати, коммунистические обряды для молодежи, включая пионерское приветствие, были заимствованы из арсенала масонского символизма — поднесение ладони ко лбу есть знак закрывания лица от яркого света при посвящении в масоны ложи иллюминатов, то есть «просвещенных»). Дедовщина в армии — это также уродливый отголосок инициатических обрядов. Старшие называются «дедами», то есть «предками». Истязаемые новички именуются «духами» в воспоминание о том, что в шаманских инициациях «духи» варили посвящаемого, и т. д.
ПЯТАЯ ОСЬ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Теперь становится понятным то, что мы в первом разделе сказали о пятой оси наряду с четырьмя классическими осями социальной топики. Ось инициации или индивидуации не есть только подвид оригинального метода образования в его религиозной форме. Вдоль этой оси происходит гармонизация социальных и психоаналитических структур антропологического траекта.
Инициация конституирует социологического человека, снабжает его самой возможностью обладать статусами. По сути, инициация производит личность, персону, вбрасывает ту сингулярность, которая отныне может участвовать в динамике социальных процессов, исполнять роли, двигаться по горизонтальным и вертикальным осям общества. Инициация — это основа социума. Без инициации юноша-подросток не имеет доступа ко власти и к властным институтам (он не получает права голоса). Он не знаком с мифами племени, то есть лишен образования, не имеет права иметь собственность (а значит, исключен из экономической деятельности). Он обладает нулевым престижем, не способен жениться, то есть он не является мужчиной в социальном смысле. Инициация дает ему пропуск в общество, снабжает его социальным бытием. Без инициации человека просто нет.
Почти так же дело обстоит с психоаналитической стороной человека. Если человек не прошел инициатической драмы спуска в бессознательное, не столкнулся с ужасом небытия, ночи и смерти, если он не посмотрел глаза в глаза сновидениям и чудовищам, которыми населено бессознательное, он не сможет корректно структурировать свое Эго, свой рассудок, свой логос. Не понимая топографии внутреннего мира, такой человек сделается легкой добычей хаотических импульсов, поднимающихся из глубин, не сможет отличить конструктивные мифы диурна от темных преград и сбивающих с толку точек притяжений ноктюрна. Такой человек, повернувшийся спиной к своей душе, станет психическим калекой и легко может оказаться жертвой тени или ноктюрнических соскальзываний мистического режима. Соотношения между внутренними и внешними сторонами траекта у такого человека будут произвольными и хаотическими; случайные проекции случайных шевелений подсознания будут подменять собой встречи с социальным миром, а внешний импринтинг социума будет восприниматься совершенно некритически, калеча структуры души.
Поэтому пятая ось — это не просто психологическое дополнение к строгим и устоявшимся четырем осям классической социологии, это самое главное измерение, которое является корневым для всей антропологической проблематики социума. Человек есть процесс индивидуации, и в этом процессе персона-маска (статуарный набор) и душа-форма нормативно должны действовать сообща и в полной гармонии, вплоть до тождества. Только в этом случае человек как нечто целое будет должным образом конституирован, обоснован и полноценен. А значит, сумеет полностью реализовать заложенные в его структуре возможности и достичь высшего счастья. В определенном смысле и по ту сторону эпикурейских коннотаций, гедонизма или эвдемонизма (которые представляют собой попытки сомнительной легитимации ноктюрна) будет корректным назвать пятую ось осью счастья, счастья в его героическом и мускулиноидном понимании.
Контрольные вопросы
1. Каков социологический смысл инициации?
2. Назовите несколько типов инициации в разных культурах.
3. Какие процедуры, обряды и явления в современном обществе можно отнести к аналогам инициации в обществе архаическом?
ГЛАВА 5.4
ЧЕЛОВЕК В СЕРИИ ПРЕМОДЕРН–МОДЕРН–ПОСТМОДЕРН
HOMO INITIATUS
В обществах Премодерна инициатическая ось, конституирующая человека через синхронизированную гармонизацию души и социальной персоны, является главной и общеобязательной в определении его нормативной позиции в мире. Человек есть процесс посвящения, и это выражается двояко — в общественной жизни, развертываясь в серии институтов, страт и социальных групп, и в стадиях и сценариях внутренней жизни души. Нормативный тип традиционного общества сводит оба эти процесса в один. А там, где они расходятся в силу тех или иных обстоятельств, намечаются контуры социальных (выражаемых в политике) и психологических (выражаемых в культуре) кризисов и разломов.
В наиболее простых — архаических — обществах, как правило, инициатический статус строго тождественен социальному и содержание психической жизни не имеет автономии от социального бытия. Именно это имел в виду Люсьен Леви-Брюль, когда говорил о «мистическом соучастии» и «пралогичности» примитивов. Инициатическое измерение интегрирует внутреннее и внешнее в общем процессе индивидуации, где индивидуация каждого есть индивидуация всех остальных. Юнг говорит о том, что коллективное бессознательное является для всех общим, что явствует из его названия. Но и линия его индивидуации, его перевода на уровень сознания, также тяготеет к нормативной траектории, которая, будучи пройдена до конца, объединит всех в одной точке. Общность периферии круга, с которой стартует процесс индивидуации, на финальном этапе венчается приходом в одну и ту же точку — в центр круга19. Отличаются только промежуточные стадии пути — они у каждого свои, но эти особенности пути ничего не меняют в общности стартовых позиций и в общности цели; строго индивидуальными являются только отклонения, погрешности, аберрации, сбои — начало и конец являются общими. Общий финал индивидуации полагается в «высшем Я», Selbst, которое интегрирует и коллективное бессознательное, и коллективное сознание в конкретной личности-душе, но эта интеграция отождествляет данную личность с остальными личностями (племени) через оба экстремума пути (начало и конец). Это и есть «мистическое соучастие».
Простые социальные системы, которые социальные антропологи и изучают преимущественно, показывают нам нормативную модель социопсихологических механизмов инициации, встречающуюся в основании всех социальных систем вообще, включая самые сложные. А там, где инициатические институты отсутствуют (в чистом виде такого, впрочем, не бывает, они могут быть либо маргинализированы, либо извращены и превращены в «остатки» — residui), само это отсутствие является конститутивным для понимания социальной сущности рассматриваемого общества. Общество, поставившее своей целью упразднить инициацию вплоть до ее полного забвения, будет антисоциальным, антипсихологическим и, более того, античеловеческим. Такое теоретически возможно, но означает смену социального порядка торжеством аномии, анархии и сплошного поля социальных дисфункций.
УСЛОЖНЕНИЕ ИНИЦИАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Усложнение социальных систем неразрывно связано с дифференциацией инициатических обрядов и соответствующих институтов. Общества, состоящие из многих каст, социальных групп, социальных институтов, конфессий и этнических общин, могут обладать развитой инициатической системой, где отдельные инициатические организации соответствуют каждому социальному сегменту. В некоторых случаях эти структуры могут интегрироваться в общую синтетическую модель. Таково индусское общество, которое возвело в статус систематизированных инициатических обрядов разные касты, этнические общины Индостана, представителей разных профессий и даже конфессий (сикхи представляют собой форму интеграции в индуизм тех, кто ранее исповедовал ислам). Причем инициатические системы, будучи различными, включены в общий и чрезвычайно широко толкуемый религиозный контекст индуизма, где всем типам инициаций и всем инициатическим мифам нашлось место и на практике, и в теории.
Кастовые инициации в Индии соответствуют высшей касте брахманов, второй касте кшатриев–воинов и третьей касте вайшьев — крестьян, ремесленников и торговцев. И даже у низших каст — шудр — есть свои инициатические ритуалы20.
Особый случай представляет собой инициатическая организация тантриков. В ней обосновывается особая инициатическая иерархия, которая не коррелирует с официальной кастовой системой и кастовой инициацией. В Тантре, где большую роль играют ритуалы драматического ноктюрна, все участники цепи (каулы) делятся на пашу (животных), вирья (героев) и дивья(богов)21. Это напоминает формальную кастовую иерархию (люди труда, воины и брахманы). Но тантрики настаивают на том, что их иерархия расположена перпендикулярно к кастовой и брахман может оказаться в тантрической кауле «животным», а низший шудра — «богом». Здесь мы имеем дело с образцом дуализации инициатических организаций с соответствующими проекциями на социальные статусы. Но терпимость индуизма настолько широка, что ни сами инициатические революционеры-тантрики не претендуют на замещение своей социальностью классического кастового строя, ни кастовое общество не подвергает тантристов гонениям и преследованиям. В том проявляется интегративный характер индийского общества и индийской религиозной психологии.
РЕДУБЛЯЦИЯ ИНИЦИАЦИЙ
Не во всех обществах все обстоит так благополучно с инициатическим плюрализмом22. Другой пример мы видим в христианстве — на ранних его стадиях. Ранние христиане были инициатической организацией. Эта организация несла в себе образ особого типа общества — с обрядами, религиозными теориями, психологическими практиками («спасения души», «стяжания Святого Духа», «обожения»), моралью. На первых этапах христиане пребывали среди иудеев, с иными богословскими и моральными установками, с иными инициатическими обрядами (обрезание, левитское посвящение и т. д.), и среди римлян, у которых преобладали инициатические обряды политеистического толка. Несмотря на иудейские корни христианства и терпимость римских наместников, которые не входили в детали местных инициатических и социальных структур и требовали лишь поклонения императору и политической покорности, христиане на определенном этапе вошли в конфликт и с иудеями, и с Римом. В некоторых моментах чисто инициатическая организация — раннехристианская Церковь — обнаружила свои социальные императивы, вытекающие из структуры христианского учения: с иудеями их разделяло признание Иисуса Христа мессией и Сыном Божиим, а с римлянами — отказ от принесения жертв императорам как богам. Отстояв свою инициацию, христиане отстояли свой социум.
Через определенное время и после череды мученических подвигов при Константине Великом христианство из параллельной инициатической организации превратилось в основу нового социума через христианизацию всей Римской империи. Но, став нормативной основой социума, христианство в свою очередь подвергло гонениям язычников и дискриминации — иудеев, в результате чего последние стали носителями параллельной инициации. Но и они никуда не исчезли, а дали о себе знать через полуязыческую секуляризацию Европы в Новое время и воссоздание Израиля спустя 2000 лет после рассеяния.
ТИПЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИЧЕСКИХ ИЕРАРХИЙ
В МОНОТЕИСТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ
Инициатическая основа традиционных обществ предопределяла их антропологическую установку. Поэтому понятие «души» как структуры внутреннего мира является атрибутом всех форм обществ Премодерна. В определенных случаях понятие «души» приобретало даже социальный смысл, когда, например, в Российской империи проводилась перепись «живых душ», или «крестьянских (то есть «христианских») душ».
Описание души и этапов ее становления разнились в зависимости от религиозного контекста. Так, в исламском мире сложились особые инициатические организации суфиев, которые разработали специфический инициатический язык, иногда довольно далеко отходящий от норм Корана. Суфии, например, воспевали винопитие, запрещенное исламом, понимая под ним тайную, запретную инициатическую доктрину; толковали Коран довольно неортодоксальным образом; создали удивительные образцы мистико-эротической поэзии23. В крайних ситуациях иерархия суфиев входила в конфликт с официальным исламом — как это было в случае сожженных мистиков-суфиев Аль-Халладжа (858–922) и Сохраварди (1155–1191).
Инициатическая структура составляет основу иудейской каббалы, где преодолеваются определенные рационализм и сухость иудейской теологии и дается простор буйной мифологической деятельности имажинэра, развертывающего многообразные каббалистические доктрины и теории духовного восхождения души по древу сефирот, тайных центров невидимого мира. Каббалисты считались параллельной организацией в рамках классического иудаизма, и каббалистическое посвящение было дополнительным к иным формам иудейской обрядности, отличным от них. И в этом случае противоречия между ортодоксами и каббалистами иногда доходили до прямых трений24.
В христианстве путь души стал центром института монашества. В Западной Европе в Средневековье внимание на этапах того, что Юнг технически назвал «индивидуацией», приоритетно сосредоточивали члены рыцарских орденов и братства алхимиков25.
СОЦИОЛОГИЯ ЕРЕСИ
Инициатический дуализм в христианском мире часто проявлялся в ересях. Особый интерес для социальной антропологии представляют дуалистические ереси (манихейство, катары, богомилы), которые противопоставляли две инициации (свою собственную и обряды официальной церкви), два мира (один создан далеким светлым богом, а другой — «злым демиургом») и два социальных порядка (братский и справедливый — свой — и отчужденный и нечестный — официальный). Так формировалась модель революционных проектов переустройства общества, в основе которой лежали альтернативные инициатические теории и альтернативные антропологические модели. Гностические секты, формально разгромленные официальным католичеством (Альбигойский крестовый поход 1209–1229 годов), оставили значительный след в духовной культуре Европы, предвосхитив многие грядущие события Реформации и политические процессы Нового времени. Нельзя исключить связи теории Иоахима да Флора о «третьем царстве» со средой гностических еретиков.
Позже, в Новое время, все снова повторится: Французская революция, которая опрокинула старый социальный и религиозный порядок, была творением выходцев из масонских лож, то есть альтернативных, инициатических организаций.
Так, у катаров было особое учение о душе как о пленнице материальных тел, созданных не богом, а дьяволом. Структура души противопоставлялась структуре тела, с одной стороны, и структуре социума — с другой, с соответствующими революционными выводами.
Здесь мы видим пример того, как процесс индивидуации начинает приходить в конфликт с социумом и возникает — на сей раз конфликтное! — раздвоение социальных нормативов: правильное общество (мир, церковь, тело) должно было бы позволить душе гармонично отождествиться с персоной и реализовать Selbst, но вместо этого оказывается, что душа в процессе индивидуации наталкивается на непреодолимый барьер. В результате либо душа должна признать свое несоответствие, либо социум (мир, тело) признается аномальным и требующим трансформации или низвержения. Так в затрудненном или зашедшем в тупик инициатическом процессе зарождается импульс социальной революции.
ЧЕЛОВЕК СОВРЕМЕННЫЙ И ЕГО ИНИЦИАТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ
Человек Модерна — homo modernus — продукт чрезвычайно сложных социальных и психологических трансформаций26. Общество Нового времени, которое выработало социальный тип «человека Модерна», само по себе началось с гуманизма, с постулирования самостоятельного и самоценного человека.
На первом этапе в эпоху Возрождения эта тенденция была основана на экстраполяции инициатических организаций герметиков (алхимиков), специализировавшихся на мистических стадиях индивидуации на основе символических операций с металлами и минералами. Изготовление философского камня, превращающего грубые металлы в золото, символизировало инициатический процесс, организующий грубый хаос коллективного бессознательного в совершенную индивидуализированную структуру — Selbst27. Герметизм был основополагающей философией Возрождения.
Иными словами, в основе перехода к Модерну лежит все более четко оформляющееся стремление к автономизации «души» и подстройке социума и его структур под нужды «души-персоны». В этом можно легко распознать продолжение средневековых дуалистических ересей.
В протестантизме эта тенденция обнаруживается еще яснее и воплощается в религиозные, богословские и социальные проекты освобождения христианина от давления «церковного предания», от сословности католического клира, от жесткой связки священства и аристократии, препятствующей, по мнению Лютера и Кальвина, динамике религиозной жизни (то есть индивидуации).
Тут мы подходим к социологии религии (чему будет посвящен отдельный раздел), развитой Вебером. Вебер возводит Новое время, само появление современного общества, к протестантской теологии, которая поставила в центре человека — и как полюс индивидуации души, и как основного игрока социальной схемы. Протестантская религия и протестантский социум, построенный на нормативах этой религии, были ориентированы на раскрепощение процесса индивидуации, что выразилось в крайних формах в анабаптизме Мюнцера (1490–1525) и своеобразной теологии Якова Беме (1575–1624). Заметим, что сам Карл Густав Юнг, родившийся в Швейцарии, был протестантом.
Итак, современный человек есть продукт нескольких этапов освобождения души с соответствующей подстройкой под эту цель религиозных и социальных институтов, то есть всего общества.
Социальная антропология Нового времени вращается вокруг гуманизма — вначале сектантской, позже алхимической и, наконец, протестантской программы раскрепощения условий для планомерной и беспрепятственной работы души по переведению содержания коллективного бессознательного на уровень Эго.
С этим связан всплеск изящных искусств, литературы, поэзии Европы в Новое время.
Причем на всех этих этапах и в наиболее содержательных и концентрированных процессах мы сталкиваемся с осевыми инициатическими организациями, уходящими корнями в традиционное общество, но оказавшимися в конфликте с доминирующими социальными системами (религиозными, политическими, экономическими). И повсюду речь идет о попытках гармонизировать внутренний мир души и внешний мир социума, душу и личность, которые начиная с некоторого момента оказались в состоянии конфликта и даже оппозиции.
НОВОЕ КАК ВЕЧНОЕ
В разделе о социальном времени мы говорили о том, как традиционное общество борется с «новым» в рамках общей стратегии борьбы имажинэра со временем. Но помимо временного у понятия «новое» есть и иной — пространственный, топологический — смысл. Чаще всего это связано как раз с процессом инициации. Многие инициатические учения описывают процесс инициации как новое, или второе, рождение. В христианстве говорится о «рождении свыше». Человек, воскресший, восставший после инициатической смерти, иногда получал звание «новый человек», homo novus. Это означало не появление чего-то, чего раньше не было, но, напротив, обнаружение для посвященного того, что было всегда. Это «новое» не диахронично, но синхронично. Обретение качества «нового» означает становление вечным и неизменным, то есть окончательное перемещение из сферы времени в сферу пространства.
По этой же логике инициатическая церковь ранних христиан называлась церковью Нового Завета и «новым человеком» назван там сам Христос, в отличие от «ветхого человека», Адама.
Данте Алигьери (1265–1321) принадлежал к инициатической организации «Fideli d'Amore», и отсюда его инициатическая поэма «Vita nova», «Новая жизнь»28.
Общество Нового времени имело своим основным проектом освобождение от закономерностей традиционного общества и в конечном счете — от всех форм религии и инициации. Но в своих истоках оно само было инициатическим, хотя эта инициатичность была конфликтной, еретической, дуалистической и революционной. Постепенно же инициатическое и пространственное (синхроническое) понимание нового сменилось временным, то есть пропорции инициации как борьбы со временем перевернулись и обратились в свою противоположность.
Мифосу было тесно в социальном логосе, он стремился видоизменить числитель. В результате же сложилась такая форма социального логоса, которая начала вести с мифосом еще более свирепую борьбу — вплоть до его полного уничтожения.
ДЕКАРТ: ОТКРЫТИЕ СУБЪЕКТА
Важнейший этап становления социальной антропологии Нового времени — это философия Рене Декарта. Мы видели, что Декарт был тем мыслителем, который фундаментально десакрализировал пространство, сведя его к res extensa, к протяженности. Он же качественно иссушил представление о душе, поставив на ее место понятый узкорационалистически субъект. Душа деятелей Возрождения была полна архетипами и герметическими интуициями, рвалась к пластическому выражению и власти над стихиями. Субъект Декарта — это съежившаяся душа, сведенная к рациональным операциям, порицающая воображение как неточность и излишки фантазии.
У Декарта отсутствует даже намек на инициатическое измерение. Его субъект больше не процесс индивидуации, а законченный и неизменный индивидуум, который не нуждается в том, чтобы спускаться в бессознательное и возвращаться оттуда с опытом мифа. Субъект Декарта — это субъект непосвященный, чисто профанический. Субъект способен только рационально мыслить, считать, вычислять, сомневаться во всем. Это res cogitans, «рассуждающая вещь», скептически рассматривающая психику в ее дорациональных измерениях как ничего не значащий рудиментарный придаток к разуму.
Общество, которое может строить такой субъект, должно напоминать технический аппарат — часовой механизм или паровую машину.
Декарт открывает для Нового времени инстанцию, которой не знала антропология предшествующих эпох, — это плоскостная проекция души, душа, потерявшая глубину, сведенная к рассудку и математическим операциям. Субъект находится внутри, но это внутреннее измерение не имеет глубины. Так формируются предпосылки науки Нового времени, которая через несколько шагов вообще откажется признавать существование души как таковой и тем самым придет к полному противоречию с изначальной программой Модерна в его проекте освобождения души. Но это случится не сразу.
РУССО И ДОБРЫЙ ДИКАРЬ
Один из главных теоретиков Просвещения Жан-Жак Руссо (1712–1778) развивает, однако, иную, еще очень «возрожденческую» антропологию, в чем-то предвосхищающую социальную антропологию и даже структурализм Леви-Стросса. Согласно Руссо, примитивный человек — дикарь — был принципиально добрым и органичным существом. В его отношении к природе, обществу, другим людям царили гармония и баланс. Но развитие социальных систем постепенно нарушило эту гармонию. Общество, развиваясь, все более отчуждало людей и от природы, и от внутреннего мира, и друг от друга. В результате сложилась нестерпимая картина всеобщей конфликтности.
Руссо предлагает реорганизовать общество на новых началах. Отказаться от усложненных систем и построить все заново на «простых и понятных», «природных и естественных» — «добрых» — основаниях. Такое общество должно было бы быть обществом прямой демократии и социального контракта, в основе которого будут лежать уважение свободы каждого и предоставление любому члену общества права жить в соответствии с его внутренней природой — как когда-то «добрый дикарь».
В этой утопии содержится интересная антропологическая программа, существенно конфликтующая с другими моделями Нового времени. Добрый сам по себе человек (признание нормативной установки архаизма) становится жертвой отчужденного общества (конфликт между процессом внутренней индивидуации/инициации и социальными структурами, не только не способствующими этой индивидуации, но прямо препятствующими ей). Чтобы все вернуть назад, надо перестроить общество, подверстав его под сценарий оптимизации развертывания структур души. Здесь мы видим логику, напоминающую альтернативную инициатическую антропологию средневековых дуалистических сект и духовный порыв деятелей Возрождения.
Подобный утопизм был свойственен социалистам-утопистам — Сен-Симону (1760–1825), Фурье (1772–1837) и т. д. — и даже Марксу, у которого мы находим «пещерный коммунизм» (версия «доброго дикаря»). Еще более обстоятельно и подробно развил обращение к нормативности архаичности в рамках левой марксистской мысли Жорж Батай29. Этот сценарий, как правило, разделяется мыслителями именно левых взглядов, которые считают социум Модерна, буржуазный строй, недостаточным и даже негативным и ориентируются на построение в будущем качественно иного общества, в котором предполагается установление более гармоничного баланса между внутренним миром и внешними социальными условиями.
Либеральная же антропология не разделяет ни социалистической (руссоистской) критики буржуазного строя, ни позитивной оценки архаичных культур, стремясь доказать, что именно буржуазно-демократическая общественная система является оптимальным продуктом исторического прогресса и современный человек представляет собой высший тип эволюции, во всех отношениях превосходящий людей примитивных культур и не нуждающийся в замене какой-то новой социальной формой на основании «искусственных» утопических проектов и тем более восторгов по поводу жизни и быта «дикарей».
МНОГООБРАЗИЕ МАСОНСКИХ ТИПОВ
Показательно, что и сам Руссо, и большинство социалистов-утопистов были членами масонских лож и проходили инициатические обряды. В целом же масонство как социальное явление выступало носителем антропологии, основанной на обращении к «человеческой реализации», символом чего была масонская пятиконечная (пылающая) звезда. Эта программа «освобождения души» сопровождалась программой социальных реформ, направленных, по замыслу их разработчиков, на подстройку общества к императиву инициатической индивидуации. При этом на практике масонство в своих ложах имело как левых революционно ориентированных реформаторов, так и умеренных либералов и даже ультраконсерваторов, стремящихся не просто укрепить основы социально-политической системы традиционной Европы — монархию, церковь, сословный строй, но и вернуться к средневековым порядкам; таким был среди прочих Жозеф де Мэстр30 (1754–1821).
ИММАНУИЛ КАНТ И УГРОЗА УТРАТЫ СУБЪЕКТА
Важной вехой на пути развертывания социальной антропологии Модерна стала философия Иммануила Канта31 и ее социальные приложения. Кант ставит под сомнение бытие декартовских субъекта и объекта и утверждает, что достоверно — с позиций чистого разума — можно говорить лишь о наличии самого этого разума как своего рода трансцендентальной схемы.
У Канта позиция человека сдвигается в сторону чисто гносеологической сферы и гуманизм сводится к рационализму. На платформе рационализации всех аспектов социальных отношений покоятся и социально-политические проекты Канта, в том числе проект «гражданского общества».
У Канта традиция отцов-основателей философии и науки Нового времени доходит до своей логической границы. Декарт, сомневавшийся во всем («de omnibus dubitandum», «сомневаться во всем» — так звучал знаменитый лозунг всей картезианской философии), не сомневался только в субъекте и объекте, то есть в разумном индивидууме и реальности внешнего мира материально-пространственных предметов. Кант усомнился и в них. Единственной безусловно признаваемой им вещью был сам «чистый разум». Правда, Кант в «Критике практического разума»32 утверждал, что с точки зрения «нравственного императива» и субъект, и объект, и трансцендентный Бог должны были бы существовать и, скорее всего, существуют, но «чистый разум» обосновать и доказать их бытие не в силах.
Борьба с предрассудками традиционного общества во имя «современного человека», человека Модерна, начиная с Декарта, да и до него, велась под знаменем субъекта. Параллельно этому школа эмпириков, более развитая в Англии и ориентировавшаяся на призыв «экспериментальной философии» Ньютона «доверять только опыту», укрепляла веру в объект. Кант же нанес по этой вере существенный удар, подорвав ее очевидность и поставив человека Нового времени перед серьезной проблемой.
Для доказательства бытия внутреннего и внешнего мира самих по себе («an sich» по-немецки) рационального инструментария было явно недостаточно. Лишенный религиозной веры и инициатической практики, современный человек оказался чрезвычайно уязвимым — вплоть до неспособности обосновать ни индивидуальное бытие, ни реальность объекта, которые все тщательнее изучались, но все больше ускользали в сторону ноумена — «вещи-в-себе».
На заре Нового времени другой философ, Блез Паскаль (1623–1662), выразил эту озабоченность метафорой «человек есть мыслящий тростник, постоянно движущийся посреди бездн (бездной ничтожества и бездной Божественности)»33.
Единственной опорой оставался развоплощенный рационализм, предположительно человеческий, но все менее способный эту человечность обосновать.
ЭТАПЫ ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Человек современный, человек Модерна, получивший свое обоснование через процесс внутреннего протеста против закрепощающих его индивидуацию социальных структур и на первых порах воплощавший в себе триумф освобожденной от оков свободной души-персоны, постепенно через цепочку хитросплетений и переворачивания баланса внешнее–внутреннее втянулся в процесс десакрализации — «расколдовывания мира» (М. Вебер).
Шаг за шагом освобождаясь от христианской религии и сословного общества, опираясь только на разум и пытаясь построить социальные структуры на началах социального контракта, рассудочного компромисса и учета мнения разных социальных групп, европейское общество все более переводило изначальный возрожденческий гуманизм с его инициатической программой в русло либерализма, где самоцелью становилось само освобождение, и значение социума постепенно сокращалось.
Различия социальных групп, классов, этнических и религиозных меньшинств делали само наличие социально-культурных и политических норм, которые так или иначе устраивали бы всех, практически нереальным, и индивидуация стала тесно ассоциироваться с минимализацией социального и расширением индивидуальных свобод от всех внешних институтов.
Английский философ Джон Стюарт Милль (1806–1873) сформулировал в этом ключе свой знаменитый тезис о «свободе от»34 как о главном определении социального процесса в оптике либеральной мысли.
В либерализме и его антропологии, а также в анархизме Макса Штирнера (1806–1856) с его солипсической концепцией «Единственного»35 мы видим логический предел всего антропологического маршрута, который:
- берет свое начало в рассогласовании психоаналитической индивидуации с социальными структурами (что заметно в дуалистических средневековых ересях — у катаров);
- далее выплескивается в магическую креативность алхимического Возрождения;
- проходит теологическое вызревание в ходе Реформации и ее фиксации на «свободе совести»;
- утрачивает измерение глубины вместе с «сухим» субъектом Декарта;
- сливается с проектом социально-демократических преобразований у Руссо и деятелей Просвещения;
- завершается в либеральном представлении об индивидууме, нормативом которого является полное (в рамках возможного) освобождение от социальной реальности, вплоть до солипсизма.
Так по мере процесса освобождения от социума во имя человека человек упускает очарованность внутренним миром и утрачивает самого себя. На горизонте этого процесса «освобождения ради освобождения» явно мерцает последний логический шаг — освобождение от человека.
ПСИХОЛОГИЯ ПРОТИВ ДУШИ
Параллельно становлению либеральной антропологии складывается психология как наука. И на первых порах задачей новой науки является развенчание мифа о душе, замена самого этого понятия, относящегося к религиозному и в чем-то архаическому пласту, понятием «психика». «Психика» — не просто греческое название души, это стремление с помощью научного термина описать промежуточную реальность между телесным организмом и человеческим рассудком. Причем никакой субстанциальности, цельности и автономности в классической психологии за психикой не признается.
Под «душой» психологи понимают наивные представления предшествующих поколений, «еще не знавших» про существование психики и ошибочно считавших автономным и самостоятельным то, что является функциональным и промежуточным между телом и рассудком. Кстати, Фрейд, обосновывая психоанализ, также действовал в сугубо современной парадигме — открытое им бессознательное было именовано «психикой», а не «душой».
Так homo modernus, начавший свой путь от человека традиционного общества с целью подстроить социум под нужды индивидуации в развертывании этого пути, утратил и внутреннее измерение, и саму душу.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ ФИЛОСОФИИ XIX–XX ВЕКОВ
В XIX — начале ХХ века начинается критическая стадия осмысления Модерна, и статус человека в обществе, доказательство и обоснованность индивидуальности выносятся в центр внимания.
Складываются различные теории человека. Ницше утверждает, что «человек есть промежуточная стадия между животным и сверхчеловеком»36.
Основоположник экзистенциализма Серен Кьеркегор (1813–1855) развил теорию об индивидууме, который стоит лицом к лицу с неопределенностями внутреннего и внешнего мира, лишенный всякой опоры и поддержки, не имеющий содержания и обреченный на опыт пустоты и отчаяния37.
Хайдеггер утверждал, что человек как философский и социальный концепт есть абстракция от фундаментального и постоянно ускользающего от внимания западноевропейской философии и культуры явления, которое он назвал Dasein («вот-бытие»)38.
Разнообразие антропологических версий свидетельствует о том, что понятие о человеке начинает размываться, разные школы и разные мыслители понимают под этим что-то свое. Антропологическая проблематика представляет собой нечто весьма далекое даже от натянутого и приблизительного консенсуса.
ПОЯВЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ
В этот период как раз и появляется социология, которая с определенным вызовом отставляет всякое антропологическое основание в сторону, откровенно утверждая пустоту в центре статуарного набора, и сосредоточивает свое внимание на социальных структурах, оперируя с индивидуумом как мало что значащей акциденцией, обоснованием бытия которой (всегда спорно и противоречиво) должны заниматься философы или психологи.
Классическая социология, как мы уже отмечали, выдвигает социологический максимализм как раз против тех философских теорий, которые пытаются выстроить свои системы на определении автономного содержания индивидуума. Такого содержания, по мнению социологов, не существует: все, что кажется таковым, заимствовано из общества.
Этот тезис и становится антропологической основой социологии как науки.
Здесь мы видим завершение маршрута социальной антропологии в период Модерна. Она начала избавляться от зависимости от структур традиционного общества под предлогом несоответствия этих структур влечению к свободной и масштабной индивидуации. Она выхолостила мифологическое содержание этой индивидуации, сведя все к рациональному субъекту. Бессодержательность этого субъекта привела к сомнению в самом его существовании (уже у Канта), а социальные проекты, дублировавшие весь этот путь, направленный к освобождению внутреннего, свелись к программе либерализма — минимализировать влияние социума на индивидуума, кем бы и чем бы этот индивидуум ни был («свобода от») и несмотря на то, есть ли он вообще.
Тут-то и появляется социология, фиксирующая явный провал гуманистической эпопеи и предлагающая снова зайти с совершенно другого конца — со стороны общества и его структурной онтологии (то есть со стороны того, с отрицания чего начались Возрождение и переход к парадигмам Нового времени).
ЮНГИАНСТВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
Параллельно социологии развивался и психоанализ, выросший из современной психологии, которая, изучая психику, ставила одной из своих главных задач покончить с концепцией «души» и разоблачить ее. Психоанализ уже у Фрейда обнаружил в затее ликвидации души не только разрушительные, но и, как ни парадоксально, положительные аспекты, поскольку рассеивание души как автономного субъекта открыло забытое измерение бессознательного, которое с Возрождения только сжималось и ссыхалось, утрачивая глубину и объем.
Юнгом и его школой, последовавшими за Фрейдом вглубь психики, была восстановлена изначальная картина, с которой начался процесс десакрализации человека в Возрождении (не случайно Юнг пристально интересовался гностиками, алхимией, каббалой, инициатическими организациями, культами, религиозными концепциями и т. д.). По сути, Юнгу удалось реконструировать ту антропологическую картину, которая соответствует антропологическому нормативу в его наиболее общем и универсальном варианте.
Со стороны классической антропологии в этом же направлении двигался К. Леви-Стросс, сочетая исследование социальных структур и мифологических представлений «примитивов» и методы структурной лингвистики.
Оставалось лишь соединить социологию и структурализм с юнгианским психоанализом, чтобы восстановить полноценную модель, которая позволяет охватить содержание антропологической проблематики и объект ее исследования, то есть человека, во всем объеме.
Этим и занялась социология глубин Жильбера Дюрана.
СТРУКТУРАЛИЗМ И ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ
Структурализм, структурная социология и психология глубин были теми научно-методологическими моментами, в которых динамика социальной антропологии в обществе Модерна достигла полного и досконального осмысления, исчерпав тем самым антропологические неожиданности и энергии становления. Социологи, антропологи и психоаналитики четко зафиксировали и тщательно описали пределы антропологической проблематики — как у примитивных народов и в традиционном обществе, так и в Модерне. Все основные маршруты и гипотезы были исчерпаны, а социальные и либеральные модели реформ — испробованы. Структурализм подвел антропологическую проблематику к логическому пределу.
В этот момент должна была наступить следующая фаза в развитии антропологии. И она наступила. Это фаза Постмодерна, которая занялась проблемой человека, индивидуума, души, бессознательного и их отношений с социальностью, с социумом в новом ракурсе.
На стартовой позиции Постмодерна лежала точка бифуркации. Либо принимается вывод структуралистов о том, что Модерн, прогресс и представление об автономном индивидууме суть не что иное, как отдельный «крохотный экзотический узор на бесконечном ковре неизменной мифологии»39 (Ж. Дюран), и тогда за исчерпанным Модерном должен был логически последовать возврат к Премодерну, к константам (это был бы структуралистский Постмодерн), либо надо было как-то продолжать динамику развития современного общества и толкать человека (или то, что от него осталось) вперед в том же направлении, но с учетом той критики и тех поправок, которые внес структурализм. Второй выбор в философии получил название постструктурализма. В естественной науке ему соответствует синергетика, развитая И. Пригожиным. К постструктуралистской перспективе относится и системный подход, который мы противопоставляли ранее структурному. По эту же сторону баррикад оказываются и те мыслители, которые вообще проигнорировали выводы структуралистов и остались верны диахроническому прогрессизму раннего, еще не критического, Просвещения (Э. Гидденс, Ю. Хабермас). Правда, последние продолжают упорствовать в том, что Постмодерн — это искусственная концептуальная конструкция, опасаясь, что в своей верности историцизму и философии истории Постмодерн может стать торжеством структурализма и возвратом к Премодерну (а такая возможность действительно теоретически существует).
Антропологическую программу постструктурализма сформулировал французский философ Бернар-Анри Леви, провозгласивший «смерть человека»40. Ранее структуралист Ролан Барт (1915–1980) говорил о «смерти автора»41, но его еще можно было понять в структуралистском ключе критики Модерна (мол, индивидуального автора у текста нет, их пишет сама социальная структура, то есть Do Kamo). Однако Б.-А. Леви имел в виду не это, а факт исчерпанности антропологических структур и призывал к завершению нигилистической программы Модерна по освобождению субъекта от всего остального. Последним аккордом в этой динамике было бы освобождение субъекта от самого себя.
Эту же тему фундаментально развивает Жиль Делёз: он критикует структурализм за имплицитно содержащееся в нем согласие удовольствоваться социальными и антропологическими структурами в их неизменности, но признает справедливость структуралистской деконструкции парадигмы Модерна. Делёз, однако, не хочет останавливаться на этом безусловно верном, с его точки зрения, выводе и предлагает идти дальше по линии духа Просвещения, только без его иллюзий. Для этого, по Делёзу, надо окончательно сокрушить логос, распылить социальность по «номадическим» маршрутам шизофренических масс, сделать волю к ничто главной антропологической ориентацией.
НИЧТО, ЧЕЛОВЕК И СОЦИУМ
Вопрос о ничто у Делёза (как ранее у Сартра42 и в еще большей степени у Хайдеггера43) централен. Ничто — это конструкт логоса, оперирующего в двоичном коде «есть–нет», «1–0». Воля к ничто — это воля к освобождению от логоса как такового, для чего логос надо привести к заложенной внутри него антитезе.
Это скажется на фрагментации социальных и политических систем, сломе привычных институтов власти — государства, социальных форм, классических циклов экономики, языка. Человек не способен увернуться от вездесущего давления структур. У него есть органы, его бытие предопределено рассудочными механизмами и социальными статусами. Поэтому на смену человеку должен прийти постчеловек44.
Постчеловек — это основа социально-антропологической программы Постмодерна. Делёз, как мы видели, называет это ризомой или телом без органов. Человек должен проститься с формообразующими структурами в психологии и в социальности. Он должен видоизмениться, чтобы рассеяться в сети, стать сетевым человеком, неуловимым и вездесущим, как герой фильма «Газонокосильщик»45 (по Стивену Кингу).
Воля к ничто на уровне «числителя» человеческой дроби как снос измерения рациональной вертикали должна сопровождаться, по Делёзу, симметричной ликвидацией измерения глубины, то есть «вычищением» мифологического пространства «знаменателя». Не только логос, но и мифос должен быть распылен и упразднен в либертарианской практике постчеловеческой ризомы. От «числителя» и «знаменателя» человеческой дроби должна остаться только сама черта, которая их разделяла: это и будет плоским пространством сетевого корневища, чистая телесность, поверхность. У такой поверхности не будет ни внутреннего, ни внешнего, ни социальных, ни психических структур. Поверхность вездесущих экранов — мониторов, телевизоров, дисплеев, биллбордов, сверкающих глянцевых обложек и т. д. — предвосхищение грядущего плоскостного двухмерного бытия, лишенного логических и мифологических неровностей — иерархий, обязательно влекущих за собой неравенство, насилие, господство, отчуждение. Логос и мифос, по Делёзу, суть выражения несвободы. Только двухмерная, плоская черта, их разделяющая, только сама поверхность есть пространство свободы, скольжения, ускользания.
КИБОРГИ
Социальная антропология Постмодерна в той траектории, по которой предлагают двигаться поструктуралисты, предполагает мутацию человека. Если Делёз говорит о философских концептах постантропологии, а Кастельс — о сетевом «постобществе», то более прагматичные авторы описывают генетических мутантов («возвращение» кентавров, русалок, козлоногих фавнов), людей, сращенных с автоматами (киборгов), захват власти машинами и компьютерами (фильмы «Матрица», «Экзистенция», «Токийская кровавая полиция» Т. Миике и т. д.).
Так, известная феминистка и философ науки Донна Харавэй в своем «Манифесте Киборга»46 обосновывает желательность появления новых видов полуживых-полуавтоматических существ — киборгов, у которых органические биологические компоненты были бы синтезированы с кибернетическими и механическими. Начиная с того, что социальная позиция женщины основана на дискриминации, она приходит к тому, что любой пол есть дискриминация, и это затрагивает не только социальный гендер, но и анатомические особенности человеческих особей, их органы, их ментальные клише и т. д. «Освобождаться так освобождаться, — полагает Харавэй, — и от всего сразу — от пола, от человеческих ограничений, от анатомических пределов, от нервной системы и от органических мозговых тканей». На первых порах этот процесс может протекать через комбинации людей и машин, а затем индивидуальность в поисках дальнейшей свободы может двинуться и дальше.
DO KAMO В ПОСТМОДЕРНЕ
В социологическом смысле стоит обратить внимание на то, как антропология Постмодерна решила поступить с пустым местом в центре социального статуса, то есть с Do Kamo. Вывод был сделан обратный по отношению к структуралистам и психологам глубин, которые предложили перенести все внимание на структуры (внешние — социальные и внутренние, связанные с коллективным бессознательным). Постструктуралисты решили добить человека, то есть распылить окончательно социальный логос через доведение до предела анархо-либерального дискурса сингулярности (освобождение человека от самого себя), и поставить на место структурированного коллективного бессознательного (которое многие фрейдисты и фрейдомарксисты вообще отрицают) бессодержательные миры чистой телесности, то есть, по сути, демонтировать мифос или то, что от него осталось.
Если исходить из схем социальных и психоаналитических фигур с пустым местом в центре, можно сказать, что программа антропологии Постмодерна заключается в том, чтобы продлить эту пустоту на все общество, растворив социальные статусы и роли в нескончаемом потоке социального номадизма, скольжения во всех направлениях без каких-либо остановок и фиксаций («скользкое пространство» Делёза и проект «глобального гражданского общества»), а также на все структуры психики, которые предлагается свести к чистой и бессодержательной телесности.
Образовавшуюся пустоту можно заполнять чем угодно, только не тем, чем предполагалось ее заполнять раньше, то есть не человеком, не антропологическими структурами. А это значит — не логосом, но и не мифосом.
Отсюда широкий веер экстравагантных версий постчеловека — от мутантов до людей-вирусов, гибридов, механоидов и т. д. Негри и Хардт в книге «Империя»47 выдвигают в качестве социально-антропологических образцов калек, вырожденцев, уродов, людей без конечностей и мозга, девиантов, делинквентов, шизофреников, маргиналов всех мастей — то есть существ, способных ускользнуть от «тотальной диктатуры структур», которая осуществляется через работу, социальные функции, психологическое и анатомическое строение человека. Только среди социальных маргиналов и в психических отсеках «тени» (то есть в области «дьявола») постмодернисты ищут образцы для нормативных конструкций общества Постмодерна, которые должны прийти на смену человеку. Отсюда их обращение к «бесовской текстуре»48.
Постмодерн усвоил важный урок социологии: человек есть совокупность статусов. Изменив статусы, можно изменить человека. Вот тут-то между постструктуралистами и структуралистами (социологами) пролегает основное различие. Структуралисты убеждены, что статусы непроизвольны и их структура совпадает с глубинами человеческого существа. Эфемерен индивидуум, человек же структурен. Он и есть Do Kamo, но не как абстракция, а как живая реальность, как траект, как имажинэр. Для постструктуралистов эфемерен как раз человек и его структуры, а индивидуум как погрешность, как заусеница, как сбой функционирования структур, напротив, реален и ценен. Провозглашая «смерть человека», постструктуралисты освобождают индивидуума. А структуралисты, напротив, указывая на отсутствие онтологии индивидуального начала, утверждают человека как процесс индивидуации, инициации, интеграции и достижения всеобщего Selbst, в котором коллективное бессознательное гармонично сочеталось бы с коллективным сознанием. Проблема таким образом сводится к альтернативе — человек vs индивидуум. Структурализм — на стороне человека, постструктурализм — на стороне индивидуума.
ЗАКОНЧЕН ЛИ СПОР О ПОСТМОДЕРНЕ?
Структуралистская версия Постмодерна всегда возможна, об этом говорит Дюран, но на практике мы видим, что в организации Постмодерна философски, культурно и даже на бытовом уровне преобладает именно постструктуралистская тенденция — со всеми вытекающими из этого последствиями.
Вопрос о том, пройдена ли точка бифуркации в определении основного русла развертывания парадигмы Постмодерна или у структурализма еще есть шанс, пока остается открытым.
Возможно, что мы имеем дело даже не с бифуркацией (или — или), но с двумя параллельными процессами в духе социологии искусства Шарля Лало, выделявшего предклассический–классический–постклассический этапы и утверждавшего, что в постклассическом режиме уже зреют семена того, что станет на следующем цикле предклассическим.
Иными словами, постструктурализм может оказаться последним аккордом Модерна, а структурализм, обладающий многими чертами Постмодерна, окажется ферментационной средой подготовки следующего цикла. И тогда структуралистская социальная антропология и фигура Do Kamo будет, возможно, стартовой позицией для разработки грядущей фигуры человека по ту сторону его смерти и девиации в постструктурализме, Человека Воскресшего.
Контрольные вопросы
1. Что такое «параллельная иерархия»?
2. Как понимал человека и его природу Ж.Ж. Руссо?
3. Каковы перспективы трансформации человека в Постмодерне?
ПРИЛОЖЕНИЕ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРХЕОМОДЕРНА
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ГИБРИД И «МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ»
Рассмотрим теперь понятие о человеке в обществах археомодернистского типа. Мы уже упоминали о них как о результатах внешней аккультурации со стороны более современных и логоцентрических обществ. Эта аккультурация не проникает глубоко и приводит к появлению псевдоморфоза, уродливых полуколониальных-полуимитационных культур.
В этих культурах преобладающим типом является антропологический гибрид.
Структура антропологического гибрида обоснована тем, что его мифологическая составляющая (знаменатель человеческой дроби) находится в полной дисгармонии с логосом (числителем). Конечно, как мы видели, рождение логоса из режима диурна, его дальнейшее очищение от мифологических следов и системная борьба с собственным мифом провоцируют конфликты, расколы, кризисы и революции даже в тех обществах, где этот процесс является внутренним, эндогенным. Но в случае с археомодерном все приобретает особо катастрофический характер, так как дисфункции между числителем и знаменателем развертываются не диалектически, планомерно, постепенно и осмысленно, а разом и без всякой внутренней динамики. Археомодерн — это общество-свалка, по П. Сорокину.
В Библии есть термин «мерзость запустения». В отличие от естественного запустения эндогенно-логосных обществ и людей таких обществ археомодерн не превращается в свалку постепенно, а представляет собой свалку изначально как искусственно организованное место сброса отходов более органичных культур.
DO KAMO БОЛЕЕТ
Антропологический гибрид общества свалки несет в себе раскол с самого начала: социальный логос здесь заведомо не коррелирован со структурой мифа, так как он накладывается на этот миф извне искусственным образом. Миф, защищаясь, перетолковывает логос в своем ключе, цепляясь за любые случайные ассоциации. Тем самым миф безжалостно искажает структуру логоса. Логос же противится этому и наносит по мифу ответные удары, безуспешно пытаясь его удавить. Миф разлагает чуждый логос, логос безжалостно насилует автохтонный миф.
В результате такое общество не просто жестко стратифицируется (все общества жестко стратифицируются), но и порождает систему конфликтующих диад. Элиты пытаются освоить заимствованные модели логоса или представляют собой в полном смысле слова колониальную администрацию. Массы уходят в бессознательное, лишь формально принимая навязанную сверху модель.
В археомодерне происходит принципиальное рассогласование социального статуса (то есть социологического человека) и психики, динамически понятой души. В таком обществе невозможны ни индивидуация, ни действенная инициация (если она вообще сохраняется). Животворный баланс социального и психического блокируется. В археомодерне Do Kamo болеет.
НИЗЫ И ВЕРХИ ОБЩЕСТВА АРХЕОМОДЕРНА
Человек в обществе археомодерна живет в постоянном противоречии между социальным статусом и психическим процессом. Ни один из статусов и ни один набор статусов не открывают пути для реализации душевных архетипов. Такое рассогласование свойственно и высшим стратам, и низшим. Низы такого общества имеют миф, но у них нет возможности перевести его в зону логоса. А верхи имеют логос, но обескровлены внутренне и страдают психической недостаточностью (неврозом). Среди высших страт есть те, которые полностью отождествляются с экзогенным социальным логосом (статусным набором), перестают воспринимать окружающее общество в его органической составляющей и действуют как параноидальные бездушные механизмы; а также те, которые несут в себе связи с коллективным бессознательным, хотя это бессознательное хаотично, расстроено и вместо души представлено преимущественно структурами «тени».
Р. БАСТИД: СОЦИОЛОГИЯ БРАЗИЛИИ
Одно из таких археомодернистических обществ — а именно бразильское — изучал крупнейший французский социолог Роже Бастид (1898–1974). Его исследования могут служить базой для изучения всех разновидностей общества-свалки49.
Исследование бразильского археомодерна, по Бастиду, облегчается тем, что все социальные страты четко маркированы расовым признаком. Высшие классы — белые португальцы. Ниже идут светлые метисы (белые + индейцы), еще ниже — темные мулаты (белые + негры) и в самом низу — негры. Социальная дифференциация маркирована цветом кожи и даже ее оттенками. Белые потомки португальцев (и других европейцев) — богатые, престижные, имеют власть и высокое образование. Они задают официальную парадигму социального логоса, который является европейским, рационалистическим, христианским (католическим). Политические и социальные институты выстроены по лекалам Просвещения. Фасад Бразилии —
европейский.
На противоположном конце находятся негры — бедные, невежественные, презираемые, подчиненные, бесправные или не способные реализовать свои права. Они были завезены как рабы, оторваны от почвы, лишены всех социальных статусов, мифов, религии и превращены в скот. Португальцы распоряжались ими как предметами. Будучи вынужденными отказаться от своих мифов и обычаев и принять навязанные нормы португальских господ, негры тем не менее сохранили мифологические связи и структуры на бессознательном уровне, что привело к появлению тайных культов типа кандомбле. Сновидения Африки продолжали транслироваться, но в искаженном, фрагментарном виде.
Регулярное сожительство белых плантаторов с индейскими наложницами и рабынями-негритянками производило гигантский пласт населения метисов и мулатов, которое не обладало в должной мере ни социальным логосом прямых потомков португальцев, ни структурной стройностью подсознания негров или неокультуренных индейцев. Этот пласт представляет собой типичных антропологических гибридов, у которых логосные структуры размыты, а архетипы коллективного бессознательного дезорганизованы. В результате в Бразилии масонство соседствует с архаическими африканскими колдуньями, спиритизм практикуется в католических церквях, вокруг столицы и крупных городов построены целые города из мусорных ящиков, коробок, баков и бочек — фавелы и бидонвили. Свалка служит образцом архитектурных построек и местом обитания широких масс населения.
Бразилия — общество, где индивидуация невозможна по определению, так как социальные модели фундаментально рассогласованы с психическими структурами. Только в недавно официализировавшихся чисто африканских центрах культов «черных матерей», поклоняющихся духам Ориша, началась определенная реституция инициатических процедур. Но эти периферийные инициативы не могут аффектировать социальную структуру и, хотя больше не подвергаются преследованиям, остаются в границах социальной маргинальности. К этому следует добавить проникновение в бразильское общество чужеродных «христианских» элементов, фрагментарность самих культов Ориша (африканских духов) и внутренние раздоры, которые приводят к расколам среди «черных матерей» и их последователей.
Главным бразильским событием является ежегодный карнавал, который вобрал в себя черты древнеримских сатурналий, шествий в честь Диониса, средневековых праздников осла и многоцветье сект и разнородных культов низших слоев Бразилии. В период карнавала бессознательное выплескивается на поверхность в полуритуальных танцах и имитационных или реальных оргиях.
Фигуры, темы, сюжеты и действия карнавала — с их разрозненностью, хаотизмом, бесцельностью, дезориентированностью — представляют собой не новый синтез, но торжество маргинальности, выплеск аномии, то есть ту же свалку, только увиденную в своем «славном» искрометном аспекте.
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК АРХЕОМОДЕРН: НЕСЧАСТНОЕ ОБЩЕСТВО
К тому же типу археомодерна относится и российское общество последних трех веков, когда в ходе модернизации Петра и в течение некоторого времени до него правители стали внедрять структуры социального логоса, скалькированного со стран и обществ Европы, а народ замкнулся в своих древних сновидениях. В отличие от Бразилии расовой подоплеки здесь не было, хотя романовская элита вобрала в себя значительный процент иностранцев, да и сами исконно русские аристократы начиная с какого-то момента предпочитали говорить в XVIII–XIX веках по-голландски, по-немецки, а позже — по-французски. Индивидуация становится проблематичной уже в конце XVII века (именно на этот момент приходится русский раскол), а с XVIII века русское общество становится классическим примером псевдоморфоза (о чем писал О. Шпенглер).
В советское время то же расщепление на русский мифос и импортированный социальный логос (в форме марксизма) сохраняется. Либеральные реформы 1990-х годов не только не исправляют ситуацию, но усугубляют ее новой волной заимствований с Запада (уже вступившего в фазу Постмодерна). Так что в отношении современной России вполне можно вынести печальный диагноз: мы живем в обществе-свалке.
Русский человек в последние столетия раздвоен между своим бессознательным, не имеющим выхода, и отчужденными государственными структурами, чужеродными элитами. Это составляет главную проблему социальной антропологии современной России. Ось счастья в таком обществе заведомо блокирована. Следовательно, это социологически несчастное общество.
Контрольные вопросы
1. Что такое археомодерн?
2. В чем болезненность археомодерна как социального типа?
3. Каковы признаки архемодерна в бразильском обществе, согласно Р. Бастиду?
РЕЗЮМЕ
Суммируем основные положения этого раздела.
1. Социологический человек исчерпывается статуарным набором; наличие под этим набором индивидуального подлежащего, индивидуума, социологически недоказуемо.
2. Теории индивида, субъекта, человека-зверя, равно как и сверхчеловека, являются вторичными социальными конструктами, надстроенными над фундаментальной структурой статусов и ролей.
3. В архаических обществах фигура, находящаяся на пересечении социальных отношений, называется Do Kamo и представляет собой архетип места человека в социуме. Do Kamo — главный персонаж социальной антропологии.
4. Со стороны психики и коллективного бессознательного Эго конституируется процессом индивидуации. Душа внутри человека является прямым аналогом личности в социуме. Между душой и набором статусов существует прямая аналогия, а на корневом уровне — тождество.
5. Инициация как индивидуация есть осевой момент общества, в котором социальность интегрируется с психическим миром, создавая пятую ось социума — ось счастья.
6. В традиционных (архаических и религиозных) обществах человек есть процесс инициации.
7. В обществе Модерна делаются попытки конституировать субъекта как автономное содержание внутреннего мира человека, приравненного к рациональному Эго. Эти попытки постепенно приводят к антропологическому нигилизму — человек сводится к рациональной функции. Попытки обоснования автономного индивидуума привели к потере человека.
8. В Постмодерне торжествует правило смерть человека = рождение индивидуума. Индивидуум в Постмодерне мыслится как продукт свободного конструирования с использованием человеческих и нечеловеческих деталей.
9. Структурализм и социология представляют собой обобщающую модель фундаментального гуманизма перед лицом игрового индивидуализма и дивидуализма постструктуралистского Постмодерна.
10. Археомодерн есть частный случай общества с заведомо дисгармоничной структурой (псевдоморфоз О. Шпенглера, общество-свалка П. Сорокина). Человек такого общества разделен на две конфликтные составляющие. Такие общества суть клинические формы социальности.
1 Linton R. The study of man. New York; London: D. Appleton-Century Company, inc., 1936.
2 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983.
3 Mead M. Sex and Temperament in Three Primitive Societies. New York, 1935.
4 Leenhardt M. Do Kamo la personne et le mythe dans le monde melanesien. P., 1947.
5 Everett D. Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pirahã. Current Anthropology. V. 46. № 4.August–October. 2005.
6 Leenhardt M. Do Kamo la personne et le mythe dans le monde melanesien. Op. cit.
7 См.: Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 т. М., 1964.
8 Бенуа А. де. Хайек: закон джунглей // Элементы. 1994. № 5.
9 Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 1–2.
10 Лоренц К. Агрессия. М., 1994; Он же. Оборотная сторона зеркала. М., 1998.
11 Klages L. Der Geist als Widersacher der Seele. Berlin, 1929.
12 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 1976.
13 Зомбарт В. Современный капитализм. М., 1903–1905. Т. 1–2. М.; Л., 1930. Т. 3.
14 См.: Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996; Он же. Проблемы души нашего времени. СПб., 2002; Он же. Структура психики и процесс индивидуации. М., 1996; Он же. Тавистокские лекции. Киев, 1995; Он же. Человек и его символы. СПб., 1996.
15 См.: Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997; Он же. Рождение клиники. М., 1998.
16 Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М., 2002.
17 Guenon R. Aperçus sur l’Initiation. Paris, 1985.
18 Guenon R. Les Etudes sur la Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage. P., 1999. T. 1–2.
19 Guenon R. Aperçus sur l’Initiation. Op. cit.
20 Дюмон Л. Homo hierarchicus. СПб., 2001.
21 Эвола Ю. Метафизика пола. М., 1996; Он же. Йога могущества // Конец света. М., 1998. На итал.: Evola J. Yoga della Potenza. Roma, 1968.
22 См.: Дугин А. Философия политики. М., 2004. Гл. 6 «Функциональное значение тайных обществ в структуре Политического».
23 Corbin H. L’Imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn’Arabî. 2e éd. Р.: Flammarion, 1977.
24 Scholem G. Major Trends in Jewish Mysticism. New York: Schocken Books, 1941; Idem. Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition. New York: JTS Press, 1965.
25 Evola J. La tradizione ermetica. Roma, 1971.
26 Дугин А. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли. М., 2009. Гл. 2 «Постантропология».
27 Юнг К.Г. Психология и алхимия. М., 1997.
28 Guenon R. L’esoterisme de Dante. P., 1925.
29 Батай Ж. Проклятая доля. М.: Гнозис; Логос, 2003.
30 См.: Maistre J. de. Les Soirées de Saint-Pétersbourg. Paris: Guy Trédaniel-éditions de la Maisnie, 1991.
31 Кант И. Сочинения: В 6 т. М.: Мысль, 1969.
32 Кант И. Критика практического разума. Сочинения: В 6 т. М., 1965. Т. 4.
33 Паскаль Б. Мысли. СПб.: Северо-Запад, 1995.
34 Милль Дж.С. О свободе. СПб., 1906.
35 Штирнер М. Единственный и его собственность. СПб.: Азбука, 2001.
36 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990.
37 Кьеркегор С. Страх и трепет. Киев, 1994.
38 Heidegger M. Sein und Zeit. Tubingen, 2006.
39 Эту идею Дюран высказал в радиопрограмме социолога Мишеля Казенава, посвященной истории и воображению на «Радио Франс» в 1986 году. В этой же программе принимал участие Фернан Бродель.
40 Lévy B.-H. L’idéologie française. P., 1981.
41 См.: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989.
42 Сартр Ж.П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М., 2004.
43 Хайдеггер М. Что такое метафизика? М.: Академический Проект, 2007.
44 Дугин А. Постфилософия. Указ. соч.; Он же. Радикальный Субъект и его дубль. М., 2009.
45 См.: Кинг С. Газонокосильщик. Кэрри. Ночная смена. М.: АСТ, 2005.
46 Haraway D. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century, 1985.
47 Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004.
48 Термин «бесовская текстура» введен Р. Бартом: «текст... в противоположность произведению, мог бы избрать своим девизом слова одержимого бесами (Мк. 5:9): „Легион имя мне, потому что нас много”. Текст противостоит произведению своей множественной, бесовской текстурой, что способно повлечь за собой глубокие перемены в чтении». От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс; Универс, 1994.
49 См.: Bastide R. Ethnohistoire du nègre brésilien. P.: Bastidiana, 1993; Idem. Les Amériques noires. P.: Éditions L’Harmattan, 1996; Idem. Les Religions africaines au Brésil. P.: Presses universitaires de France, 1995; Idem. O Candombé da Bahia. Sao Paolo: Companhia das Letras, réédité en 2001; Idem. Poètes et Dieux. Études afro-brésiliennes. P.: Éditions L’Harmattan, 2002.
или
а а
а а
а
а а
а а
а
Эндопсихическая сфера
Душа Эго Персона Общество
Экзопсихическая сфера
а а
а а
а
РАЗДЕЛ 6
СОЦИОЛОГИИ И ИДЕОЛОГИИ
ГЛАВА 6.1
ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЕСТЮТ ДЕ ТРАСИ: ПОЯВЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ИДЕОЛОГИЯ»
Впервые термин «идеология» употребил в начале XIX века французский философ Дестют де Траси (1754–1836)1. Показательны время, место и социальная принадлежность самого автора. Дестют де Траси был теоретиком буржуазной либеральной экономики и старался систематизировать философские идеи в прагматическом и схематическом ключе. Обращение вместо собственно идей к идеологии подразумевало некоторое упрощение отношения к идеям, попытку связать их между собой, создать таксономию идей. При этом подразумевалась прямая привязка идей к обществу. Можно дать такое самое общее определение «идеологии»: идеология — это схематичная систематизация идей и их соотношений в форме непротиворечивой составной конструкции в прямой привязке к обществу.
Сам Дестют де Траси считал введение термина «идеология» и создание системы идеологии вполне научным делом, противостоящим определенному субъективизму, который, на его взгляд, царил в то время в философии и метафизике. С точки зрения парадигмы Нового времени мы имеем дело с тем процессом саморефлексии и прагматической схематизации, которая нарастала во второй половине Нового времени. Книги де Траси, современника Французской революции и Наполеоновских войн, теоретика третьего сословия (буржуазии), приходятся на тот момент, когда парадигма Модерна достигает своего пика и в ближайшем будущем начнет испытывать начало критической фазы.
Хотя узкое толкование «идеологии» позже существенно менялось, изначальный смысл этого термина довольно устойчив: речь идет о замене сложного и многомерного мира идей его схематической, если угодно, плоскостной, проекцией, соотнесенной при этом с обществом. Соотнесенность с обществом можно трактовать прагматически — в том смысле, что в идеологии рассматриваются только те идеи, которую могут иметь какое-то социальное значение, влияние и силу, а не идеи сами по себе, в их метафизическом созерцательном аспекте. Но можно рассмотреть идеологию и социологически, то есть в привязке ее к обществу и коллективному сознанию, которое ее идеи порождает, формирует, транслирует и расшифровывает.
ПОНИМАНИЕ ИДЕОЛОГИИ МАРКСОМ: ЛОЖНОЕ СОЗНАНИЕ
Второй подход, то есть социологическое толкование идеологии, мы встречаем у Маркса и Энгельса, которые в значительной мере способствовали тому, что термин «идеология» вошел в широкий оборот. В книге «Немецкая идеология»2 Маркс и Энгельс определяют идеологию как «политическое мышление, формируемое в интересах определенных групп общества». Идеология для К. Маркса и Ф. Энгельса — это «ложное сознание», иллюзорное восприятие социального бытия.
Под «ложным» Маркс и Энгельс понимают то, что доминировавшая в их время идеология опирается на социальные интересы, позиции и ценности буржуазного класса, а следовательно, является проекцией не всего общества, а только одной (меньшей) его части — эксплуататоров. Но так как буржуазия обладает властью не только экономической и политической, но и идейной, то буржуазная идеология скрывает свой классовый характер, проецируясь и на рабочий класс. В такой ситуации эксплуатируемые мыслят в категориях и по шаблонам эксплуататоров, что не позволяет им ясно осознать сам факт эксплуатации и проследить ее механизмы.
Теория Маркса ставила своей целью как раз вскрытие механизма отчуждающего воздействия капитала и разоблачение буржуазной идеологии. Но постепенно стало понятно, что антитезой буржуазной идеологии является не столько наука (так как наука также в огромной степени аффектирована обществом и, соответственно, идеологией), сколько другая идеология — в данном случае коммунистическая. Как и идеология в целом, коммунистическая идеология является схематизацией идей в их привязке к обществу, и поэтому в значительной степени она носит субъективно-классовый характер. Но это обстоятельство, по Марксу и Энгельсу, должно быть исправлено в будущем тем, что социалистические революции и построение коммунизма, искоренив зло (отчуждение, эксплуатацию и разделение на классы), сделают идеологию ненужной и заменят ее «объективной наукой».
Иными словами, если коммунисты и не признавали пролетарскую идеологию «ложным сознанием» открыто, подразумевалось, что это необходимый этап на пути выхода человечества в эпоху чистой науки, где схематизм, редукционизм и полемический элемент, содержащийся в любой идеологии, отпадают за ненадобностью.
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ У МАНГЕЙМА
Довольно упрощенная интерпретация понятия «идеология» дана у немецкого социолога Карла Мангейма (1893–1947). В своей работе «Идеология и утопия»3 он утверждает, что каждый класс (в социологическом, а не в марксистском понимании) имеет собственную познавательную перспективу, детерминированную его положением в обществе, национальностью и профессиональным опытом. Важнейшим свойством такой перспективы выступает фиксация частичной реальности, не тождественной «объективной истине». Понятие об «объективной истине», к которому апеллирует Мангейм, является с точки зрения полноценной социологии совершенно недопустимой и некорректной априорией, лишь замутняющей исследование, а не проясняющей его. Предложение же Мангейма, заключавшееся в том, чтобы социолог не отдавал предпочтений никакому социальному классу, просто абсурдно, так как опирается на совершенно необоснованную предпосылку о возможности изучать общество с трансцендентной позиции, предполагающей полную свободу от общества. Это противоречит самому методу социологии как строго научной дисциплины и помещает исследователя в сферу несостоятельной и необоснованной сциентистской неомифологии.
Конечно, каждый класс имеет собственную познавательную перспективу, собственную эпистему, но в разных обществах эта перспектива может распространяться и на иные классы (о чем свидетельствует вполне корректный анализ Маркса переноса буржуазных идеологем на пролетариев), и уж во всяком случае социолог никогда не свободен от влияния идеологии как таковой, осознает он это обстоятельство или нет.
ЗНАЧЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ ДЛЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Появление концепции «идеология» в рамках общей социологии означало стремление общества на определенном этапе отрефлектировать совокупность наиболее важных идейных установок и идейных систем, которые активно влияют на функционирование этого общества. Другим термином, почти эквивалентным «идеологии», является «мировоззрение» (нем.Weltanschauung). В тот период, когда социальные мыслители начинают задумываться об «идеологии» и ее устройстве или о «мировоззрении» как конструкте, социальный логос как явление переходит из стадии рефлексии в стадию саморефлексии, то есть к критической фазе.
В нашей терминологии можно описать это следующим образом. До определенного момента социальный логос подвергает логическому анализу мифос, пребывающий в «знаменателе» (а в диахронической перспективе — на предыдущем историческом этапе). Борьба логоса с мифосом происходит в пределах критики мифоса со стороны логоса.
Но наступает такой момент, когда объектом критической рефлексии становится не другое (мифос, религия, «предрассудки»), но сам логос. В этот момент и возникает концепт «идеологии» или «мировоззрения», подвергающий столь же дистанцированному анализу то, что раньше не подвергалось ни сомнению, ни критическому рассмотрению, то есть логос. Рефлексия ранее распространялась только на миф. С введением понятия «идеология» рефлексия распространяется на то, что мифу противоположно и с позиций чего миф «расколдовывался», «разоблачался», «демифологизировался». Идеология есть старт демифологизации самого логоса, то есть деконструкция рациональности, понимаемой отныне не как нечто «объективное», «научное», «позитивное», но, в свою очередь, как «социальный конструкт».
ТРИ ИДЕОЛОГИИ
С середины XIX века начинают формироваться три основных русла идеологии, или три идеологии, в которых рефлексия соседствует с саморефлексией, а критическое отвержение инерциального мифоса сопрягается с сознательным утверждением «нового мифа».
Эти три идеологии достигают расцвета в ХХ веке, и все историческое содержание ХХ века определяется именно столкновением между собой этих идеологий, что предопределяет международный экономический, философский, культурный, экономический код этого столетия.
Все три идеологии, о которых идет речь, принадлежат Модерну и воплощают (хотя и по-разному) дух Модерна. Все три идеологии представляют собой различные и не сводимые друг к другу (ирредуктибельные) системы идей. Конечно, между ними существовали и промежуточные варианты, но эти варианты никогда не достигали ни идейной, ни политической автономии, не захватывали своим влиянием существенный, решающий сегмент человечества. Поэтому с социологической точки зрения корректно говорить именно о трех — не более, но и не менее — идеологиях, тогда как политология, философия, экономика или иные дисциплины могут сколько угодно расширять этот таксономический список на основании своих критериев.
Эти три идеологии таковы:
• либерализм (буржуазная либерал-демократия со всеми ее разновидностями);
• социализм (в первую очередь марксизм, но также отчасти и левоцентристская социал-демократия);
• фашизм («третий путь», включая национал-социализм и элитарное теоретическое направление Консервативной революции).
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАТЬ ИДЕОЛОГИИ С НЕЙТРАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ
(ТАКИХ ПОЗИЦИЙ НЕТ)
Эти три идеологии представляют собой совокупность основных схематизаций всех существующих идей и тенденций Нового времени в их соотношении с обществом, политикой, экономикой, правом, культурой и т. д. Важно заметить, что, исследуя эти идеологии, мы имеем дело не с идеями в их полноте и многообразии, включая их внутреннее измерение, но только с социальными проекциями этих идей. Идеология всегда есть не более чем плоскостной срез мышления, обретающий связность и системность только в силу того, что мы исследуем проекции идей, а не сами идеи. Стоит только последовать за идеей в ее внутреннее философское, метафизическое измерение, как хрупкая идеологическая конструкция вполне может нарушиться и распасться. Поэтому идеология под стать социологическому методу, который сводит систему многоуровневых социальных фактов к жестко детерминированной схеме, которая позволяет установить между ними строгие корреляции. А следовательно, идеология в самой себе несет социологичность, что осознанно и эксплицитно в марксизме, который представляет собой социологическую идеологию, но менее осознанно и эксплицитно в иных идеологиях (либерализме и фашизме), которые отличаются меньшей степенью социологической саморефлексии, нежели марксизм.
Субъективная оценка сути собственной идеологии носителями той или иной идеологии не является решающим фактором исследования, и социологический анализ идеологий должен вестись независимо от того, как сами эти идеологии определяют то, чем они являются, а чем не являются. Это не значит, что необходимо занять «надклассовую» позицию, к чему призывает Мангейм (это невозможно); это значит, что, осуществляя социологическое исследование идеологий, необходимо либо определить социологическую и, более того, идеологическую принадлежность самого исследователя и тем самым сделать эпистемологический код исследования открытым, либо описать отношение идеологий друг к другу перекрестным образом. Нельзя исследовать идеологии с какой-то нейтральной позиции. Такой позиции в обществе нет, каждая позиция социологически и идеологически детерминирована. Важно лишь обозначить ее заведомо, чтобы исследователи, подходящие к какой-то проблеме с иных социальных и идеологических позиций, могли осознанно сделать поправку на перспективу автора и при необходимости внести соответствующие коррективы.
Невозможно строго научно описать либеральную, марксистскую и фашистскую идеологии, не испытывая к ним тех или иных отношений и не будучи самим выражением социальных тенденций, укрепляющих одну идеологию в ущерб другим. Можно либо слабо осознавать собственную идеологическую идентичность (что скажется на дефокусировке исследования), либо сознательно скрывать ее (что допустимо при определенных обстоятельствах), либо отрицать идеологию как фундаментальное явление (что требует очень серьезных и основательных социологических и философских разработок, несопоставимых с наивными призывами к «трансцендентности» позиции исследователя у того же Мангейма).
Кроме того, корректный анализ должен сопровождаться тщательной компаративистикой и взвешенным (несмотря на собственные пристрастия) социологическим анализом тех формул и конструкций, в которых каждая из рассматриваемых идеологий оценивает все остальные.
Контрольные вопросы
1. Кто ввел понятие «идеология»? Что оно изначально обозначало?
2. Как понимал идеологию К. Маркс?
3. Каковы три основные идеологии эпохи Модерна?
ГЛАВА 6.2
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИДЕОЛОГИЙ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИДЕОЛОГИЙ И СОЦИОМЕТРИЯ
Социологический анализ идеологий, как мы выяснили, не может проводиться в отрыве от общества, в котором он осуществляется. Если принять во внимание этот фактор, то встает вопрос о том, чтобы по меньшей мере осуществить перекрестный анализ идеологий, описав не то, что стоит за той или иной идеологией, но то, как идеологии интерпретируют друг друга или что остается после того, как мы отвлечемся от самопрезентации, в которой каждая идеология заявляет сама о себе.
Конечно, такой анализ не может претендовать на объективность, но он по меньшей мере избавит нас от грубой подтасовки фактов, оценочных подходов и обобщений, которые неминуемо последуют в силу необходимой (осознаваемой или нет) ангажированности социолога.
Основатель социометрии социолог Джейкоб Леви Морено4 (1889–1974) ставил перед собой аналогичную проблему — в том смысле, что проведение социологических исследований в реальной жизни невозможно, если сам социолог будет поставлен в позицию стороннего наблюдателя процессов, происходящих в коллективах; в этом случае он не просто повлияет на эти процессы, но и не сможет их правильно расшифровать. Если же он «забудет» на время, что он социолог, то он, во-первых, вынужден будет лгать другим и себе, а во-вторых, он утратит свои аналитические и научные качества. Этот порочный круг Морено предлагает разомкнуть тем, чтобы научить исследуемый коллектив основам социологии, объяснив его членам, что они играют роли, что эти роли означают и как социолог собирается их интерпретировать. То есть вместо того, чтобы прикидываться пациентом, Морено предлагает обучить всех основам врачебного искусства. Эта практика называется также «социометрией», то есть соединением урока социализации и психиатрического сеанса.
Морено приводит в пример первого «социометра» Маркса, который не просто изучал рабочий класс, но стремился передать ему знание о его социальной и исторической роли, взывая к его сознанию. В таком случае понимание особенностей классовой реальности сопровождалось бы ее осознанием самими участниками классовой драмы.
Такой же «социометрический» подход оптимален и для исследования идеологий. Вместо того чтобы оценивать идеологию, надо осмыслить ее структуру, а при изучении ее влияния на конкретные социальные группы разъяснить им сущность того, что влияет на них извне в форме идеологического импринтинга, и попытаться сделать их из объектов идеологического воздействия сознательными носителями идеологии, то есть идеологическими субъектами.
РОСТ ИДЕОЛОГИЗАЦИИ В МОДЕРНЕ
Как бы ни осмысляли сами себя идеологии, совершенно несомненным является тот факт, что в полноценном виде они складываются только в XIX веке, то есть во второй половине эпохи Модерна. С этого момента они начинают превращаться во все более и более законченные концептуальные системы, распространять свое влияние на широкие массы, включаться в формирование общественных, политических и государственных институтов, оказывать подчас решающее воздействие на экономические процессы. Со второй половины XIX века идеологии становятся решающим фактором социокультурного и социополитического процесса, а в ХХ веке практически полностью предопределяют все основные политические, социальные и экономические тенденции. ХХ век становится веком идеологий, идеологические влияния проникают вглубь общества.
С социологической точки зрения бесспорен факт роста влияния идеологий на все стороны жизни общественной жизни начиная с XIX и до конца ХХ века. Вместе с тем нельзя рассматривать идеологии как спонтанный и самостоятельный феномен. Они коренятся в предшествующих социальных формах и уходят корнями в ранний Модерн с его философией и даже в Премодерн, так как являются в определенном смысле секулярными формами религии. Если апостериорно экстраполировать то, что имеется в виду под идеологией во второй половине Нового времени (начало XIX — конец ХХ века), на предыдущие исторические формы, то вполне можно сказать, что религия также была формой идеологии — по крайней мере в отдельных своих аспектах, — так же как современные идеологии и религии толковали основные идеи и принципы в их взаимосвязи и в их отношении к социальной реальности. В первой половине Модерна — между религией и собственно идеологией — эту же функцию выполняли наука и философия, в секулярном их аспекте, формируя идейные и социальные нормативы.
Поэтому социальный генезис идеологий прослеживается вполне четко: ранее эту функцию выполняли религии, а позже, в Новое время, — философские теории и доктрины, которые постепенно обретали систематизированный и схематизированный характер, в результате чего, собственно, и возникли современные идеологии.
МАРКСИЗМ (СОЦИАЛИЗМ): ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИФ
С социогенетической точки зрения марксизм наследует линию эсхатологических, мессианских и хилиастических ересей. Сам Маркс (и особенно Ф. Энгельс) называет своими предшественниками анабаптистов Мюнцера, которые сформулировали социальную программу, чрезвычайно близкую коммунизму.
В этом смысле марксизм продолжает линию социологии Иоахима да Флора, придавая учению о «третьем царстве» догматический и политэкономический характер. Марксизм продолжает идею возрожденческого гуманизма, с одной стороны, и альтернативной инициации — с другой, хотя при этом ставит акцент на изменении именно внешней — социальной, общественной составляющей. Поэтому ранее мы причислили Маркса к представителям социологического максимализма. С его точки зрения, изменить негативное положение в балансе эксплуатируемые–эксплуататоры (власть–массы, высший класс–низший класс) возможно только с помощью революционных преобразований общества. С этой точки зрения и строится вся марксистская теория — понимание государства, экономического процесса, роли финансов, механизма присвоения прибавочной стоимости, смысла культуры, логики истории и т. д. Марксистская идеология представляет собой социальный редукционизм, то есть сведение всех аспектов бытия к обществу. Другими словами, в самой основе марксизма как идеологии заложен социологический подход. По Марксу, человек, вступающий из «дикости» в историю, становится существом социальным и экономическим, поэтому его судьба связана с обществом и экономикой.
ЛИБЕРАЛИЗМ: АПОЛОГЕТИКА БУРЖУАЗНОГО СТРОЯ
Если марксизм является критической и революционной формой социальной и социологической реакции на буржуазное общество и развертывание его социальных и социологических установок, то либерализм представляет собой идеологию апологетическую. Либералы солидарны с марксистами в том, что общество развивается по восходящей траектории, но считают при этом, что буржуазно-демократическая фаза развития не несет в себе никакой негативной нагрузки и предоставляет всем равные права для достижения максимальных благ. Переход от средневековых сословий к классам снимает жесткость предписанной статуарности по врожденному признаку и открывает каждому путь в высшие классы общества на основании личных усилий. Марксизм и его катастрофическую конфликтность либералы считают неоправданным экстремизмом и не соглашаются с самой постановкой вопроса.
Показательно, что либерализм с неохотой квалифицирует себя как идеологию, предпочитая действовать и размышлять в терминах прагматизма, экономической целесообразности, прогресса, развития, общечеловеческих ценностей и т. д.
В некотором смысле и либерализм затронут иоахимитским мифом о «третьей эпохе», но при этом он не делает из него радикальных и хилиастических выводов, считая, что оптимальным социальным достижением является сокрушение феодальных, клерикальных и монархических устоев и что максимум свободы достигается в условиях буржуазной демократии.
ФАШИЗМ: АЛЬЯНС КОНСЕРВАТИЗМА И МОДЕРНИЗМА
Фашизм как идеология сложился позднее и либерализма, и марксизма — только в ХХ веке, но по своей основной социальной парадигме он наследует консервативные течения XIX и даже XVIII веков. Консервативная составляющая фашизма отрицает идеологию и марксизма, и либерализма в том, что «буржуазный строй является более совершенным, нежели феодально-монархический», ставит акцент на национальном государстве как вершине исторического процесса. Как ни странно, и в этой идеологии мы сталкиваемся со своеобразным преломлением идей Иоахима да Флора, при том что вершиной исторического развития признается не демократия и не коммунизм, а государство и нация.
Показательно, что в итальянском фашизме один из основных идеологов Дж. Джентиле5 (1875–1944) был гегельянцем и вслед за Гегелем (1770–1831) видел вершину исторического процесса — как постепенного развертывания Абсолютной Идеи — в создании «идеального государства» (только не прусского, о чем писал Гегель, а итальянского6).
Фашизм наследует от ранних форм консерватизма неприятие буржуазных норм и процессов по аристократической, сословной линии, что и отличает фашистов от марксистов. Можно сказать, что фашизм — это критика буржуазной демократии (либерализма) справа, с консервативных позиций, в то время как марксизм и социализм есть критика той же буржуазной демократии слева — с позиций пролетариата.
Вместе с тем в отличие от классического консерватизма фашизм и его разновидности (национал-социализм, национал-синдикализм и т. д.) видят задачу не в простом сохранении старых добуржуазных форм, но в создании «нового порядка», «новой аристократии» и «нового (корпоративного) государства», то есть помещают свой социальный идеал не в прошлое, а в будущее.
ПРОТЕСТАНТСКИЕ ИСТОКИ ТРЕХ ИДЕОЛОГИЙ
В этом беглом анализе социологических основ трех основных политических идеологий прослеживается следующая закономерность. Все они так или иначе являются результатом развития исторического подхода к обществу, то есть версиями диахронизма. И во всех этих идеологиях явно различим след мессианистского еретического мифа Иоахима да Флора о «третьем царстве». В одном случае (коммунизм) «третье царство» сопряжено с наступлением коммунизма; в другом — с буржуазной демократией и обществом «равных возможностей»; в третьем — с созданием «идеального государства» и приходом «новой аристократии».
Бросается в глаза и еще одна деталь. Все три идеологии тем или иным образом коренятся в Реформации и социально-религиозных воззрениях протестантизма. Относительно либеральной буржуазно-демократической идеологии исчерпывающее исследование осуществил Макс Вебер в своем классическом труде «Протестантская этика и дух капитализма»7. В нем убедительно доказывается генетическая связь либеральной идеологии и социальных воззрений протестантских сект. Связь марксизма с Реформацией наглядно видна в апелляции к анабаптизму и Томасу Мюнцеру Маркса и Энгельса, которые однозначно связывают крайние версии протестантизма с истоками учения о диктатуре пролетариата. Но в отличие от либерализма, который преимущественно следует за линией Кальвина (1509–1564), для марксистов ориентиром является радикальное крыло Мюнцера. Самое интересное, что и фашизм через пруссачество Гегеля (Гегель считал, что пиком выражения Абсолютной Идеи должна стать Прусская монархия), через идеи Шпенглера («пруссачество и социализм»8) и Зомбарта («немецкий социализм»9) косвенно обращается к протестантской идее солидарного государства, обоснованной еще одним выдающимся деятелем протестантизма — Мартином Лютером (1483–1546).
Таким образом, все три основные идеологии Модерна в своих корнях уходят в эпоху Реформации, которая является важнейшей социологической матрицей всего Нового времени и всей парадигмы Модерна.
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛОГОС В ТРЕХ ИДЕОЛОГИЯХ
Каждая из трех идеологий предлагает свою морфологию социального логоса. Можно уподобить это различию нормативных фигур или графам. Марксизм видит в обществе две классовые фигуры — эксплуататоров (капиталисты) и эксплуатируемых (пролетариат), каждая из которых вбирает в себя многообразие социальных типов, групп, институтов, профессий и т. д. Можно уподобить это противопоставлению двух фигур — например, кругу и квадрату.
Схема 21. Морфологический дуализм марксистской социологии
Эксплуататорские классы гомологичны фигуре квадрата и образуют свою форму социального логоса, которая транслируется ими на все общество. То есть буржуазия стремится сделать социальный логос «квадратным», в том числе и навязать эту форму пролетариату. Морфология угнетенных классов имеет свою форму (круг), и задача пролетариата через свой авангард — коммунистическую рабочую партию — осознать свою фигуру, дать бой социальному логосу капитализма и через революцию построить общество, гомологичное пролетарскому образцу, — общество справедливости, труда и равенства (общество круга). В наличии двух конфликтных морфем социального логоса состоит особенность социологической структуры марксистской идеологии.
В либерализме постулируется фундаментальная гомология, то есть полное подобие всех частей — социального логоса. Буржуазное общество состоит из одинаковых атомов — индивидуумов. Обозначим их для наглядности кругами.
Все круги считаются структурно одинаковыми, но способны выстраиваться в произвольные фигуры в силу заложенной в каждом из них динамики.
Предоставляя всем кругам-атомам равные возможности, буржуазное общество предоставляет возможность создавать из совокупности кругов любые составные фигуры, каждая из которых есть следствие динамичного и постоянно меняющегося коллективного договора, чьи параметры зависят от состояния взаимодействий кругов. Яснее всего это описано в символическом интеракционизме Дж. Мида10. У такого буржуазного общества нет базовой формы. В основе либеральной идеологии стоит индивидуум, который может совместно с другими индивидуумами создавать обобщающие фигуры в открытом режиме.
При этом часть кружков может подняться наверх, часть — остаться внизу. Это ничего не изменит в основном принципе — до того момента, пока какая-то комбинация кружков-индивидуумов не захочет навязать свою композицию всем остальным. Здесь принцип «непредопределенности» вступает в действие, и либеральная идеология настаивает в таких ситуациях на возвращении социальных процессов к исходным равным условиям — для профилактики «тоталитаризма». Социальный логос здесь является дробным по определению.
В фашизме, напротив, социальный логос структурирован жестко и однозначно. Можно изобразить его в форме треугольника.
Предполагается, что все общество структурируется по единому образцу и общественная иерархия государства повторяется на более мелких уровнях гомологий — на предприятии, в партийной ячейке, в семье и т. д. Здесь реализуется как раз тот «тоталитаризм», против которого выступает либеральная идеология: форма социума задана раз и навсегда и может только повторяться и воспроизводиться на разных уровнях и в разных масштабах.
Контрольные вопросы
1. Какая религия повлияла на современные европейские идеологии в большей степени?
2. Какая из трех идеологий является прямой и открытой апологией буржуазного строя?
3. Чем различаются между собой идеологии марксизма и фашизма?
ГЛАВА 6.3
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИДЕОЛОГИИ
МИФОАНАЛИЗ ИДЕОЛОГИЙ
Рассмотрев фигуры социального логоса в трех идеологиях, обратим наше внимание на нижний этаж социокультурной топики, где пребывает миф, коллективное бессознательное, и попытаемся соотнести логос и мифос трех идеологий.
Еще раз надо подчеркнуть, что идеологии относятся к парадигме Модерна, а следовательно, мифологическая составляющая в них присутствует в снятом виде. Едва ли мы найдем в идеологических конструкциях прямые апелляции к мифу — по крайней мере, к тому мифу из пространства «знаменателя», который на самом деле более всего оказывает влияние на «числитель» социальной дроби. Тем самым в мифоанализе идеологий мы обретаем ту позицию, которую Мангейм тщетно пытался обосновать в своих апелляциях к «трансцендентной» позиции социолога. Если кто и может — и то относительно — абстрагироваться от идеологий, то это психоаналитик, хотя на практике это бывает чрезвычайно редко: например, психоаналитический анализ тоталитаризма и фашизма сплошь и рядом ведется с позиций психоанализа, аффектированного марксизмом или либерализмом (фрейдомарксисты Э. Фромм (1900–1980), В. Райх (1897–1957) и их современные последователи Х. Сигал, М. Шебек и другие).
Для полноты картины применим к анализу идеологий психоаналитические инструменты изучения коллективного бессознательного из арсенала социологии глубин Жильбера Дюрана.
МИФОАНАЛИЗ МАРКСИЗМА
Марксистская идеология, к которой мы уже не раз обращались в предыдущих разделах, представляет собой сочетание нескольких мифологических тенденций, и некоторые из них принадлежат различным режимам или группам мифов.
Дуальной топики социального логоса у Маркса соответствует его почти прозрачная апелляция к «знаменателю», хотя сам Маркс помещает туда базис, толкуемый как производственные отношения, то есть «объективную» логику развития экономики. Но само место «базиса» в «знаменателе» в отличие от других идеологий описано четко.
Мифоанализ безошибочно распознает в «знаменателе» марксистской теории миф о титанах, рабочих Тартара. Более всего тут подходит миф о Прометее, о чем мы уже неоднократно говорили. Этот миф относится к режиму драматического ноктюрна.
Титаны вращают колеса в машинном отделении цивилизации, а на палубе восседает буржуазия, делая вид, будто никакого машинного отделения не существует. Один из рабочих — Прометей (сам Маркс — нормативная фигура революционера, социалиста) — поднимается на палубу и похищает схему устройства корабля. Рабочие понимают, что корабль плывет благодаря их труду, а не гипнозу высшего общества, собравшегося на палубе, восстают и выбрасывают буржуазию за борт. Дальше корабль плывет в ином направлении — к сказочным берегам Эльдорадо, царству полного материального равенства, неограниченных возможностей и свободной любви.
Для нас важна метафора палубы — той черты, которая отделяет «знаменатель» от «числителя». Машинное отделение — драматический ноктюрн: это место бесконечного вращения сезонов, движения по кругу, обреченного на повторение труда. На палубе (над чертой дроби) пребывает социальный логос — в его буржуазном классовом издании. Марксистский и, шире, социалистический проект состоит в том, чтобы поднять драматический ноктюрн и заместить им социальный логос, но при этом не просто поставить миф на место логоса, а расчленить циклический миф на две части, отбросить нисходящую составляющую и соединить динамику ноктюрнического вращения со статикой логического социального рационализма. Это и есть диалектический материализм, по Марксу. Что-то в нем взято от драматического ноктюрна, что-то — от статического классического логоса Просвещения и Нового времени. Вместе же получается динамический прогрессизм и теория смены исторических формаций.
В марксизме есть иная группа мифов, которая соответствует мистическому ноктюрну. Эта группа проявляется в форме материализма, а материя как концепт есть следствие глишроидного жеста эвфемизации времени через переход имажинэра на его сторону. Более всего этому соответствует в марксизме исторический материализм, наиболее «тяжелая» его часть.
Есть в марксизме и вполне диурнический дуализм — как в идее классовой борьбы (предполагающей острый дуализм — диайрезис), так и в использовании сугубо рационального метода социального анализа.
С точки зрения мифоанализа марксистская идеология и социализм в целом представляют собой сложное сочетание режимов бессознательного, где наличествуют все три основные группы, но в весьма специфических сочетаниях. Вероятно, этим объясняется массовая притягательность марксизма и социализма в ХХ веке: разные социальные слои, этносы и культуры видели в марксизме что-то свое. Европейские интеллектуалы вдохновлялись критическим зарядом, специфической топикой, рационалистическим потенциалом, нравственным пафосом социализма и коммунизма. Архаические этносы (в том числе русские, китайцы, вьетнамцы, камбоджийцы, кампучийцы, латиноамериканцы, африканцы и др.) видели в нем мессианский миф избавления. Социальные низы понимали марксизм как «новое инициатическое общество» под стать раннехристианской церкви. Монисты соблазнялись всерастворяющим материализмом мистического ноктюрна.
В целом же марксистская идеология представляла собой развитый, систематизированный и законченный миф, в котором мы обнаруживаем все основные темы и все режимы, выделенные Дюраном:
• эвфемизацию времени (прогресс, смена формаций);
• героику битвы с мировым злом (капитал);
• диалектику смены эпох (циклизм, синтетический ноктюрн);
• экзальтацию материи как единой мировой субстанции (вискозные грезы мистического ноктюрна).
Построенный на двойной демистификации — парадигмы Премодерна и особенно буржуазной интерпретации Модерна, — марксизм сам был эффектной и убедительной гипнотической мистификацией, тонко воздействующей на самые глубокие архетипы коллективного бессознательного.
ЛИБЕРАЛИЗМ И ЕГО РЕЖИМ: ПЕРВАЯ ФАЗА
Мифоанализ либерализма дает иные результаты. Более того, психоаналитические режимы внутри либеральной идеологии существенно менялись на протяжении времени, и ранний либерализм XVIII века с этой точки зрения существенно отличается от современного либерализма начала XXI века. Глубина этих изменений связана еще и с тем, что либерализм как идеология имеет самую долгую историю — он возник раньше других идеологий и продержался дольше всех.
Изначальный либерализм сопряжен с импульсом диурна, который был блокирован несоответствующими социальными конструкциями. Здесь уместно вспомнить все то, что говорилось в предыдущем разделе о социологии инициации (индивидуации). Однако описанный инициатический импульс был связан с накопленной энергетикой третьего сословия, которое, символически относясь к режиму динамического ноктюрна, стремилось вырваться на поверхность, в область рацио, и по мере определенного ослабления высших сословий и их инициатических практик и институтов вступить с конкуренцию с клиром и аристократией за выработку форм социального логоса. Поэтому в основе либеральной идеологии мы заведомо встречаем протестантизм и масонство — то есть религиозную и инициатическую организации, вступившие в конфликт с сословно-католической официальной Европой эпохи Средневековья и феодализма.
При этом либерализм разрабатывался той частью третьего сословия, которая отличалась повышенной энергичностью, накопившимися амбициями, предпринимательским духом (вплоть до склонности к авантюрам и аферам), высокими способностями к самоорганизации. Эта энергия, носящая в своих истоках в значительной степени характер синтетического ноктюрна, стремилась выйти на уровень рационального Эго, пробиться в социальный логос, параллельно очищаясь от определенных ноктюрнических черт (но далеко не от всех) и приобретая отдельные (но далеко не все) свойства диурна и его выражения в диайрезисе и логоцентризме. Картину этого процесса изящно описал Ж.Б. Мольер (1622–1673) в своих комедиях — в частности в пьесе «Мещанин во дворянстве»11.
Стихия предпринимательства, составляющая питательную среду либерализма, сочетала в себе военный дух прежней аристократии, агрессивность, активность, подвижность, стремление поглотить и поработить противника (диурн), но все это переносилось на область коммерческой конкуренции, причем сопровождалось общим пацифизмом и нежеланием (по крайней мере слишком часто) использовать в торговых войнах методы прямого насилия.
Жреческие функции клира третье сословие передавало сфере науки и философии, а позже идеологии как таковой. Таким образом, либерализм фиксировал в своем психологическом нормативе своеобразное сочетание двух режимов — экзальтированного драматического ноктюрна, подвергнутого существенному экзорцизму (отсюда пуританская этика буржуа), и частичного диайретического логоцентрического диурна, освобожденного от его наиболее агрессивных и обобщающих черт. Либерализм ставил в центре внимания рациональность — но малую рациональность (микрологос); человека — но в его индивидуальном качестве («минимальный гуманизм»); свободу конкуренции — но без использования прямой силы.
Эта формула лежит в основе либеральной идеологии в ее изначальном виде и предопределяет пределы развития этой идеологии на всех остальных этапах. Однако постепенно в либерализм проникают иные моменты.
ЛИБЕРАЛИЗМ Li-Li
В ХХ веке либеральная идеология видоизменялась. В нее все более просачивались декадентские ноктюрнические мотивы. Параллельно экономической и политической идеологии либерализма (основными принципами которой являются священная частная собственность, свободный рынок, минимализация участия государства в экономической жизни и т. д.) в западной культуре стали развиваться либертарные тенденции. Либертарианство, в отличие от либерализма, относилось не к политике и не к экономике, а к нравственной сфере, провозглашая и отстаивая свободу нравов — крайний индивидуализм, отмену каких бы то ни было моральных запретов, максимализацию свободы индивидуума в социальной и культурной сферах.
Общим для либерализма и либертарианства был принцип laissez-faire, то есть по-французски «позвольте делать», подразумевается «позвольте делать все, что угодно». Либерализм применял этот принцип в первую очередь в экономике и в политике. А либертарианство проецировало его на сферу морали, требуя отмены запретов и расширения этических культурных клише (включая правовые нормы). Либертарианство ратовало за полную свободу и легитимацию внебрачных половых отношений, легализацию абортов, права сексуальных меньшинств, смену пола, полное социальное равноправие всех слоев и этнических групп.
На первых порах либерализм и либертарианство развивались параллельно, и более того, либертарианство более тяготело к левым — социалистическим, анархистским и коммунистическим политическим — формам, но во второй половине ХХ века они стали сближаться все больше и больше. Постепенно, к 80-м годам ХХ века, сложилось устойчивое явление либертарианского либерализма, которое в современной французской политологии обозначается аббревиатурой «li-li» — от «li-beral» («либерал») и «li-bertaire» («либертарианец»).
В «li-li»-либерализме мы имеем дело с подъемом ноктюрнических архетипов, как копулятивных, так и дигестивных (мистических). Предпринимательский дух раннего диурнического либерализма — с тягой к авантюрам, путешествием, открытию новых рынков, колонизации и т. д. — постепенно сменяется гедонистическим, пассивным стилем, склонным к развлечениям и расслабленности более, нежели к суровой дисциплине. Менеджеры сменяют хозяев-капиталистов; растущие социальные гарантии снимают напряжение экономической борьбы, позволяют «расслабиться». Такое вырождение изначального капитализма предвидел крупнейший экономист Йозеф Шумпетер (1883–1950), предрекавший уже в первой четверти ХХ века скорый конец капитализма из-за смены доминирующего типа12. В терминах социологии воображения этот переход вполне можно описать как переход от диурнического либерализма (фигура Прометея на капиталистический лад13) к либерализму ноктюрническому, декадентскому, ориентированному на развлечение, праздник и потребление (фигура Диониса), а не на ожесточенную жизненную борьбу.
Сдвиг от диурна к ноктюрну в либерализме — явление, свойственное его последним фазам, и этот сдвиг настолько видоизменяет структуру идеологии, что многие исследующие это явление предпочитают говорить о постлиберализме14 как об особой идеологии, развертывающейся на фундаменте классического либерализма, но приобретающей все больше либертарианскихчерт.
ФАШИЗМ И МИФ
Из трех основных современных идеологий фашизм менее всего стесняется обращения к мифу и, будучи в целом рациональным и современным явлением, свободно черпает вдохновение в политических, социальных и религиозных обществах Премодерна. Это связано с тем, что фашизм (и его разновидности — национал-социализм, национал-синдикализм, национал-солидаризм и т. д.) является идеологией консервативной и поэтому позитивно рассматривает элементы обществ, предшествовавших наступлению Нового времени. Фашизму присуща и идея прогресса, но прогресса избирательного, не зачеркивающего прошлое как нечто преодоленное и снятое, а укорененного в прошлом и проецирующего отдельные элементы этого прошлого в будущее — без оговорок и оправданий.
Среди режимов бессознательного фашизму однозначно и наглядно соответствует миф диурна, героический стиль. Причем социологическая специфика фашистской идеологии заключается в том, что она принимает в диурническом мифе одновременно и его предлогическую («примитивную», «варварскую») сторону, и его логоцентризм. С точки зрения социологии глубин фашизм показателен в том смысле, что он демонстрирует на примере современного идеологического и социально-политического материала (ХХ века) то, как между собой связаны две стороны диайретического процесса индивидуации: тот же импульс антропологического траекта, который приводит к рождению логоцентризма и панрациональности, несет в себе вполне варварскую мифологию войны, агрессии, насилия, подавления, апартеида и массового уничтожения всего того, что попадает (по логике диурна) в категорию «зла», «другого», «чудовища».
Фашизм — это приоритетно героический миф в его сыром, предлогическом (но это не значит — антилогическом!) виде, несколько окрашенный все тем же иоахимитским началом и идеей прометеически-люциферического прогресса. Следы этого мы видим и в самом названии «Третий Рейх», то есть «третье царство», как официально именовалась Германия Гитлера15; и в фигуре национал-социалиста как титана, описанной в книге выдающегося теоретика Консервативной революции Эрнста Юнгера (1895–1998) («Рабочий» — «Der Arbeiter»16); и в интересе офицерского эшелона СС к тематике средневековых гностиков-катаров, что видно из рекомендации книги специалиста по катарам Отто Рана (1904–1939) «Двор Люцифера в Европе»17 в качестве обязательного пособия для эсэсовцев и т. д.
ФАШИЗМ И НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ: НЮАНСЫ И РАЗЛИЧИЯ
Здесь следует сделать различие между фашизмом и национал-социализмом; хотя обе идеологии принадлежат к одному и тому же идеологическому сегменту, они существенно различаются в деталях. Обе основаны на грубой версии диурнического мифа, но проявляется это по-разному.
В центре фашистской идеологии стоит «государство», понятое как «абсолютное государство»18 (Дж. Джентиле) или «тотальное государство», призванное сплотить все уровни населения в едином процессе державостроительства. Классовые противоречия снимаются в идее «корпоративности», то есть в распределении населения не по классам, а по профессиональным ролям в общем порыве к созданию мощного государства. Справедливость реализуется не через материальное уравнивание (как в коммунизме) и не через равенство стартовых возможностей (как в либерализме), а через дифференциацию политико-государственных функций, каждая из которых является частью целого политико-государственного организма. Государство здесь мыслится как высшая ценность, а враги государства — внешние и внутренние — помещаются в раздел логического (интересы) и мифологического (архетипы) зла.
В национал-социализме государство также является высшей ценностью, солидарность высших и низших классов также стоит в центре идеологии, но к этому добавляется расовое учение — представление о «высших» и «низших» расах. Здесь диурн приобретает особенно варварский германско-языческий характер, поскольку на так называемые «низшие расы» (евреев, африканцев, мулатов, цыган и даже славян) проецируются демонические образы зла, ночи, звериности (териоморфизм), всевозможных грехов и пороков и т. д. Расизм был вообще не свойственен фашизму, но составлял важную часть учения национал-социализма.
Кроме того, харизматичность вождей в фашизме и национал-социализме также различалась по степени мифологизации — в Италии дуче мыслился как великий политический деятель наподобие Гарибальди (1807–1882) или Мадзини (1805–1872), а Гитлер (1889–1945) для национал-социалистов был скорее языческим мессией, воплощением германского божества войны и победы — Вотана.
Мифологичность германского нацизма была на порядок глубже и предрациональнее, нежели в случае итальянского фашизма. Но это не мешало тому, что в целом национал-социализм оперировал с целой серией довольно рациональных моделей и теорий, формирующих структуры его специфического социального логоса. В той или иной степени сотрудничали с национал-социалистами такие выдающиеся мыслители, рационалисты и гиганты современной науки, как философ Мартин Хайдеггер (возможно, крупнейший философ ХХ века), юрист и философ Карл Шмитт, социолог-классик Вернер Зомбарт, культуролог и социолог Освальд Шпенглер, философ Людвиг Клагес, писатель Эрнст Юнгер и его брат публицист Фридрих Георг Юнгер (1898–1977) и сотни других выдающихся интеллектуалов, свободно и в совершенстве владеющих всем арсеналом европейского логоса. Архаизм диурна в его первозданном виде в национал-социализме уживался с высоким уровнем рационализма и логоцентризма.
Современные исследования отношения национал-социализма к мифу показывают, что помимо официальной и довольно слабой версии искусственной неомифологии, изложенной в книге нациста Альфреда Розенберга (1893–1946) «Миф двадцатого столетия»19, где основные темы этой идеологии представлены в упрощенно-карикатурном виде, имелись более глубокие мифологические корни, которые надо исследовать через пересмотр самой структуры культуры Модерна. Так, в частности, философы Франкфуртской школы пришли к выводу, что «после Аушвица надо мыслить по-другому», основав на анализе феномена национал-социализма и совершенных им зверств, геноцида, массовых убийств и т. д. развернутую критику всей эпохи Просвещения, допустившей подобные явления не на периферии «просвещенного мира», а в самом центре Европы, на пике становления современной «гуманистической», демократической цивилизации20. Развитие этой критики вело напрямик к Постмодерну и вскрытию мифологической, «репрессивной», «тоталитарной» сущности Нового времени (например, у М. Фуко, Ж. Делёза и других). Поэтому идеология фашизма и особенно его практика оказали существенное влияние на формирование социологической и философской парадигмы, пришедшей на смену Модерну.
Контрольные вопросы
1. В чем состоит метод мифоанализа (Ж. Дюран) применительно к идеологиям?
2. В чем отличие классического либерализма от современного либертарианского?
3. Назовите несколько свойств фашистской мифологии.
ГЛАВА 6.4
МАРКСИСТСКАЯ (И ПОСТМАРКСИСТСКАЯ) СОЦИОЛОГИЯ
Рассмотрев в общих чертах, как социология видит идеологии, опишем, какие нормативы и методы постижения общества преобладают в рамках самих этих идеологий. В начале этого раздела мы описывали логос и мифос главных идеологий с позиции структурной социологии (социологии глубин), помещая их в систему координат с размерностью большей, нежели число измерений самих этих идеологий. Теперь посмотрим, какие версии социологии формируют сами эти идеологии в рамках своих собственных — заведомо упрощенных (ведь речь идет о «ложном сознании»!) — координат.
СОЦИОЛОГИЯ МАРКСИЗМА
К социологическим воззрениям марксизма мы обращались не раз в предыдущих главах. Сведем основы марксистской социологии к схематическому перечню.
1. Общество фундаментально и первично, в нем нет ничего от природы, которая в обществе пребывает только в снятом (преодоленном) виде.
2. Сущность человека исключительно социальна, все остальные определения человека (в том числе биологическое) суть вторичные социальные конструкты. Индивидуальность как некое постоянное содержание человека, независимо от социальных связей и позиций, отрицается, так как человек есть выражение его социальной, классовой принадлежности и полностью предопределен базисом.
3. Общество представляет собой дробь, в «числителе» которой надстройка (Uberbau, суперструктура), в «знаменателе» базис (Basis, инфраструктура). Под надстройкой понимается собственно идеология, политика, культура, философия; под базисом — производственные отношения, экономика, циклы формирования капитала и присвоения прибавочной стоимости капиталистами.
4. Общество имеет классовый характер на протяжении всей его истории, кроме изначальных, «доисторических» времен «пещерного коммунизма». Разделение на два принципиальных класса — эксплуататоров и эксплуатируемых — и противоречия между этими классами обостряются по мере смены общественно-экономических формаций (первобытно-общинный, родоплеменной, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм). Классовая борьба — главное содержание истории.
5. Логика социальной истории ведет к формированию пролетариата как глобального мирового класса, к росту классового самосознания, к появлению коммунистических (социалистических) партий как авангарда рабочего класса, к осуществлению социалистических революций, в ходе которых свергается власть капиталистов и возникает новый тип общества, где преобладает обобществление средств производства и относительное равенство. Постепенно социалистические общества перерастают в коммунистические; когда последние остатки государства, неравенства, иерархии, управления исчезают, наступает эпоха всемирного братства человечества.
6. Классический марксизм связывает социалистические революции с трансформациями базиса — и массовым формированием промышленного городского пролетариата в развитых капиталистических обществах. Но и в этом случае роль надстройки в виде коммунистической партии имеет большое, а в определенных моментах — решающее значение, так как эта надстройка позволяет рабочему классу осознать механику социального и исторического процесса. Позднейшие марксисты — А. Грамши (1891–1937), Д. Лукач (1885–1971), Франкфуртская школа и т. д. — еще более увеличивают значение надстройки (революционеров, интеллектуальной элиты), посчитав ее историческое значение решающим.
ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ В МАРКСИСТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
Эти базовые установки являются основой социологической топики марксизма, предопределяют методы и принципы марксистского анализа. Изучая общество, марксисты начинают с определения того, в какой стадии развития оно находится (марксисты убеждены в синтагматической природе исторического процесса, в его постепенности, однонаправленности и универсальности). Время играет в марксистской социологии главенствующую роль.
Определение момента исторического развития — самое главное. Его установление — основа марксистского анализа. Для того чтобы точно определить характер момента исторического развития, необходимо изучить уровень развития производительных сил и производственных отношений, проанализировать процентный рост промышленного пролетариата, исследовать природу господствующего класса (имеем ли мы дело с родоплеменным строем, рабовладельческим обществом, феодализмом, капитализмом и т. д.). Установление точного и корректно описанного момента, в котором пребывает рассматриваемое общество, является главной операцией марксистской социологии. Все остальное — стратификация, оси координат, культура, социальная антропология, статусы и роли и т. д. — зависит именно от момента. Смысл и значение моменту придает его точная локализация на оси историко-социального времени, которое в марксизме течет необратимо и однонаправленно — от первобытно-общинного строя к коммунизму. То, где на этой временной оси располагается рассматриваемое общество, и будет «научным» (согласно марксизму) знанием об этом обществе. И лишь отталкиваясь от этого знания как от фундаментальной основы, можно понять конкретные феномены данного общества, не забывая о постоянном их соотнесении с диахронической шкалой.
Для марксизма социологический анализ — это разоблачение претензий общества (господствующих классов, эксплуататоров) на то, чтобы завуалировать или некорректно описать его классовую природу, затушевать классовые противоречия, эвфемизировать классовую борьбу, преподнести эксплуатацию и экспроприацию прибавочной стоимости как «естественный процесс» или вообще скрыть его, а рост отчуждения и накапливающиеся противоречия приукрасить или представить чем-то незначительным.
В силу такой установки марксизм называется критической идеологией. Она в первую очередь критикует, разоблачает, демистифицирует, «выводит на чистую воду» (определение момента) то, что этому противится.
Все сказанное о марксистской социологии в равной степени относится и к другим разновидностям левой социологии и составляет смысл критического метода.
ДЬ¨РДЬ ЛУКАЧ: ПРОЛЕТАРИАТ И ГНОСЕОЛОГИЯ
Одним из крупнейших социологов марксистского толка был венгерский философ Дьёрдь Лукач21, в юности входивший в ближайший круг сподвижников и единомышленников Макса Вебера. Лукач соотносит марксистский анализ с основными темами философии — в частности, с проблемой «субъекта–объекта» и «овеществления» («опредмечивания», «реификации»), которое происходит, по Марксу, в ходе развития капиталистических отношений. Лукач рассматривает развитие капитализма с точки зрения нарастающей оппозиции между внутренним субъектом и внешним объектом, что достигает своего предела в тотальной реификации (овеществлении) социальных отношений и соответствующем ей отчуждении. В отличие от буржуазных социологов Лукач настаивает на том, что буржуазные реформы не снижают напряжения между индивидуумом и обществом, между субъектом и объектом, но, напротив, доводят его до предела. И когда это напряжение достигает кульминации, на историческую арену выступает пролетариат как революционный класс, носитель не только социальной и экономической миссии, но и особого сознания, в котором противостояние объекта и субъекта полностью снимается. Тем самым, пролетариат наделяется «мессианским» качеством, благодаря которому самый объективизированный класс через революционный процесс схватывает сущность субъектного начала, что воплощается в акте социалистической революции и дальнейшем праксисе построения коммунистического общества.
Пролетариат не просто гармонизирует трения между человеком и обществом, обществом и природой, субъектом и объектом, производительными силами и производственными отношениями — он выступает финальным синтезом всех пар противоположностей. Лукач говорит, что в пролетариате объект и субъект совпадают и гегелевское тождество между мыслью и бытием становится из возможного действительным.
Таким образом, сфера социального и область классовой борьбы, по Лукачу, являются приоритетной сферой решения фундаментальной философской проблематики.
ФРАНКФУРТСКАЯ ШКОЛА: КРИТИКА ТОТАЛИТАРИЗМА
Своеобразное направление неомарксистской социологической мысли мы находим во Франкфуртской школе. Ее основателями являлись Макс Хоркхаймер (1895–1973), Теодор Адорно (1903–1969), Герберт Маркузе (1898–1979). Позже к ним примкнули Эрих Фромм (1900–1980) и Юрген Хабермас (1929 г. р.), а также многие другие философы, социологи и культурологи.
Теория Франкфуртской школы получила название «критической теории» в узком смысле (так как критической теорией в широком смысле считается марксизм).
Хоркхаймер, Адорно, Маркузе и их единомышленники сочетают в своих работах классовый подход социологии Маркса с экзистенциализмом, феноменологией, гегелевской диалектикой. Основным моментом является повышенное внимание к внутреннему миру человека, который, в отличие от классического марксизма, приобретает у философов Франкфуртской школы более автономный статус. В этом можно распознать шаг в сторону либерализма и признания определенной автономности за индивидуумом. Следствием такого отступления от жесткой классовой догматики марксизма является пересмотр соотношения надстройки и базиса в марксистской теории в сторону большего значения, приписываемого надстройке. Группа критических интеллектуалов через работу с философией, культурой, искусством, по мнению философов Франкфуртской школы, способна изменить социальную структуру общества, если ее деятельность будет целенаправленной, организованной и опирающейся на глубокое понимание социальных процессов.
Другим важнейшим пунктом этого направления в социальной мысли был пересмотр отношения к эпохе Просвещения. Критическая теория Франкфуртской школы и сводится в основных чертах к критике Просвещения, которое у большинства марксистов и представителей левой философии и социологии, напротив, осмысляется позитивно.
Авторы «Диалектики Просвещения»22 исходят из того, что просветительская мысль представляет собой резюме основных идей, благодаря которым осуществился переход от традиционного общества к обществу Модерна. Но, по мнению Хоркхаймера и Адорно, деятельность творцов Просвещения привела к результату, прямо противоположному задуманному (феномен гетеротелии, о котором упоминалось в первом разделе).
«Отчуждение от природы, которую люди намеревались покорить, а главное, подчинение человека человеку, господство над себе подобными вместо господства над природой — таковы основные проявления диалектики Просвещения. <…> Человечество с помощью просветительства намеревалось устранить мифы, сделать ясным и доступным знание; но в результате оно создало новые мифы. К таким новым мифам причисляются абсолютный рационализм и сциентизм, т. е. неомифология разума и науки. И здесь снова сказывается парадоксальная диалектика Просвещения. Ибо Просвещение намеревалось именно с помощью разума и науки „освободить”, „осчастливить” человека и человечество. Между тем результат снова оказался иным: из „великого и свободного” разум на деле стал инструментальным разумом, его понятия, концепции, нормы оказались не способами освобождения, а инструментами господства, причем не столько над природой, сколько над другими людьми. В итоге начало складываться отчуждение человека и человечества от разума и науки. Хоркхаймер и Адорно формулируют и более общий тезис: „Люди оплачивают расширение своей власти отчуждением от того, над чем властвуют”. <…> Хоркхаймер и Адорно называют идеологию Просвещения „тоталитарной системой”. Наука и философия Просвещения интересуются не одноразовыми, непосредственными, неповторимыми процессами, а лишь общим, повторяющимся — тем самым осуществляется „негация непосредственного”, вводится „принцип повторения”. Приведение к абстрактным, лучше всего к математическим, стандартам — другой принцип просветительской науки. Мир упаковывается в систему понятий, категорий логики. Несмотря на то что все эти занятия кажутся весьма далекими от жизни, они служат вполне конкретной социальной цели. Математические процедуры становятся, так сказать, ритуалом мышления и превращают живые мыслительные процессы в „вещественные” инструменты. Создается математическая, сциентистская мифология, за фасадом которой скрывается то же самое усиливающееся господство одних людей над другими»23.
Другой стороной социологии Франкфуртской школы стало пристальное внимание к феномену фашизма и национал-социализма в Европе (так как все представители Франкфуртской школы были евреями, они вынуждены были бежать от нацистских преследований и на время войны эмигрировать в США). В этом они видели не печальное недоразумение или «соскальзывание в варварство», но проявление тех сторон Просвещения, которые они изначально критиковали, причем в особенно жестокой и наглядной форме. Известна формула Т. Адорно: «После Аушвица вся культура, включая крайне необходимую ее критику, есть хлам». Это означает, что претензии буржуазной культуры на необратимое расставание с духом Средневековья (с его принципами иерархии, эксклюзии, прямого господства, социальной и этнической сегрегации) есть ничем не обоснованная претензия, полностью опровергнутая феноменом нацистского тоталитаризма. Критика тоталитаризма и авторитаризма, особенно в современных их проявлениях, стала центральной темой данного направления социологии, чему посвящены коллективный труд «Авторитарная личность»24, «Помрачение разума»25 Хоркхаймера, работы Ханны Арендт (1906–1975), ученицы М. Хайдеггера, близкой к философам Франкфуртской школы, полагавшей, что «тоталитаризм — это явление сугубо современное»26.
Критика Просвещения как недостаточного просвещения, то есть отказ признавать за Модерном фундаментальный разрыв с Премодерном, напрямую ведет к идеям Постмодерна. Здесь также можно увидеть сближение марксизма с либерализмом и индивидуализмом, что станет впоследствие основой постструктурализма. Частично эта критика распространяется и на сам марксизм, который обвиняется в том, что и он был слишком затронут «тоталитаризмом» Просвещения и старался свести все индивидуальные — сингулярные — моменты к обобщающим классовым и безлично-экономическим процессам. Примером такой тоталитарной девиации общества, основанного на номинально марксистских принципах, для философов Франкфуртской школы были СССР и советское общество, в котором они видели не просто карикатуру на марксизм, но явное обнаружение именно тех его сторон, в которых репрессивный характер просвещенческой неомифологии проступил ярче всего.
ФРЕЙДОМАРКСИЗМ
Фрейдомарксизм представляет собой социологическое направление, тесно взаимодействовавшее с Франкфуртской школой. Наиболее полно эту теорию развил психоаналитик Вильгельм Райх, а также Герберт Маркузе и Эрих Фромм.
Основная идея фрейдомарксизма заключается в установлении прямых аналогий между социальным освобождением трудящихся (через социалистическую революцию) и сексуальным освобождением половых желаний, влечений, либидо (через раскрепощение нравов и сексуальную революцию). Упрощенное толкование Фрейда позволяло понять его учение как «призыв избавиться от комплексов», которые сковывают сексуальное влечение и заставляют подчиняться вытесняющей диктатуре рассудка. В социологическом смысле это постулировало человека как человека желающего, который позже будет назван Делёзом и Гваттари «машиной желаний». Сексуальность отождествлялась здесь с внутренним содержанием индивидуума, и ее структура бралась за модель, которая императивно и нормативно распространялась на всю структуру общества — вопреки тем социальным институтам (патриархат, семья, мораль и т. д.), которые сложились еще в эпоху Премодерна и продолжают оказывать решающее влияние на социальные, правовые и политические институты Нового времени (в таком подходе мы видим типичную для Франкфуртской школы критику Просвещения).
Один из основоположников фрейдомарксизма, социолог Г. Маркузе, утверждал, что «смысл капиталистической эксплуатации состоит в ограничении влечений», и призывал к отказу от традиционных ценностей, бунту и революционной борьбе за «раскрепощение» инстинктов, в особенности Эроса. Эти идеи он последовательно изложил в серии книг «Эрос и цивилизация», «Одномерный человек»27 и т. д.
Фрейдомарксизм и Франкфуртская школа в целом являются важным моментом в развитии левой (марксистской и постмарксистской) социологии, так как с разных сторон вводят в социологическую конструкцию индивидуума как важнейшую социальную фигуру (которой не было в классическом марксизме). Этот индивидуум обосновывается экзистенциально [многие экзистенциалисты также были марксистами и левыми — в частности, Сартр (1905–1980), Камю (1913–1960) и другие] или сексуально, и его освобождение вначале становится задачей, параллельной освобождению рабочего класса, а потом и вытесняет класс вовсе. Принцип освобождения индивидуума в смысле раскрепощения его сексуальных желаний определяется как либертарианство, которое было побочным явлением в ранних коммунистических теориях, но приобретает все больший и больший вес в позднем марксизме ХХ века.
Мы видели ранее, как либертарианство, с другой стороны, постепенно сближается с либерализмом, образуя формулу «li-li». Параллельно этому происходит проникновение либертарианства и в левые идеологии, и в марксизм. Фрейдо-марксизм играет в этом процессе ключевую роль, так как в нем мы видим серьезную смену социологических приоритетов левой идеологии — от жесткой и догматической классовой борьбы, где решающую роль играет базис (экономические отношения) и где действуют силы класса, а не индивидуумы, к более нюансированным и индивидуалистическим теориям, где в центре оказывается индивидуум, освобождению подлежат в первую очередь сексуальные влечения, а решающую роль играют критически настроенные интеллектуалы-нонконформисты.
В этом русле развивается и критика советского строя со стороны европейского марксизма (как правило, троцкистского толка), где центральным моментом является вскрытие и разоблачение тоталитаризма и некритически понятого духа Просвещения.
Во второй половине ХХ века такая «новая левая» постмарксистская и фрейдо-марксистская социология вплотную подойдет к либертариански понятому либерализму (li-li), что образует основу социологических систем Постмодерна.
Контрольные вопросы
1. Как марксист Д. Лукач понимает миссию пролетариата?
2. В чем состоит суть критики Франкфуртской школы Просвещения?
3. Какова методологическая основа фрейдомарксизма?
1 Tracy D.А. de. Elements d’ideologie: ideologie proprement dite. Paris, 1995.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения: В 9 т. М., 1985. Т. 2.
3 Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
4 См.: Морено Дж. Театр спонтанности. Красноярск, 1993; Он же. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе. М., 2001; Он же. Психодрама. М., 2001.
5 См.: Gentile G. Che cosa è il fascismo: discorsi e polemiche. Firenze: Vallecchi, 1925; Idem. Introduzione alla filosofia. Firenze: Sansoni, 1952; Idem. La riforma della dialettica hegeliana. Firenze: Sansoni, 1975.
6 Gentile G. La riforma della dialettica hegeliana. Firenze: Sansoni, 1975.
7 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
8 Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002.
9 Sombart W. Deutscher Sozialismus. Charlottenburg, 1934. См. также: Зомбарт В. Собрание сочинений: В 3 т. СПб., 2005.
10 Mead G.H. The Individual and the Social Self // Unpublished Essays. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
11 Мольер Ж.Б. Мещанин во дворянстве. М., 2009.
12 Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
13 Американский писатель Теодор Драйзер (1871–1945) назвал один из томов своей «Американской трагедии», воспевающей классический тип американского предпринимателя, идущего к успеху, «Титан». См.: Драйзер Т. Титан. Л., 1988.
14 Beggs D. Postliberal Theory // Ethical Theory and Moral Practice. V. 12. № 3. Springer Netherlands. 2008.
15 Cohn N. The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages. New York, 1957.
16 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. Тотальная мобилизация. О боли. СПб., 2000.
17 Rahn O. Lucifer’s court. Rochester, 2008.
18 Gentile G. Che cosa è il fascismo: discorsi e polemiche. Firenze: Vallecchi, 1925.
19 Розенберг А. Миф XX века. Оценка духовно-интеллектуальной борьбы фигур нашего времени. Таллин: Шилдекс, 1998.
20 Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.; СПб.: Медиум; Ювента, 1997.
21 Лукач Д. Литературные теории XIX века и марксизм. М., 1937; Он же. К истории реализма. М., 1939; Он же. Борьба гуманизма и варварства. Ташкент, 1943; Он же. Своеобразие эстетического. М., 1985. Т. 1; 1986. Т. 2; 1986. Т. 3; 1987. Т. 4; Он же. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М., 1987; Он же. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. М., 1991; Он же. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М., 2003.
22 Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. Указ. соч.
23 История философии: Запад–Россия–Восток (кн. 4. Философия XX в.). М.: Ю.А. Шичалина, 1999.
24 Adorno T.W., Frenkel-Brunswik E., Levinson D.J., Sanford R.N. The authoritarian personality. New York: Harper and Row, 1950.
25 Horkheimer M. Eclipse of Reason. New York, 1974.
26 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1995.
27 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 2002.
Эксплуататоры Эксплуатируемые
Схема 22. Индивидуально-атомарная матрица либеральной социологии
Схема 23. Плюральность социальных форм либерального социума
Схема 24. Нормативная модель социума в фашистской (консервативной) социологии
ГЛАВА 6.5
ЛИБЕРАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ ЛИБЕРАЛЬНОГО ПОДХОДА К СОЦИОЛОГИИ
Либеральная социология видит общество совершенно иначе. Выделим ее основные предпосылки (в сравнении с марксизмом).
1. Первичным является индивидуум, независимый от общества и обладающий полной автономией по отношению к нему. Общество как таковое создается общественным договором индивидуумов для решения каких-то совместных задач. Общество имеет рациональную природу и может видоизменяться в том случае, если количество или качество его участников изменится или они договорятся о пересмотре основных устоев общества. Отсюда значение Конституции как формы коллективного договора.
2. Человек есть существо индивидуальное; социальность — лишь одна (не фундаментальная) из сторон его бытия. Разные версии либерализма по-разному обосновывают индивидуальность — феральность, (пост)религиозное представление о душе, учение о рациональном субъекте и т. д., — но общим является признание свободы индивидуума от общества как нормативногосостояния и вектора социального прогресса.
3. Общество представляет собой динамическое и диахроническое явление, протекающее как постоянное движение атомарных индивидуумов, которые стремятся к выработке социальной модели, оптимально соответствующей нормативам свободы. Важнейшим этапом в развертывании этого процесса является переход от политики к экономике, от кастового и сословного общества к классовому, где достигается равенство стартовых условий. Экономический человек — человек оптимально свободный, а следовательно, нормативный.
4. В обществе всегда будут наличествовать высшие и низшие классы, так как люди обладают различными способностями, действуют в различных условиях, прикладывают для достижения успеха разное количество энергии. Высшие классы формируются из наиболее активных, сильных, успешных, трудолюбивых, сообразительных, удачливых, изобретательных, способных добиваться своего любыми способами (не противоречащими социальному контракту). В низшие классы попадают те, кто, начиная с равных стартовых условий со всеми остальными, не прикладывает достаточных усилий для достижения целей, колеблется, ленится, сбивается с пути, отклоняется на второстепенные цели, и кому просто-напросто не везет. Посередине находятся средние классы, успешные, но не совсем, отстающие от высших по всем параметрам. Такая стратификация общества неизбежна и ни в чем не противоречит стартовому равенству возможностей. Классовая борьба как неизбежность отрицается, а ее подобия суть проявление глухого (и аморального) недовольства тех, кто проиграл, теми, кто выиграл.
5. Логика социальной истории ведет к тому, что все общества рано или поздно обнаружат для себя преимущества свободы и рыночной системы, построят буржуазно-демократические режимы, и экономика станет всеобщей судьбой. Это будет эпохой мира и глобального сотрудничества, так как вместо войн и конфликтов будет свободная конкуренция и система договоров. Современные либералы (Ф. Фукуяма) называют такое состояние «концом истории»1.
6. Историческая задача либералов состоит в том, чтобы сделать рынок, либеральную демократию, парламентаризм, принципы «прав человека» (то есть политико-идеологически узаконенный индивидуализм) глобальным явлением, реформировав (если понадобится, уничтожив) те страны и общества, которые основаны на иных идеологических началах. Как миссионерство либерализм ставит своей целью открыть человечеству глаза на индивидуума как высшую ценность. В стратегическом плане это выражается в распространении либеральной модели на все страны и общества, их модернизацию и вестернизацию — с перспективой ликвидации национальных государств и объединения человечества в единое Мировое Государство во главе с Мировым Правительством (глобализация и глобализм).
ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА
Либеральная социология развивалась преимущественно в США.
Важнейшее значение в этом процессе сыграла Чикагская школа. Ярче всего принципы либеральной идеологии проявляются у первого поколения этой школы, которая ставила перед собой задачу, с одной стороны, дать либеральный ответ на вызовы, сформулированные марксизмом и марксистской социологией, а с другой — воспрепятствовать на практике тому, чтобы марксистские прогнозы относительно обострения классовых противоречий сбылись в масштабе, достаточном, чтобы поставить под угрозу существование капиталистической системы. В этой озабоченности чикагцев практической политикой выразилась глубокая идеологичность всего этого направления. Представители Чикагской школы активно взаимодействовали с администрацией города Чикаго, убеждая ее системно использовать социологию для противодействия социальной нестабильности и предупреждения классовых трений.
«Основоположником Чикагской школы был А. Смолл, первый в США профессор социологии. Базовым сырьевым материалом социального процесса является, по Смоллу, деятельность группы. Групповая деятельность основывается на элементарных человеческих интересах, и неизбежный конфликт этих интересов придает динамику социальному процессу. Формируя концепцию социального конфликта, Смолл опирался на работы К. Маркса, экономиста А. Вагнера (1835–1917), социологов Шеффле (1831–1903), Гумпловича. В то же время он полагал, что конфликты могут быть урегулированы, а анархии можно избежать, если они протекают под авторитетным контролем государства, выносящего третейские решения относительно групповых антагонизмов»2.
В этом подходе мы видим основополагающую черту американского либерализма (иногда называемого «корпоративным либерализмом») — апелляцию к государству в качестве инстанции, способной смягчить классовые и групповые противоречия через проведение сбалансированной политики, не нарушающей при этом основные принципы свободы рынка и не ограничивающей либерализм, но заинтересованной в сохранении общей системы через пристальное внимание к каждому конкретному случаю социального дисбаланса или институциональной дисфункции. Одним из инструментов такой упреждающей или гасящей классовые трения деятельности государства чикагские социологи считали сближение социологии с государственным управлением. С марксистской точки зрения такая социология могла бы быть названа «штрейкбрехерской», что получило в истории социологии специальное название — «хоторнский эффект» (знаменитая история, когда группа социологов, в частности основатель индустриальной социологии Элтон Мейо (1880–1949), внедренная для изучения общественного мнения в коллектив рабочих, вызвала активные протесты с их стороны после того, как они распознали в деятельности социологов исполнение заказа владельцев, ведущего в перспективе к увеличению трудовых затрат, к ущемлению экономического благополучия, прав и свобод рабочих — в их понимании).
Со Смоллом тесно сотрудничали прагматист Джон Дьюи (1859–1952), интеракционист Джордж Герберт Мид, институционалист Торстейн Веблен (1857–1929).
Российский социолог Г. Осипов справедливо замечает:
«Первое поколение Чикагской школы — Смолл, Винсент, Томас, Хендерсон — утвердило либерализм в качестве основной социально-философской доктрины социологической школы. Либерализм понимается в США как идеологическая ориентация, основанная на вере в значение свободы и благосостояния индивида, а также на вере в возможность социального прогресса и улучшения качества жизни с помощью изменений и инноваций в социальной организации общества. Чикагская школа развивала корпоративную разновидность либерализма, суть которой состоит в убеждении, что без политического регулирования экономической жизни капитализм будет разрушен классовыми конфликтами. Чикагская школа выступила против неограниченной экспансии капиталистического господства, за цивилизованность, рациональность форм такого господства»3.
ТИПОЛОГИЯ ИНДИВИДУУМА И СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
Так как индивидуум стоит в центре всего социологического метода либерализма, закономерно, что именно ему в либеральной социологии уделялось основное внимание. Пристальное внимание к индивидууму и к микроситуациям, в которых он оказывается (так называемое «case studies» — изучение конкретного случая), характерно и для других представителей Чикагской школы — в первую очередь Уильяма Томаса и Флориана Знанецкого.
У. Томас сформулировал концепцию социальной ситуации, которую он делил на три важнейшие составные части:
1) объективные условия, заложенные в существующих социальных теориях и ценностях;
2) установки индивида и социальной группы;
3) формулирование существа ситуации действующим индивидуумом.
В совместной работе со Знанецким Томас детально исследовал именно систему социальных установок и показал, что конфликты и социальная дезинтеграция с необходимостью возникают в случаях, когда индивидуальные определения ситуации личностью не совпадают с групповыми ценностями. В этом мы видим классический мотив либерализма, объясняющий социальные дисфункции через конфликт индивидуального начала с социальным.
Томас выделял четыре группы побудительных желаний человека, играющих ведущую роль в определении его поведения:
• необходимость нового опыта;
• обеспечение безопасности, стабильности своего образа жизни;
• потребность в признании себя со стороны окружения;
• жажда господства над своим окружением.
Индивидуальную конфигурацию этих желаний он связывал с врожденными особенностями человека, прежде всего — с его темпераментом. Здесь мы имеем дело с попыткой психологического объяснения постоянства индивидуума через его врожденные психологические свойства — в данном случае через темперамент.
Отсюда уже один шаг до типологии индивидуумов, построенной на признании у них фиксированных свойств.
«Томас и Знанецкий строят эту типологию на анализе механизмов социальной адаптации.
Согласно их теории, есть три основных типа:
• обывательский (мещанский) тип — он характерен традиционностью своих установок;
• богемный тип — он отличается нестойкими и малосвязанными установками при общей высокой степени адаптации;
• творческий тип — наиболее значимый для социального прогресса, способный на порождение изобретений и инноваций.
Знанецкий ввел в социологию понятие человеческого коэффициента, означающее личностно значимый аспект человеческого опыта данного индивидуума. Его учет, по Знанецкому, обязателен при анализе деятельности личности и означает ее понимание социальной ситуации»4.
Ф. ХАЙЕК: КОСМОС ПРОТИВ ТАКСИСА
Параллельно американской либеральной социологии развивалась европейская либеральная школа, связанная в первую очередь с именем Фридриха фон Хайека.
Суммарный обзор идей Хайека дает французский философ Ален де Бенуа.
«Хайек классифицирует основные типы общества как противостоящие друг другу понятия „таксис” и „космос”. Под „таксисом” понимается волюнтаристски установленный строй, любой политический проект, подразумевающий общую цель коллектива, вненациональное планирование, решающую роль государства, управление экономикой и т. п. Для Хайека перечисленные признаки — реликты „родового строя”. Напротив, слово „космос” обозначает „спонтанный строй”, общество, проистекающее „естественным образом” из сугубо практической деятельности, существующее без определенной цели. Люди в таком обществе заняты исключительно достижением своих личных целей, необходимое согласование общественных сил определяется их взаимодействием. Таким образом, „космос” формируется спонтанно, независимо от человеческих намерений и проектов.
Человек не может познать всего, поэтому лучшее, что он может сделать, — это поставить себя на службу традиции, под которой Хайек подразумевает привычки, освященные уроками опыта.
Рынок — вот отличный ключ к системе. В обществе разобщенных индивидуумов торговля на рынке — единственно возможный вид социальной интеграции. В традиции либеральной мысли рынок представляется как абстрактный способ социальной регуляции, „невидимая рука”, посредством которой проявляются объективные общественные законы, управляющие делами человека вне зависимости от любой политической власти. Социальный строй сливается с экономическим — ненамеренное следствие взаимодействия движимых исключительно собственным интересом индивидуумов. В таких условиях рынок охватывает все поле социальной деятельности, являясь более не моделью человеческой активности, но ею самой. Рынок не принадлежит сфере чистой экономики (под которой Хайек подразумевал сферу элементарных экономических объединений — фирм и торговых домов), он становится глобальной системой для управления обществом. Рынок — уже не просто экономический механизм оптимального распределения дефицитных ресурсов, имеющий целью обеспечение благосостояния и счастья человека, он распространяется в сферы социологии и политики, где рассматривается как инструментальное обеспечение индивидуумам возможности свободно реализовывать их частные цели.
Определив основополагающие принципы „расширенного общества” в рамках рынка, Хайек обращается к идеологическому направлению, которому он противостоит, — „конструктивизму”. Эта идеология, согласно Хайеку, основана на вере в иллюзорную возможность преобразования общества согласно какому-либо проекту, убежденности в том, что общественные институты служат целям человечества, предназначены для их реализации. Но коль скоро все знание с необходимостью ограничено по отношению к потенциальному релевантному знанию, конструктивизм переоценивает роль, которую „общественные инженеры” способны играть в управлении обществом. Архетипом конструктивизма в глазах Хайека является социализм, который узаконивает воскрешение родового строя. Успех социализма кроется в его апелляции к атавистическим инстинктам солидарности и альтруизма. Эта мысль приводит Хайека к выводу, что социализм заключает в себе все формы „социальной инженерии” и в конце концов именно к нему сводится любое диктуемое политическими соображениями экономическое решение, каким бы оно ни было. Последователи теорий Декарта и приверженцы холистического или органического общественного устройства, контрреволюционеры и романтики, марксисты, фашисты, социал-демократы — все они виновны в конструктивизме, ибо верили в целесообразность и эффективность государственного вмешательства в управление экономикой и социальных реформ. Итак, если вы планируете производство, апеллируете к солидарности, перераспределяете богатство, издаете природоохранное законодательство, вводите социальные льготы и самые мягкие формы государственного протекционизма, контролируете финансы — вы виновны в „конструктивизме” и обречены, по логике Хайека, на полный провал. Хайек настаивает на отсутствии какой бы то ни было общественной солидарности в достижении определенной цели и обреченности любых попыток поиска в этом направлении»5..
Теорию Хайека принято называть неолиберализмом. Это логичная социологическая теория, которая наиболее полно выражает основные силовые линии либерализма как последовательной, систематизированной и законченной идеологии, претендующей на описание общества и утверждение его нормативов.
Вдохновляясь идеями Хайека, собственную теорию «открытого общества» развил австрийский философ науки и социолог Карл Поппер (1902–1994). Социология Поппера представляет собой крайне идеологизированную версию социального норматива, критикующую любые формы «конструктивизма»6.
В случае Хайека и Поппера показательно, что их социологические теории формируются в прямом и осознанном, эксплицитном, критическом (даже полемическом) диалоге с социологией социализма (марксизма) и фашизма (национал-социализма), обобщая тем самым разрозненные либеральные тенденции в емкие и жестко идеологизированные системы.
АЙН РЭНД: АТЛАС РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ (ОБЪЕКТИВИЗМ)
Крайней формой неолиберальной социологии являются идеи, систематизированные американской писательницей русского происхождения Айн Рэнд (Алиса Розенбаум) (1905–1982), которая повлияла на новое поколение американских неолибералов — от известного экономиста Милтона Фридмана (1912–2006) до президента США Рональда Рейгана (1911–2004). В ближайшем кружке Айн Рэнд («Collective») принимал активное участие экономист Ален Гринспен, который долгое время (1987–2006) возглавлял Федеральную резервную систему США и, по мнению многих экспертов, является создателем современной финансовой системы США. Влияние Айн Рэнд на американских неоконсерваторв и правое крыло Республиканской партии США до сих пор остается огромным.
Айн Рэнд в своих художественных7 и философских8 произведениях (свою философию она называет объективизмом) дает героико-диурническую версию либерализма, доведенную до крайних форм (яркое изложение идей Айн Рэнд дано в книге «Атлас расправил плечи»9). С точки зрения Айн Рэнд, индивидуализм и эгоизм являются сущностью человека, и их ничем не ограниченные проявления следует признать высшим благом. Айн Рэнд доводит до логического предела либеральный принцип — «если каждый будет стремиться к индивидуальному успеху и преуспеет в этом, преобразится все общество» — и выстраивает на этом свою социологическую концепцию. Айн Рэнд прямо называет общество чистым злом, которое сдерживает индивидуума, заставляет сильных и героических поддерживать ленивых и трусливых. Из этого Рэнд делает вывод, что необходимо начать войны «хороших богатых» (которые хороши уже тем, что богаты) против «плохих бедных», вплоть до полного поражения последних. Все формы перераспределения материальных благ должны быть упразднены, включая государство, и вместо этого повсюду должны быть установлены только жесткие законы свободного рынка, где выживает сильнейший, а на слабых никто не обращает внимания.
Здесь мы сталкиваемся с крайней формой либерального расизма, основанного на демонизации бедных и экономически слабых и прославлении богатых и экономически сильных.
В отношении социологии Айн Рэнд вполне можно использовать термин «либеральный фашизм» (или «экономический расизм»), так как здесь доводятся до логического предела идеи классового неравенства, социал-дарвинизма, индивидуализма и социальной сегрегации на основании материальной обеспеченности10.
Контрольные вопросы
1. Каковы основные идеологические принципы социологов Чикагской школы?
2. Как называется философская теория Айн Рэнд? В чем ее смысл?
3. Почему и в каком смысле Хайек называет либеральное общество «открытым»?
ГЛАВА 6.6
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ТРЕТЬЕГО ПУТИ
ТРЕТИЙ ПУТЬ КАК ОБОБЩЕНИЕ
Социологические теории в фашизме и национал-социализме были развиты неравномерно. А кроме того, эти идеологии были менее систематизированы, нежели марксизм и либерализм, просуществовав гораздо меньше по времени. Иногда к фашистской и национал-социалистической социологии типологически относят широкий спектр социологических идей, которые не были связаны с этими движениями напрямую, но имели с ними некоторые общие черты — хотя бы в том, что не попадали в пределы либеральной и марксистской социологии. Поэтому с научной точки зрения корректнее было бы говорить не о фашистской или национал-социалистической социологии, которых как таковых, то есть как систематизированных и законченных моделей, не было, но о социологии третьего пути, в чем-то созвучной проблематике фашизма и национал-социализма, но имеющей множество оригинальных черт.
Общим во всех социологиях третьего пути является то, что они отвергают марксистский подход, в основе которого лежит класс, и либеральный подход, в основе которого лежит индивидуум. Это отрицание объединяет социологии третьего пути, остальные же аспекты их разделяют, так как в разных случаях в основе социума могут постулироваться различные субъекты, явления и акторы.
ВИЛЬФРЕДО ПАРЕТО: НЕОМАКИАВЕЛЛИСТСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Идеи социолога Вильфредо Парето оказали огромное влияние на Бенито Муссолини (1883–1945), дуче итальянского фашизма, и прочно вошли в фашистский стиль осмысления общества. При этом строго причислять Парето к фашистам совершенно некорректно. В очень близком ключе развивали свои идеи Гаэтано Моска и Роберто Михельс, продолжавшие теории швейцарского экономиста Леона Вальраса, противопоставившего динамической концепции Маркса теорию экономического и социального равновесия (к которому тяготеют все политэкономические тенденции в любом обществе).
Социология Парето основана на том, что структура общества остается неизменной, в ней всегда есть высшие классы и низшие, элиты и массы. Динамика развития общества ничего не меняет в его сути и лишь прикрывает собой либо стремление новых элит перехватить власть у старых, либо стремление старых сохранить свои позиции. В такой картине в основе социума лежат только власть и иерархическая вертикаль, а каким образом организована стратификация — кастовым, сословным или классовым, — неважно, так как в любом случае логика и смысл господства не меняются.
Массы в любом обществе остаются за пределом какого бы то ни было влияния на политику, что бы им ни говорили, и отстранены от принятия решений. Это следует из самой социальной сущности масс; масса — это те, кем правят, элита — те, кто правит.
Парето при этом считает, что властные элиты со временем выполняют свои функции все менее адекватно, и это рано или поздно приводит к их опрокидыванию новыми элитами (контрэлитой). По Парето, лучше старым элитам подпитывать себя новыми энергичными представителями контрэлиты добровольно, нежели дожидаться, пока отстраненные от власти активные личности, организовавшись вокруг той или иной социальной, политической, экономической или династической идеи (чье самостоятельное значение второстепенно), их скинут.
Итальянский фашизм воспринял эту социологическую концепцию как программу формирования контрэлиты на первых порах, а далее, взяв власть после марша на Рим, заключил договор с Ватиканом и монархией из прагматических целей укрепления чистой стихии власти.
Социология Парето не дает ответа на вопрос, что делает человека относящимся к элите (или к контрэлите). Она просто фиксирует постоянство и неизменность этих закономерностей как констант социальной феноменологии. Холодный реализм и ирония Парето относительно несоответствия между идеологическими программами разных партий и деятелей и их грубой волей к власти как таковой, стоящей за всеми «идеями для масс», стали основанием для того, чтобы называть Парето и близких к нему авторов (Михельса, Моску и других) неомакиавеллистами — по имени Никколо Макиавелли (1469–1527), автора наиболее холодных, реалистичных и чем-то циничных версий политического анализа.
Ж.А. ДЕ ГОБИНО: РАСОВОЕ НЕРАВЕНСТВО
Иную версию социологии предложил один из создателей теории о неравенстве человеческих рас граф Жозеф Артур де Гобино (1816–1882). Гобино предположил, что неравенство в социальном, культурном, техническом и экономическом развитии между отдельными народами вызвано их принадлежностью к различным расам. Отсюда он сделал вывод, что расы не равны и их можно иерархизировать, поставив одних выше (белые, желтые), других ниже (черные).
Эти идеи легли в основу расизма. Теория Гобино повлияла на германских расистов, которые выдвинули идею о том, что народы белой расы, некогда называвшие себя арийцами (этносы, входящие в индоевропейскую языковую группу), представляют собой «высший» тип людей, якобы имеющий «естественные права» властвовать над остальными расами. От германских и австрийских расистов («ариософов») переняли эти идеи Гитлер и его окружение. Идеи об арийской расе присутствовали также в движении «теософизма» Е. Блаватской (1831–1891), которое получило широкое распространение в Европе в конце XIX — начале XX века.
Расовая теория служила не только обоснованием колониальной экспансии, но и объяснением многих внутренних социальных явлений. Наиболее развитой и повлекшей за собой значительное количество жертв и страданий была идея антисемитизма.
СОЦИОЛОГИЯ АНТИСЕМИТИЗМА
Антисемитизм как социологическое явление развивался параллельно расизму Гобино и изначально был с ним никак не связан. Еще в средневековый период в народных массах сложилась привычка переносить вину за социальные, экономические и политические проблемы, конфликты и трения на миноритарные группы, куда относились колдуны, ведьмы, а также религиозные и этнические меньшинства. Сложнообъяснимые причины социальных катастроф — неурожаев, жестокой эксплуатации, болезней, эпидемий, трудного экономического положения и т. д. — объяснялись общественным мнением с помощью «козней дьявола», который действует якобы через свои «инструменты» (в число которых попадали и евреи, живущие отдельно от христиан и продолжавшие исповедовать свою религию, о сути которой ходили самые невероятные слухи). Ситуация усугублялась тем, что еврейское меньшинство, чрезвычайно активное и энергичное, будучи социально ограниченым и замкнутым в рамках гетто, пыталось добиться социального влияния окольными путями — через экономическую деятельность, ростовщичество, советничество, сложные социально-политические интриги. Когда это им удавалось и евреи начинали играть важную социальную роль в обществе, это только усугубляло подозрительность и неприязнь простонародья, а в определенных случаях служило канализацией социальных напряжений и для властных элит (политических и церковных). Отсюда известные еврейские погромы, насильственная христианизация евреев — вплоть до тотальной депортации из страны (как в случае «католических королей» Изабеллы и Фернандо, выславших всех евреев Испании за ее пределы — Альгамбаргским декретом 1492 года).
Наступление Нового времени влекло за собой серьезные социальные сдвиги, слом старых структур, и это снова, как побочный продукт, вызвало в консервативных кругах Европы идеи о «дьявольских кознях», пособниками которых выступали секты и, среди прочих, евреи. Эти идеи имели устойчивое хождение в католической среде, где раннехристианская полемика «Евангелия» с древним иудаизмом (фарисеями и саддукеями) проецировалась на актуальные социальные события и толковалась в соответствующем духе.
В XIX веке стали появляться секулярные версии антисемитских учений, например, у Хьюстона Стюарта Чемберлена (1855–1927), или обновленные христианские версии, как у русского консерватора Сергея Нилуса (1862–1929), опубликовавшего в царской России печально известные «Протоколы сионских мудрецов». Смысл этих теорий заключался в том, что социально-политическая и экономическая история Нового времени связана с деятельностью особой революционной подрывной тайной организации, поставившей своей целью разрушение традиционного порядка Европы — религий, государств, монархий, культур, социальных и моральных систем и т. д. Этой организацией объявлялась этноконфессиональная группа евреев (совместно с масонами) — так называемый «еврейский» или «иудеомасонский» заговор. Ее деятельность была призвана подорвать существующие социальные системы и на обломках создать «всемирную империю» под еврейским контролем («мировое правительство»). Это должно было стать преддверием прихода «машиаха», который для христианского мира окажется «сатаной» и «антихристом», а в секулярных версиях антисемитизма речь шла об этнической эксплуатации мировой элитой евреев всех остальных народов — «гоев» («гоями» еврейская традиция называет всех неевреев).
Эта модель объяснения социальных событий через фактор «еврейского заговора» имела много сторонников, так как социальная активность евреев в Новое время, когда этнорелигиозные запреты с них были сняты и гетто в большинстве европейских городов перестали существовать, бросалась в глаза и при желании могла быть интерпретирована в негативном ключе. Число евреев среди представителей крупного капитала и особенно банкирских домов Европы было диспропорционально велико, что даже Маркса вынудило написать о евреях (отец Маркса был евреем, принявшим христианство) довольно жесткие слова:
«Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие. Каков мирской культ еврея? Торгашество. Каков его мирской бог? Деньги... Итак, мы обнаруживаем в еврействе проявление общего антисоциального элемента... Эмансипация евреев в ее конечном счете есть эмансипация человечества от еврейства».
И далее:
«Что являлось, само по себе, основой еврейской религии? Практическая потребность, эгоизм. То, что в еврейской религии содержится в абстрактном виде, — презрение к теории, искусству, истории, презрение к человеку как самоцели — это является действительной, сознательной точкой денежного человека… Химерическая национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного человека»11 .
Здесь мы имеем дело с левой, социалистической версией антисемитизма.
Совокупность этих разнородных религиозных, социальных, расистских конспирологических теорий12 вошла составной частью в национал-социализм и стала интегральной частью его интерпретации социальных, экономических, политических и исторических явлений.
В рамках общедиурнического дуализма антисемитизм стал играть роль социологического критерия, к которому так или иначе пытались свести все отрицательные явления. Противостоящий Германии Гитлера буржуазный мир (Англия, Франция, США) объявлялся цитаделью «еврейских банкиров». СССР описывался как страна, где правят «евреи-коммунисты». И в самой Германии все зло сводилось к «внутреннему врагу», то есть снова к евреям.
На этой основе постепенно складывалась идея «окончательного решения» всех проблем — депортация или уничтожение евреев должны были избавить национал-социалистический социум от самого источника негативных явлений.
ВЕРНЕР ЗОМБАРТ: СОЦИОЛОГИЯ ТРЕТЬЕГО ПУТИ
Крупнейший социолог Вернер Зомбарт13 также идеологически примыкал к третьему пути, подчеркивая фундаментальные различия своего метода с марксизмом (к которому в юности он был близок) и особенно с либерализмом. По Зомбарту, капитализм (либерализм) есть искусственная организация общества в соответствии с торгашеским духом и архетипом торговца, который последовательно и сознательно вытесняет собой рыцарский дух Средневековья и архетип воина.
Нормативное общество для Зомбарта — это общество интегрированное, солидарное, сплоченное и мобилизованное, что имеет место тогда, когда преобладают героические ценности. Приход буржуа как нормативной фигуры дробит социальную систему, ведет к фрагментации и атомизации общественного целого и рано или поздно приводит к декадансу, деградации и коллапсу.
Зомбарт выводил буржуазный строй из схоластической философии, в рамках которой акцент в толковании религии все более и более ставится на спасении индивидуальной души. Эта концепция постепенно переходила на социальные устои, подтачивая интегративность сословного строя с доминацией воинского, героического начала. Протестантизм сделал решительный рывок в эмансипации буржуазного индивидуализма и привел к признанию либеральной демократии, разделения властей и партийности.
Зомбарт системно изучил социологическую роль этнических и религиозных меньшинств в становлении европейского капитализма и особенно выделял роль евреев, которые, по мнению Зомбарта, в области экономики и ростовщичества увидели путь преодоления социальной и культурной изоляции и сегрегации и активно воспользовались этим, наложив культурный отпечаток на буржуазную эпоху.
В некоторых работах Зомбарт затронул диковинную для современной ему социологии тему влияния гендерного баланса на социальные трансформации в условиях городского хозяйства и выдвинул гипотезу о том, что развитию капитализма способствовал рост числа праздных и морально раскрепощенных женщин, ставших потребительницами возрастающего числа дорогих подарков со стороны мужчин-буржуа, что повлияло на динамику городского хозяйства, подстегнув дух наживы.
В своей последней книге «Немецкий социализм»14 Зомбарт дает обобщающую и систематизированную картину социологии третьего пути в общем контексте благожелательности по отношению к национал-социализму.
КАРЛ ШМИТТ: КОНСЕРВАТИВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Совершенно иная — но также рациональная и в высшей степени аргументированная — социологическая модель была развита немецким юристом и социологом Карлом Шмиттом15, принадлежавшим к направлению Консервативной революции, которое предшествовало национал-социализму и находилось на его периферии (часто во внутренней оппозиции, при том что эта оппозиция была не марксистской и не либеральной, в связи с чем ее профиль часто трудноразличим и становится понятным только при более тщательном изучении Германии 1930–1940-х годов).
Шмитт развивает несколько политологических теорий, обладающих принципиальным значением для как социологии политических идеологий, так и для социологии как таковой. Среди них важнейшими являются:
• понятие Политического (которое Шмитт определяет через пару «друг–враг»);
• теория суверенитета («суверенен тот, кто принимает решение в чрезвычайной ситуации»);
• теория децизионизма (модель принятия решений высшей властью с опорой на субъективные, объективные факторы, традицию и волю);
• теория политической теологии (по Шмитту, современные государства и политические системы представляют собой секуляризацию религиозных учений);
• различение легальности и легитимности (легальность как строгое соответствие формализованному закону, легитимность как неформальное соответствие ожиданиям народа и требованиям исторического момента);
• теория прав народа (представление о народе как коллективном субъекте права и главной инстанции общества);
• теория прямой (potestas directa) и косвенной власти (potestas indirecta) (с выделением опасности передачи власти неясным и нелегитимным центрам в лице прессы, экспертных групп, оторванных от народа интеллектуалов);
• теория номоса земли (привязка правовых особенностей общества к географической среде и историческому контексту существования в ней);
• теория земли и моря (философское и социологическое обоснование геополитического метода);
• теория политического романтизма (разбор влияния романтических и крайне идеалистических взглядов и принципов на политическую реальность);
• теория больших пространств (как особых форм имперской организации территорий и правовых систем);
• теория типов диктатуры (комиссарская диктатура как основанная на делегировании чрезвычайных полномочий особой группе на идеологических принципах и суверенная диктатура как правление личности, поставленной выше легальных законов);
• систематизированное изучение Jus belli, «закона войны» (разбор правовых и социологических основ войны);
• теория партизана (как исторически легитимной, но нелегальной формы сопротивления народов и групп превосходящему по силе противнику).
По сути учение Шмитта представляет собой законченный корпус социологических знаний, основанных на огромной систематизаторской научной работе, которые составляют наиболее выверенное, рационалистическое и корректно описанное основание для социологии третьего пути. Однако в самой Германии Гитлера, где преобладали более грубые и противоречивые популистские концепции, эти исследования оставались маргинальными.
После 1945 года социологические идеи Шмитта, несмотря на их огромный научный потенциал, были отчасти дискредитированы его двусмысленным отношением к режиму Гитлера, и только в последние годы их научное достоинство стало в полной мере признаваться мировым научным сообществом.
При этом надо подчеркнуть, что по своей структуре социология Карла Шмитта построена на совершенно иных предпосылках, нежели либерализм или марксизм. Шмитт сознательно причислял себя к последовательным консерваторам — для него большими авторитетами были Жозеф де Мэстр (1754–1821), Луи де Бональд (1754–1840), Доносо Кортес (1809–1853) и другие — и до конца своей жизни оставался практикующим католиком.
В основе общества, по Шмитту, лежат структурные формы политического, которые взаимодействуют между собой через систему легитимаций (делигитимаций) и легализаций (делегализаций), то есть через систему права. В отличие от марксистских и либеральных теорий, в конституировании общества он придает важнейшее значение:
• политическому (как самостоятельному явлению, а не придатку к экономике, как у марксистов и либералов);
• пространственному фактору;
• органическому этнокультурному коллективу (народу, das Volk);
• суверенному правителю (как особой децизионистской фигуре);
• религиозным и секулярно-пострелигиозным системам (церкви и идеологии).
ОТМАР ШПАНН: СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬНОСТЬ
Другой версией консервативной социологии третьего пути является теория австрийского социолога Отмара Шпанна16 (1878–1950). После аншлюса Шпанну было запрещено преподавание, так как его идеи расходились с официальной догматикой нацизма. Шпанн разработал теорию корпоративного государства, которое должно складываться из сословий (как в Средневековье). Основной социологической идеей Шпанна является целостность, холизм. По Шпанну, целое первичнее частного, но и марксизм, и тем более либерализм дробят это целое на две (марксизм) или на бесконечное множество частей, индивидуумов (либерализм). Это следствие материалистического, эмпирического и прагматического духа, который Шпанн критикует в Просвещении и в древности (там ему соответствует рационализм софистов). Этому Шпанн противопоставляет идеализм как основной вектор реализации социального целого.
В терминах П. Сорокина, социология Шпанна основана на принятии идеационного общества в качестве нормативного и общеобязательного, и, отталкиваясь от этой базовой установки, Шпанн анализирует иные существующие социальные модели и явления.
НОВАЯ АРИСТОКРАТИЯ
В социологии третьего пути (как фашистской, национал-социалистической, так и умеренной, консервативно-революционной) большую роль играет принцип «новой элиты», или «новой аристократии». В этом находят свое применение идеи Парето и Моски об элите и правящем классе, а также ницшеанские теории воли к власти и стремление к открытию новых социальных возможностей для отдельных энергичных людей из низших слоев населения, для которых фашистская идеология стала возможностью изменить социальный статус (то есть лифтом мобильности).
Отсюда революционный характер идеологии третьего пути, который затушевывается ее идеологическими противниками. Идея «новой аристократии» означала призыв к ротации элит, то есть к повышению социального статуса широких народных масс, приведенных в движение процессами модернизации и демократизации западного общества. Далеко не все находили оптимальное решение в обществе равных возможностей или в коммунистической и социалистической борьбе против эксплуатации. Значительный процент представителей европейских низов стремился изменить свое социальное положение иными способами, не имея склонности к предпринимательской деятельности и не разделяя экстремальных идей коммунистов. Они хотели править и властвовать с опорой на свою волю и свою культурную принадлежность к этносу и обществу. Фашистская идеология открывала перед ними широкий путь, где ограничением была только расовая принадлежность (в нацизме), а сословные, имущественные и образовательные барьеры отступали на задний план перед меритократическим набором — волей, исполнительностью, организованностью, четкостью, мужеством, способностью подчиняться и командовать.
Столь демонизированная в послевоенное время «новая аристократия» при более отстраненном подходе означает просто выверенную стратегию социализации энергичных представителей низов (то есть сценарий ротации элит) через идеологические методики, отличные от либеральных и марксистских. Успех политических режимов третьего пути в 1920–1930-е годы доказывает, что эта идеологическая стратегия социализации была вполне конкурентоспособной по сравнению с двумя другими идеологическими моделями, решавшими проблему социальных лифтов и вертикальной мобильности иными методами.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ В ИДЕОЛОГИЯХ ТРЕТЬЕГО ПУТИ
Попробуем свести к обобщающей схеме основные моменты социологии третьего пути аналогично тому, как мы сделали это в случае двух других идеологий. Осуществить это несколько сложнее, так как разные течения третьего пути менее догматичны, нежели строгие и довольно ригидные базовые установки марксизма и либерализма (поэтому мы проводим систематизацию после обзора нескольких типов социологии третьего пути, а не до него, как в случае с марксизмом и либерализмом).
1. Общество подлежит интеграции на идеалистической (романтической) основе через апелляцию к высшим ценностям. Общество рассматривается как организм, а не как механизм, что предполагает иерархизацию функций (и, соответственно, иерархию), но открывает возможность циркуляции элит (анагогический тоталитаризм)17.
2. Человек есть существо идеалистическое, движимое волей, символами, стремлением к интеграции через социокультурные стратегии. Природа человека — не биологическая и не классовая, и если в ней есть следы природности, то такая природность тяготеет к самопреодолению и движению к высшей цели. («Человек есть стрела тоски, брошенная на тот берег» — Ф. Ницше18.) Человек находится с обществом в двояком отношении: он конституирует общество своей трансцендентно ориентированной волей и зависит от общества как от матрицы, в которой эта воля воплощается.
3. Общество мыслится как духовный процесс, в котором экономика и материальность, включая развитие производства, носят второстепенный, подсобный характер и целиком и полностью зависят от политической мобилизации («тотальная мобилизация» — Э. Юнгер). Элита и массы должны быть интегрированы в общей солидарной деятельности, направленной на преодоление, творческое созидание государства (империи, «Рейха») и борьбу с врагом (отсюда национал-социалистический лозунг — «не буржуа, не пролетарии, мы все — соратники»). Солидарность достигается тем, что частное предпринимательство (особенно крупное) ограничивается в интересах государства и ставится под стратегический контроль, а с другой стороны, государство берет на себя функции по поддержке низших слоев населения.
4. Классовая борьба отрицается, равно как и буржуазный индивидуализм и либеральный принцип «свободного рынка». Общество и этапы его развития осмысляются в соответствии с органицистскими метафорами — здоровое–больное, однородное–разнородное, интегрированное–дезинтегрированное, самостоятельное–зависимое, оживающее–умирающее («Закат Европы»19 — О. Шпенглер). Средневековое общество, Римская империя, архаические формы организации жизни у древних арийских (индоевропейских) племен берутся за образец и норматив, к которому надо вернуться на новом этапе20.
5. Смысл исторического момента состоит в том, чтобы дать решительный бой буржуазному строю и «еврейскому марксизму» (хотя к Советскому Союзу и к Ленину, например, у итальянских фашистов изначально было позитивное отношение) и организовать человечество на новых героических принципах, возрождающих некое подобие «Священной Римской империи германских наций». При этом собственно религиозная (христианская) составляющая считалась второстепенной, большее значение придавалось обобщенно понятому «народному духу» (вплоть до попыток возродить язычество21).
6. Свою миссию представители фашизма видели в том, чтобы открыть арийским народам (а конкретно — гражданам Германии, Италии, Испании, Португалии и др.) подлинное значение исторического процесса как мировой борьбы «здоровья» против «болезни» и стать авангардом в строительстве нового общества, представляющего собой возврат к архаическим эпохам «золотого века» в новом технологическом и социально-экономическом оформлении.
Контрольные вопросы
1. Перечислите нескольких авторов теорий расового неравенства. В чем основной смысл этих теорий?
2. Какие два социальных типа выделяет в своих теориях В. Зомбарт?
3. В чем смысл теории новой сословности О. Шпанна?
ГЛАВА 6.7
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ВЗАИМООЦЕНКИ ИДЕОЛОГИЙ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ СЕТКА
КРИТИКА ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ: ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА
В начале раздела мы отметили, что невозможно оценивать социологические аспекты конкретной идеологии с абсолютно объективных позиций, так как любая оценка с необходимостью будет аффектирована какой-нибудь другой идеологией. Это препятствие непреодолимо, и тут — как уже не раз в подобных случаях — нам на помощь приходит идея Дюркгейма о «компаративизме» как основе социологического метода. Вместо того чтобы вуалировать свою идеологию в оценке других идеологий, выдавая ее за «объективный анализ», лучше откровенно зафиксировать, как одни идеологии оценивают другие и как эти оценки сказываются на описании и трактовке соответствующих социологических систем. Двигаясь по этому пути, мы не достигнем желаемой объективности, но наметим систему соответствий и пересекающихся идеологических оценок (пусть полемических и пристрастных), которые совокупно очертят нам всю картину целиком, где каждый может расставить свои акценты и знаки в зависимости от идеологического выбора (который либо делает сам человек, либо общество, к которому он принадлежит, делает за него).
ЛИБЕРАЛИЗМ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КОММУНИЗМА («ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО
И ЕГО ВРАГИ»)
Отчетливее всего либеральная оценка альтернативных идеологий и соответствующих им социологических методик и теорий прослеживается в трудах фон Хайека и Поппера. Книга Поппера «Открытое общество и его враги»22 являет собой наглядный пример последовательной и структурированной критики фашизма и коммунизма, причем приведенных к общему знаменателю. Вслед за Хайеком Поппер инкриминирует фашизму и коммунизму в качестве главного недостатка апелляцию к внеиндивидуальному принципу в качестве социального норматива. В этом Поппер видит главное противоречие между «друзьями открытого общества» (либералами) и его «врагами» (нелибералами и «справа» и «слева»). Открытое общество конституируется индивидуумами и только ими и не имеет никакой заведомо заданной формы или цели, оно верстается на основе сиюминутного консенсуса и в любой момент готово перестроиться — в этом и состоит его открытость. Фашисты и коммунисты, со своей стороны, приписывают обществу заведомо заданную форму (как цель, как императив, как норматив), что несет в себе имплицитное насилие над индивидуумами и их постоянно меняющимся консенсусом.
Можно сказать, что Поппер видит общество во времени, в становлении и постоянной динамике, содержание которой определяется из нее самой. Это целиком диахроническая картина, не допускающая никаких нормативных констант ни в прошлом (как у консерваторов и фашистов), ни в будущем (как у коммунистов и социалистов).
Попперовская социология в своей критической форме — в форме критики врагов открытого общества — представляет собой непротиворечивую логическую конструкцию, которая в той или иной степени свойственна всем либеральным моделям в их оценке альтернативных идеологий.
МАРКСИЗМ ПРОТИВ ЛИБЕРАЛИЗМА И ФАШИЗМА
Марксистская социология, со своей стороны, сближает либерализм с фашизмом (национал-социализмом, консерватизмом) на основании того, что, по мнению коммунистов, и те и другие «выражают интересы буржуазного класса». Либералы провозглашают свой интерес открыто или почти открыто, а фашисты (по мнению марксистов) скрывают за критикой капитализма и буржуазии свои мелкобуржуазные фрустрации, на деле лишь дезориентирующие пролетарское сознание и играющие на руку буржуазии.
Показательно, что в «Манифесте коммунистической партии»23 Маркс и Энгельс специально останавливаются на понятии «реакционный социализм», куда включают:
• феодальный социализм;
• мелкобуржуазный социализм;
• немецкий (или «истинный») социализм.
С их точки зрения, эти формы антибуржуазного протеста, расходящиеся по основным параметрам с коммунизмом, при всей своей антибуржуазности играют на руку именно буржуазии и отвлекают рабочий класс от прямой и бескомпромиссной борьбы. В «реакционном социализме» Маркса мы без труда опознаем грядущие формы фашизма, антикапитализма справа или идеологии третьего пути.
Специфика марксистской социологии состоит в том, чтобы отождествить своих идеологических противников (либералов и фашистов), свести их к одному типу, чтобы более последовательно и четко бороться и с теми и с другими как с «единым врагом». Точно так же поступает и либеральная социология Поппера, зачисляя на сей раз марксистов и фашистов в общий разряд «врагов открытого общества». Марксисты же соединяют капиталистов и антикапиталистов справа в общую категорию на основании их несогласия с идеей классовой борьбы и мессианской догматики пролетариата.
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ «ЕВРЕЙСКОГО ЗАГОВОРА»
Совершенно аналогичную картину мы наблюдаем и в фашистской (особенно национал-социалистической) социологии, где идеологические противники — либералы и коммунисты — также сближаются между собой. На сей раз критерием выступает так называемый «еврейский фактор», сводящийся к довольно поверхностному наблюдению, что во главе как буржуазных политических движений и мировых финансов, так и антибуржуазных коммунистических режимов и партий сплошь и рядом (хотя, конечно, далеко не всегда) стоят этнические евреи. И тем не менее, несмотря на поверхностность такой трактовки, с учетом той роли, которую этноконфессиональная специфика играет в национал-социалистической социологии, это обстоятельство становится решающим формальным аргументом для сближения между собой либерализма и коммунизма. Значение этого идеологического аргумента можно оценить, если принять во внимание, что Вторая мировая война была начата Германией на два фронта (против Англии и против СССР) именно на основании этого идеологического заключения о тайном «расовом» единстве двух формально противоположных идеологий — советского коммунизма и западного либерализма.
Множество пассажей такого толка мы находим в книге Гитлера «Майн Кампф»24.
Контрольные вопросы
1. В чем суть компаративистского метода в изучении идеологий?
2. Опишите и охарактеризуйте перекрестные взаимоотношения трех основных идеологий ХХ века — либерализма, коммунизма, фашизма:
а) как либерализм описывает, оценивает и трактует идеологии фашизма и коммунизма;
б) как коммунизм описывает, оценивает и трактует идеологии либерализма и фашизма;
в) как фашизм описывает, оценивает и трактует идеологии либерализма и коммунизма?
3. Какую роль играет экономика в трех идеологиях?
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ТРЕХ ИДЕОЛОГИЙ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
ЭКОНОМИКА КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
Экономика является социальной дисциплиной, и различные экономические теории полностью предопределяются социологическими предпосылками и идеологическими установками их творцов и приверженцев.
Экономика как самостоятельная наука возникает в Новое время. В ее основе лежит стремление спроецировать философские установки бурно развивающегося буржуазного общества на практическое устройство хозяйства.
Создатель буржуазной политэкономической системы Адам Смит (1723–1790) не скрывал, что его задачей является применение идей философа Джона Локка (1632–1704), которым он восхищался, к области хозяйства.
Таким образом, общей экономической теории существовать не может по определению, все экономические модели — и теоретические, и реализованные на практике — отражают определенные идеологические установки их создателей и защитников и полностью предопределены социальным и социологическим контекстом.
Экономика есть явление социальное и социологическое. Она развивается не в каком-то автономном и параллельном пространстве, но является рукотворной системой, которую создают, трансформируют и разрушают общества.
Идеологии появляются почти в то же время, как начинает складываться экономика как область знаний, и с самого начала эти два направления оказываются тесно переплетенными друг с другом. Показательно, что две из трех фундаментальных и обобщающих идеологий — либерализм и марксизм — основаны именно на толковании экономических закономерностей.
ЭКОНОМИКА МАРКСИЗМА: СМЕНА ФОРМАЦИЙ, РАБСТВО–ВАССАЛИТЕТ–РЫНОК–ПЛАН
Экономические взгляды марксизма хорошо известны, и мы не раз уже обращались к их описанию. Кратко можно сказать, что экономическая теория марксизма видит становление экономики следующим образом.
Основным критерием экономического анализа является определение характера отношений собственности на средства производства. В общинном родовом строе существует коллективная собственность на средства производства. В племенном строе происходит дифференциация — старейшины и племенная аристократия накапливают излишки производственной деятельности и постепенно устанавливают приоритетный контроль над средствами производства. Рабовладельческий строй сосредоточивает все основные средства производства в руках господствующего класса рабовладельцев, и сами рабы приравниваются к орудиям труда, находящимся в полной собственности рабовладельца.
Феодальный строй предполагает отношения вассалитета: аристократия выстраивает пирамидальные иерархии, где всякий низший уровень связан с высшим уровнем вассальной зависимости, что позволяет сосредоточивать основные материальные ресурсы у сюзеренов, находящихся на вершине социально-экономической пирамиды.
Капитализм разрушает сословную экономику и реорганизует общество на принципе конкуренции предпринимательских инициатив. Но снова средства производства оказываются в руках меньшинства — на сей раз не сословного, а классового, то есть в руках капиталистов и предпринимателей. По мере развития средств производства имущественное расслоение только нарастает, и постепенно все общество делится на две неравные категории: капиталистическое меньшинство, сосредоточившее в своих руках полный контроль над средствами производства, и пролетарское большинство, лишенное не только собственности на средства производства, но и возможности изменить качественно свой классовый статус. Слом сословной системы и свободное развитие рынка не освобождают трудящихся, но еще более закабаляют их.
Когда классовое общество достигает определенной точки развития, согласно Марксу, должны произойти пролетарские революции с захватом пролетариатом политической власти (диктатура пролетариата) и установлением классового контроля над средствами производства путем революционного насилия (экспроприация экспроприаторов).
После этого должна быть построена социалистическая экономика, основанная на плане, а не на конкуренции. Выборные органы рабочего самоуправления самостоятельно должны принимать решение, какие отрасли экономики развивать, с какой интенсивностью и в каком порядке.
Постепенно развитие плановой экономики и раскрепощение творческого потенциала людей труда должны привести к обществу изобилия, где труд станет не обязанностью, а свободным выбором. Техника обеспечит человечество всем необходимым, начнется период всеобщего благоденствия — материального и культурного. Это и есть коммунизм.
Для социолога чрезвычайно важно, что теоретическая модель такой экономики была воплощена в жизнь на практике — в СССР, коммунистическом Китае, Вьетнаме, на Кубе, в странах Восточной Европы — и оказалась (на определенном периоде) вполне жизнеспособной и конкурентоспособной в сравнении с экономикой капиталистической. Крах СССР и стран социалистического лагеря нанес серьезный удар по этой экономической теории, но в любом случае социалистическая экономика доказала и свою теоретическую стройность, и возможность реализовать ее в жизни. Не исключено, что при серьезном кризисе победившей в 90-е годы ХХ века капиталистической системы когда-нибудь внимание человечества вновь обратится к марксистской модели экономики, хотя и на новом витке и с новых позиций.
ЭКОНОМИКА ЛИБЕРАЛИЗМА: ОТ НЕ-РЫНКА ЧЕРЕЗ НЕСВОБОДНЫЙ РЫНОК К НЕОГРАНИЧЕННОМУ РЫНКУ
Либеральное видение экономического процесса намного проще, нежели классовая диалектика марксизма. Либерализм рассматривает экономическую модель в двух формах — как ограниченный рынок и неограниченный (свободный) рынок. Ограниченный рынок характерен для традиционного общества, Премодерна. В такой ситуации хозяйственная деятельность и частная инициатива, а также частная собственность находятся в подчинении у сверхэкономической политической (сословной, религиозной, кастовой и др.) структуры, которая силовым образом контролирует процесс хозяйственной и торговой деятельности, узурпирует излишки (а подчас отбирает и последнее), игнорирует собственность, пользуется социальными привилегиями, чтобы закрепостить и подчинить себе производительные силы. Чаще всего это делается с помощью наследственной земельной собственности, которую лендлорды используют не только для извлечения ренты, но и для конфискации (легальной или нет) товаров и продуктов, произведенных на принадлежащих им землях.
Рыночные отношения есть и в таких обществах, но они не могут развиваться естественно и органично, так как частная собственность, свобода предпринимательства и торговли искусственно ограничены и сдерживаются всей политической системой Премодерна.
Переход к неограниченному рынку, а затем и к рыночному обществу осуществляется одновременно на экономическом, политическом и социальном уровнях, когда буржуазия начинает осознавать себя как класс с интересами, противоположными аристократическим кругам (дворянству, клиру и др.) Это влечет за собой буржуазные революции и реформы, резкое развитие рыночных отношений, индустриализацию, урбанизацию, рост промышленности, ускоренное техническое развитие. Неограниченный рынок в такой либеральной экономической теории есть и цель, и средство, так как освобождение стихии рынка влечет за собой развитие всей экономики, и наоборот, развитие экономики требует все более и более открытых и глобальных рынков.
В этой экономической теории важным моментом является идея негативной оценки автономной политики (как того, что препятствовало развитию рыночных отношений в традиционном обществе), а также вытекающий отсюда принцип перехода от политики к экономике. Рыночные отношения отождествляются с миром, гармонией, порядком, динамикой и развитием. Поэтому эволюция буржуазного общества проходит по линии от политики к экономике.
Место социума в такой экономической картине является промежуточным: общество (гражданское общество) есть продукт постепенной деполитизации в ходе увеличения удельного веса экономических отношений в ущерб политическим. В пределе мыслится, что и само общество интегрируется в экономику, что описывается концепцией «рыночного общества», то есть такого динамичного и постоянно изменяющегося общества, где любые социальные взаимодействия и отношения представляют собой прямой аналог динамики цен на рынке. Также экономическим эквивалентом постепенно наделяются те ценности, которые на предыдущих этапах считались вначале политическими, затем социальными. Отсюда типичный принцип либерализма: кто или что больше стоит, то и является высшим критерием оценки.
Заметим, что экономика играет главенствующую роль и в марксистской, и в либеральной идеологии, хотя роль эта различна и отчасти прямо противоположна.
ЭКОНОМИКА «ТРЕТЬЕГО ПУТИ»
В отличие от марксизма и либерализма в идеологиях «третьего пути» экономика играет второстепенную, служебную роль и не входит в основное ядро идеологических теорий. Это не случайность, а сознательный выбор. Идеалистический и романтический вектор идеологий «третьего пути» осознанно принижает материальные факторы в пользу духовных, призывает смотреть в трансцендентные сферы, вместо того чтобы обустраивать то, что лежит на расстоянии вытянутой руки.
Социологические теории «третьего пути» никогда не придают экономике роль судьбоносного и решающего фактора. Это видно уже в том, что теоретики этого направления строят свои социологические конструкции на противопоставлении «героев» и «торговцев» (Зомбарт), а капитализм с его приоритетной озабоченностью экономическими вопросами относят к верному признаку декаданса и «заката Европы» (Шпенглер).
Поэтому в разных версиях идеологии «третьего пути» имеются различные экономические модели — корпоративное устройство государства в итальянском фашизме, мобилизационная милитаризированная экономика в Германии Гитлера и т. д.
На практике экономические модели «третьего пути» заимствовали определенные стороны либерализма (рыночная экономика, защита частной собственности, свободная конкуренция и т. д.), но с установлением жесткого государственного (и партийного) контроля над крупными монополиями и оборонной промышленностью, а также с государственным структурированием внешней торговли (для максимального развития национальной промышленности — протекционизм), и определенные стороны социализма — широкая социальная поддержка беднейших слоев населения, вертикальные лифты общественного продвижения через партийные структуры, перераспределение налогов в пользу развития и строительства публичных социальных объектов — дорог, школ, медицинских учреждений, театров, центров досуга, парков, вокзалов, жилищного сектора и т. д. Этот тип идеологии называется «третьим путем» еще и потому, что в реальной экономической практике, равно как и в теории, мы видим сочетание рынка (без его абсолютизации и переноса рыночной логики на крупный бизнес, внешнюю торговлю и публичный сектор) и плана (без тотальной национализации промышленности, огосударствления всей экономики и материального уравнивания).
Чрезвычайно важно, что на практике экономика «третьего пути» в определенном смысле доказала свою состоятельность, эффективность и смогла стать мощной основой для военного покорения Германией почти всей Европы и ведения боевых действий на два фронта — против высокоразвитых и индустриализированных Англии, Франции и США и против тоталитарного социалистического СССР.
Контрольные вопросы
1. Является ли экономика гуманитарной или естественно-научной дисциплиной? Дайте обоснование ответа.
2. Как понимают смену формаций марксисты?
3. В чем особенности экономики «третьего пути»?
РЕЗЮМЕ
Резюмируем содержание данного раздела.
1. Идеологии возникают на высокой стадии становления Модерна и представляют собой схематичные и редуцированные системы идей, спроецированных на плоскость и привязанных к обществу. Поэтому идеологии являются социальными и социологическими явлениями.
2. Следует выделить три основные идеологии, которые описывают три не сводимые друг к другу системы соотношения идей — либерализм, коммунизм (социализм), фашизм («третий путь»). Все три идеологии продемонстрировали свою теоретическую когерентность (связность) и смогли на определенный период воплотиться в действительность и стать основой реально существующего и в той или иной степени эффективного общества.
3. Социологический (особенно структурно-социологический) разбор идеологий помещает их в более объемную пространственную модель, что позволяет выделить основную несущую конструкцию каждой из них.
4. Социологической основой марксизма является приоритет общества, осознанного как дуальное, диалектическое и классовое явление. Поэтому марксизм можно назвать не только идеологией, но социальным учением и даже разновидностью социологии.
5. Социологической основой либерализма является тезис об автономном индивидууме как основном социальном, экономическом и политическом акторе, являющемся первичным по отношению к различным социальным системам.
6. Социологической основной идеологий третьего пути являются государство (фашизм), народ/раса (национал-социализм), религиозная или пострелигиозная форма (консервативная революция, К. Шмитт). В любом случае главный актор коллективен (в отличие от либерализма), но не является классовым (в отличие от коммунизма).
7. В марксизме психоаналитически (мифоаналитически) преобладает сочетание диурнического интеллектуализма (дуализм буржуазия–пролетариат), драматического ноктюрна (прогресс, миф о Прометее, иоахимизм, мессианство, общность жен) и мистического ноктюрна (материализм, коммунизм, пацифизм). В либерализме изначальный относительный и рационалистический диурн (малый логос) постепенно смещается в либертарианский ноктюрн (Дионис). Фашизм и национал-социализм выражают экстремальные формы диурнического мифа в его предлогической и (акцидентально) логической форме.
8. Каждая из идеологий в свою очередь выстраивает свою собственную социологию, основанную на принципах и методах, вытекающих из идеологической системы, — с соответствующим выделением основных опорных точек и мотивов социологической интерпретации.
9. Сложение анализов каждой из идеологий двух других дает нам объемное представление об их соотношениях.
10. Каждая из трех идеологий имеет свою экономическую модель, относительно эффективную, но основанную на своеобразных социологических принципах и оценках, что не позволяет сравнивать их между собой по какому-то одному или нескольким количественным критериям — любое сравнение будет осуществляться заведомо на базе той или иной идеологическойустановки, что аннулирует ее объективность. В экономической сфере, равно как и в идеологической, следует применять компаративистский метод и ограничиваться исключительно им. Только такой подход дает корректные социологические результаты.
1 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004.
2 Осипов Г. История социологии в Западной Европе и США. М., 2001.
3 Осипов Г. История социологии в Западной Европе и США. М., 2001.
4 Осипов Г. История социологии в Западной Европе и США. М., 2001.
5 Бенуа А. де. Хайек: закон джунглей // Элементы. 1994. № 5.
6 Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992.
7 Рэнд А. Атлант расправил плечи: В 3 ч. М., 2008; Idem. We The Living. New York: Macmillan, 1936; Idem. Anthem. Los Angeles: Pamphleteers, Inc., 1946.
8 Rand A. For the New Intellectual: The Philosophy of Ayn Rand. New York: New American Library, 1961; Idem. The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism. New York: New American Library, 1964; Idem. The Voice of Reason: Essays in Objectivist Thought. New York: Meridian, 1990.
9 Рэнд А. Атлант расправил плечи. Указ. соч.
10 Идеи Айн Рэнд получили широкое распространение среди современных российских либералов в 90-е годы ХХ века и с тех пор стали политической философией таких партий, как «Союз Правых Сил», «Правое дело» и т. д.
11 Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 410–411.
12 Дугин А. Конспирология. М., 2005.
13 Зомбарт В. Собрание сочинений: В 3 т. СПб., 2005.
14 Sombart W. Deutscher Sozialismus. Charlottenburg, 1934.
15 Шмитт К. Диктатура от истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. СПб., 2005; Он же. Политическая теология. М., 2000; Он же. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1; Он же. Планетарная напряженность между Востоком и Западом и противостояние Земли и Моря // Элементы. № 8. М., 2000. Он же. Политический романтизм. М., 2006; Он же. Диктатура: от истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. СПб., 2006; Он же. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. М., 2006.
16 Шпанн О. Философия Истории. СПб., 2005.
17 Эвола Ю. Фашизм. Критика с точки зрения правых. М., 2007.
18 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990.
19 Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993.
20 Тезис русского философа Н. Бердяева (1874–1948) о «Новом Средневековье» относится именно к такой идеологической линии. См.: Бердяев Н. Новое Средневековье. М., 1992.
21 Эвола Ю. Языческий империализм. М., 1994.
22 Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992.
23 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. М., 1985. Т. 3. С. 142–143.
24 Гитлер А. Mein Kampf. М., 2002 (издание запрещено к распространению).
РАЗДЕЛ 7
СОЦИОЛОГИЯ ЭТНОСА
ГЛАВА 7.1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТНОСА И СМЕЖНЫЕ ПОНЯТИЯ
ПОНЯТИЕ ЭТНОСА
Понятие этноса является чрезвычайно непростым. В западной науке оно используется довольно редко, и строгие классические научные определения, которые были бы предметом безусловного академического консенсуса, отсутствуют. Существуют такие направления в науке, как этнология и этнография. Первая описывает различные народы мира, их особенности, а вторая, по формуле Леви-Стросса, является подразделом антропологии и изучает структуры примитивных этносов и архаических племен. Из такого словоупотребления видно, что под этносом на Западе принято понимать народы, чья культура относится к разряду «первобытных».
Этимология слова «этнос» восходит к греческому языку, где существовал целый ряд понятий, описывающих приблизительно то же, что и русское слово «народ». Греки различали:
• «το γένος» — «народ» в собственном смысле — то, что «на-родилось», «род» (в русском языке к этому индоевропейскому корню восходят слова «жена», «женщина», то есть «существо порождающее»);
• «η φυλή» — «народ», «племя» в смысле «колена», родовой общины; «филы» были древнейшим подразделением греческих родов; к этому же корню восходит латинское «populus» и германское «Volk»;
• «το δήμος» — «народ» в смысле «населения какой-то административно-государственной единицы, полиса»; «народ в политическом смысле, то есть совокупность граждан, живущих в полисе и наделенных политическими правами», «гражданское общество»;
• «ο λαός» — народ в значении «схода», «толпы, собравшейся для какой-то конкретной цели», а также «воинство», «отряд» (в христианстве крещенные христиане называются «ιεροζ λαός», что можно перевести и как «святой народ», и как «святое воинство»);
• «το έθνος» — «этнос», что обозначало нечто подобное «геносу», «роду», но употреблялось гораздо реже и в заниженном контексте, часто применительно к животным в смысле «стаи», «роя», «стада» или к иноплеменникам, подчеркивая особенности (отличия) их обычаев; слова «το έθνος» («этнос», «народ») и «το έθος» («этос», «мораль», «нравы», «обычай») близки по корню и по смыслу; во множественном числе «τα έθνη», «этносы», это слово применялось в том же значении, что и древнееврейское «goyim», то есть «языки» («неевреи») и подчас «язычники».
В греческом языке нет ничего, что указывало бы на те специфические смыслы, которые вкладываем в это понятие сегодня мы.
ЭТНОС–НАРОД–НАЦИЯ–РАСА
Исходя из неопределенности термина «этнос» и многозначности его толкования в различных научных школах, можно начать не с определения, а с разграничения смежных понятий.
В обычной речи для обозначения того, что имеется в виду под этносом, используют подчас следующие термины, выступающие как синонимы или по меньшей мере как сходные понятия.
ЭТНОС–НАРОД–(НАРОДНОСТЬ)–НАЦИЯ–(НАЦИОНАЛЬНОСТЬ)–РАСА
Два из этих шести понятий мы взяли в скобки, так как они не имеют строгого научного смысла и являются результатами многочисленных напластований, конвергенций и дивергенций значений основных четырех терминов, которые, напротив, обозначают довольно определенные, но различные между собой реальности. Различия смыслов у основных членов цепочки — «этнос–народ–нация–раса» — приведут нас и к более четкому уяснению каждого термина, и к пониманию инструментального значения промежуточных понятий, взятых в скобки.
НАУЧНАЯ ДЕФИНИЦИЯ ЭТНОСА
В научный оборот в России термин «этнос» ввел ученый Сергей Михайлович Широкогоров (1887–1939), оказавшийся после Октябрьской революции в эмиграции. Ему и принадлежит ставшее классическим определение «этноса»:
«Этнос есть группа людей:
• говорящих на одном языке;
• признающих свое единое происхождение;
• обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традицией и отличаемых ею от обычаев других групп»1.
В этом определении подчеркивается языковая общность (вынесенная на первое место не случайно), общность происхождения, наличие обычаев и традиций (то есть культура), а также способность к четкому отличию этих традиций и обычаев от обычаев и традиций других этносов (дифференциация).
Сходное определение «этноса» (точнее, «этничности» — Ethnizitat) дает Макс Вебер: «Этничность есть принадлежность к этнической группе, объединенной культурной однородностью и верой в общее происхождение»2. Определение Широкогорова более полное, так как подчеркивает общность языка.
Самое важное в понятии этноса — это утверждение его базовой данности в основе всей структуры общества. Язык, культура, знание об истоках и обычаях есть у каждого человека. И этот комплекс существенно варьируется от общества к обществу. Основополагающей матрицей такого комплекса (то есть сочетания всех элементов, иногда собирательно называемых «культурой») и является этнос.
НАРОД — ОБЩНОСТЬ СУДЬБЫ
Русский термин «народ» Широкогоров предлагает не только отделить от понятия «этнос», но и вообще не использовать в научных конструкциях в силу его «расплывчатости» и «многозначности» (мы видели, какая непростая иерархия слова для обозначения народа существовала в древнегреческом языке). И тем не менее для более точного понимания термина «этнос» можно попытаться дать ему определение. Народ — это этнос, который привносит в структуру своего общества высшую цель, стремится выйти за привычные рамки этнического бытия, сознательно расширить горизонты культуры и масштаб социальных структур. Можно сказать также, что народ — это этнос в восходящем движении, на подъеме, в динамике расширения, роста, взлета3.
Народ в отличие от этноса, который ориентирован на общность истоков, ориентируется на общность судьбы, то есть не только на прошлое и данное, но и на грядущее, на то, что только еще предстоит совершить. Народ связан с миссией, проектом, задачей. Он организуется по силовым линиям осуществления неосуществленного, открытия неоткрытого, создания несозданного.
В своей основе народ остается этносом и обладает всеми свойствами этноса, но к этому набору (язык, происхождение, обычай, осознание отличия от других) добавляется новый компонент — миссия, цель, предназначение.
Согласно этому научному определению, не всякий этнос есть народ, но всякий народ есть в своем основании этнос.
Советский этнолог Юлиан Бромлей (1921–1990), изучая этнос, пытался подчеркнуть, акцентировать это различие. Он противопоставлял «этнос в узком смысле» (то есть собственно «этнос» как таковой) «этносу в широком смысле», который он называл «этносоциальным организмом»4. Под «этносоциальным организмом» Бромлей понимал приблизительно то же, что мы под «народом». Но, на наш взгляд, такое определение является крайне неудачным, поскольку любой этнос с необходимостью несет в себе социальность, более того, является матрицей социальности, ее изначальной и фундаментальной формой (и в этом смысле любая социальность всегда этнична в своих истоках), и любой этнос является организмом, то есть соответствует организационному коду, формируется по определенной парадигме, которая может меняться или стагнировать, но обязательно наличествует.
Гораздо конструктивней использовать термин «народ», всякий раз подчеркивая и держа в уме его научное определение. При переводе на европейские языки пары «этнос–народ» можно воспользоваться греческой формой «этнос» (по-французски — l'ethnie) и наиболее точно соответствующим термином «народ» — «the people», «das Volk», «le peuple», «el pueblo» и т. д. В крайнем случае, если этого будет недостаточно, можно ввести в научный оборот русское слово «narod» — хотя бы потому, что это понятие лежит в центре внимания русской философии, которая начиная с эпохи славянофилов и вплоть до народников уделяла ему важнейшее место в философских, исторических и социальных теориях и системах.
НАРОД, ГОСУДАРСТВО, РЕЛИГИЯ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Стремление «народа» реализовать миссию, превосходящую нормативы и ритмы этнического существования, на практике воплощается в ограниченный спектр возможностей. «Народ», осознав себя таковым и приняв ответственность за организацию грядущего, за исполнение миссии, чаще всего воплощает это в создании трех структур:
• религии;
• цивилизации;
• государства.
Эти три понятия, как правило, связаны между собой: государство часто основывается на религиозной идее, цивилизация складывается из государств и религий и т. д. Но теоретически можно представить себе народы — и они есть в истории, — которые создают только государство, только религию и только цивилизацию. Государство, держава, империя — это наиболее естественные формы исторического творчества народа, и здесь примеров приводить не нужно. Существовавшие ранее и существующие ныне государства и есть продукт деятельности этносов, ставших народами.
Еврейский народ, хотя исторически у него была государственность и в ХХ веке она была восстановлена, тем не менее в течение двух тысячелетий оставался народом (а не только этносом), мобилизованным религиозной верой, то есть жил религией как целью и судьбой, не имея государства.
Пример Древней Индии показывает, что ведические арии, пришедшие из Северной Евразии в Индостан, создали величайшую цивилизацию мира, в которой государственность была слаба и размыта, а религия синкретична и включала в себя множество не только собственно индоевропейских элементов, но и автохтонные культы.
Древние греки также создали цивилизацию, которая просуществовала без государства много веков, прежде чем Александр Македонский построил империю.
НАЦИЯ КАК ГОСУДАРСТВО-НАЦИЯ
В отличие и от органичного и всегда фактически данного, изначального «этноса», и от «народа», созидающего религии, цивилизации или государства, нация — это понятие исключительно политическое и связанное с Новым временем.
На латыни «natio» означает строго то же самое, что и «народ», то есть «рождение», «род», а также Родину, место, где человек «род-ился». В латинском слове заложена привязка к месту, но это выражено не семантически, а скорее ассоциативно — исходя их типового использования этого термина в латинских текстах. Этим «natio» отличается от «populus», который больше связан с «родом», «происхождением».
В политическом и научном языке термин «нация» приобрел устойчивый смысл в связи с понятием государства. Существует важнейшее французское словосочетание — «Etat-Nation», дословно «государство-нация». Оно подчеркивает, что речь идет не об империи, где единая политическая система могла включать в себя различные этносы, но о таком образовании, где государствообразующий этнос полностью превращается в народ, а народ, в свою очередь, воплощает себя в государстве, превращается в него, становится им. Нация — это народ, который перестает быть этносом и становится государством.
Государство есть административный аппарат, машина (легального) насилия и подавления, формализованный корпус правовых норм и институтов, жестко выстроенная система власти и управления. Нация — это то, из чего состоит этот механизм, — совокупность деталей, атомов, элементов, позволяющих ему функционировать.
Нации появляются только в Новое время, в эпоху Модерна, вместе с современными государствами; более того, это не два раздельных явления: одно вызывает к жизни другое, современное государство влечет за собой появление современной нации. Одно немыслимо без другого.
Нация есть, в логическом смысле, продукт завершенной реализации народом задачи построения государства и обратный жест государства по учреждению нации на месте народа и вместо народа. Народ создает государство (в современном понимании), и на этом его функция исчерпывается. Далее государство начинает действовать по своей автономной логике, зависящей от того, какая идея, парадигма или идеология в нем заложена. Если на первом этапе народ создает государство, то позднее, состоявшись, государство само искусственным образом порождает некий рационально сконструированный и спущенный сверху аналог «народа» — этот аналог и называется «нацией».
В государстве-нации по определению может быть только одна нация. Эта нация определяется прежде всего по формальному признаку — гражданство. В основе нации лежит принцип гражданства: национальная принадлежность и гражданство тождественны.
В государстве-нации есть:
• один (реже несколько) государственный язык;
• обязательная историческая эпистема (повествование об этапах становления нации);
• правящая идеология или ее эквивалент;
• правовое законодательство, соблюдение которого есть непререкаемый долг;
• общий нормативный экономический уклад (экономическая идеология и единая унитарная хозяйственная система).
Мы видим в «нации» определенные элементы и «этноса», и «народа», но они перенесены на иной уровень, представляют собой не органическое целое, но искусственно выстроенный рациональный механизм.
Нация основана на трансформации главного народа и подавлении (подчас уничтожении) малых этносов, попадающих в зону контроля государства. По сути, в нации исчезает все этническое, изначальное, базовое, традиционное (что сохранялось еще и в народе). Народ, который строит государство и становится ядром нации, теряет свою собственную этничность, так как живые связи, процессы эволюции языка, обычаев, традиций приобретают в государстве раз и навсегда фиксированную форму; социальные структуры превращаются в правовые уложения; за нормативный язык берется только один из возможных этнических диалектов, фиксируемый как общеобязательный, а остальные искореняются как «безграмотность»; и даже реализацию цели, миссии, государство рационализирует и берет ответственность за ее достижение на себя.
РАСА И РАСОВЫЕ ТЕОРИИ
Термин «раса» имеет несколько значений и существенно варьируется от языка к языку. Одно из значений — особенно в немецком («die Rasse»), но также и во французском («la race») и английском («the race») — строго совпадает со значением понятия «этнос», но выдвигает дополнительный критерий — биологическое и генетическое родство. В этом смысле под «расой» следует понимать «этнос» (как его определяет Широкогоров или Вебер), но с добавлением биологического генетического родства.
Это значение иногда переносится и на понятие этноса, так как языковая общность и культурное единство подразумевают определенное биологическое родство и физическое сходство у их носителей. По этой причине в определенных случаях под «расой» понимают «этнос» или «этническую группу». В этом смысле употребляются выражения «германская раса» или «славянская раса», то есть «родственные группы германских или славянских этносов». Биологичность понятия «раса» выражается еще и в том, что оно относится в европейских языках к классификации животных видов, где служит формой таксономического идентификатора — того, что в русском языке передается словом «порода». Отсюда «чистопородная овчарка» — собака, принадлежащая к породе овчарок без смешения с другими породами — будет звучать как «овчарка чистой расы», «чистокровная овчарка», «породистая овчарка». Дворняжка представляет собой собаку «смешанной расы».
В этом смысле понятие «раса» употребляли многие авторы XIX века — в частности, Людвиг Гумплович, автор концепции «расовой борьбы»5, где под «расой» понимаются этнические группы.
Второе значение понятия «раса» представляет собой попытку обобщения относительно большого числа этнических групп в несколько макросемей, отличающихся цветом кожи и глаз, формой черепа, типами волосяного покрова и особенностями анатомии (а также общностью единого некогда языка). В Античности и в Средневековье существовала идея о четырех расах(белой, черной, желтой и красной) или трех (потомки Сима, Хама и Иафета).
Интересные примеры типологизации рас в Новое время приводит замечательный русский ученый-этнолог С.М. Широкогоров.
«Следующий значительный шаг вперед делает ученый Карл Линней (1707–1778), который находит уже большее количество рас и вместе с тем различает три особых вида, а именно:
1) «дикий человек» — homo ferus, к которому были отнесены преимущественно баснословные случаи одичания и превращения в животное состояние оставленных без человеческого воспитания детей;
2) «уродливый человек» — homo monstruosus, к которому были отнесены микроцефалы и другие патологические явления;
3) «прямоходящий человек» — homo diurnus, в который входят четыре расы, а именно американская, европейская, азиатская и африканская, — различаемые рядом физических особенностей. Линней указывает также и на признаки этнографические. По его мнению, американцы управляются обычаями, европейцы — законами, азиаты — мнениями, а африканцы — произволом»6.
Широкогоров описывает еще несколько попыток классификации.
«В конце XVIII столетья Блюменбах (1752–1840) построил совершенно самостоятельную классификацию, основывая ее на цвете волос, кожи и форме черепа. Блюменбах насчитывает пять рас, а именно:
1) кавказская раса — белая, с круглой головой, — живет в Северной Америке, Европе и Азии до пустыни Гоби;
2) монгольская раса — имеет квадратной формы головы, черные волосы, желтый цвет лица, косые глаза и живет в Азии, кроме Малайского архипелага;
3) эфиопская раса — черная, со сплющенной головой, населяет Африку;
4) американская раса — с кожей медного цвета и деформированной головой и, наконец,
5) малайская раса — имеет каштановые волосы и умеренно круглую голову. Эту классификацию следует рассматривать как чисто антропологическую, соматическую. <...>
Фр. Миллер ввел в свою классификацию в качестве признака язык. Он полагал, что цвет волос и язык являются самыми устойчивыми признаками, которые могут послужить основой для подразделения людей на расы, и установил, что существуют:
1) пучковолосые — готтентоты, бушмены, папуасы;
2) руноволосые — африканцы, негры, кафры;
3) прямоволосые — австралийцы, американцы, монголы;
4) кудреволосые — средиземцы.
Эти расы в общей сложности дают еще 12 групп»7.
Наивность таких градаций бросается в глаза.
В современной науке устоялось представление о наличии трех рас: 1) европеоидной, 2) монголоидной и 3) негроидной, хотя споры об оправданности и релевантности такой классификации не утихают.
РАСИЗМ БИОЛОГИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ
Параллельно первичным систематизациям этнического многообразия возникла идея выстроить между расами определенную иерархию врожденных свойств (что заметно уже у Линнея). Артур де Гобино, Ваше де Лапуж8 (1854–1936) и Густав Лебон разрабатывают теории о «неравенстве рас», что косвенно оправдывало для европейцев их колониальные завоевания и вело прямой дорогой к нацизму. Утверждение о неравенстве рас и вытекающие из него идеи сохранения расовой чистоты и оправдания преследований людей по расовому признаку получили название «расизм».
Расизм был официальной идеологией белого населения американского континента, завозившего рабов из Африки, истреблявшего (на Севере) или порабощавшего (на Юге) местное индейское население и устанавливавшего «расовое превосходства» над «дикарями». США в своих основах было расистским государством, что сформировало специфику американского отношения к антропологии. Позднее идея расового превосходства белых над «цветными» приобрела форму культурного расизма, выражающегося в убежденности американцев, что их культура и цивилизация являются наилучшими и универсальными, их ценности — свобода, демократия, рынок — оптимальными, а те, кто это оспаривает, находятся на «низшей ступени развития».
Одним из главных теоретиков расизма в ХХ веке был Г.Ф. Гюнтер (1891–1968), который выделял следующую таксономию рас в Европе)9:
1) нордическая раса;
2) динарская раса;
3) альпийская раса;
4) средиземноморская раса;
5) западная раса;
6) восточно-балтийская раса (иногда он добавлял к ним фалскую расу).
Творцами цивилизации Гюнтер считал представителей нордической расы — высоких голубоглазых долихоцефалов. Африканцев и азиатов он считал неполноценными. Больше всего выпало на долю евреев, которых Гюнтер относил к «представителям Азии в Европе» и, соответственно, считал главным «расовым противником». Расизм стал составной частью национал-социалистической идеологии, и реализация расовых принципов повлекла за собой гибель миллионов невинных людей.
Необоснованность подобных обобщений была в чисто научном (а не в гуманитарно-нравственном) ключе доказана современными антропологами и в первую очередь представителями структурной антропологии (особенно Леви-Строссом). Показательно, что именно его обоснование несостоятельности расовой теории вошло в учебник для французских школ как классическое доказательство равенства всех человеческих рас и этнических сообществ.
Так как расизм и расистские теории и особенно бесчеловечные практики, на них основанные, оставили в истории ХХ века страшный след, сам термин «раса» и любые формы «расовых исследований» в наше время стали редкими и заведомо вызывают подозрения.
В чисто научном и нейтральном смысле это понятие означает попытку классификации этнических групп по физиологическим, фенотипическим — иногда языковым — признакам.
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОЙ ЭТНОЛОГИИ
В советское время вопрос об определениях этноса, нации, народа и т. д. был осложнен необходимостью соизмерять эти понятия с марксистской теорией. В этом частном случае проявились все те трудности, которые изначально заключались в стремлении придать большевистской революции характер закономерного осуществления предвидений марксистской теории — вопреки тем факторам, которые этому вопиющим образом противоречили. Маркс считал, что социалистические революции произойдут в индустриальных странах, представляющих собой полноценные государства-нации с преобладанием капиталистических отношений, развитыми классами — промышленной буржуазией, городским пролетариатом и т. д. То есть социалистическое общество, по Марксу, приходит на смену нации и замещает ее собой, реорганизуя экономику и культуру на новой классовой (пролетарской) основе. В России ни малейших предпосылок для такого поворота дел не было: не было ни развитой буржуазии, ни достаточной индустриализации, ни преобладающего городского пролетариата, и кроме того, в России не было нации. Россия была империей, то есть внутри нее жили многочисленные этносы и один державообразующий русский народ. Государство-нация предполагало бы, что ни этносов, ни народа (в полном смысле слова) быть не должно.
После революции, получив в руки контроль над империей, большевики были вынуждены срочно подстраивать концептуальный аппарат под сложившуюся ситуацию. Из этого возникла путаница понятий, и под «нацией» стали понимать частично «этнос», частично «народ»; под «народом» — подобие «гражданского общества». И кроме того, ввели дополнительные термины — «народность» и «национальность».
«Народность» означала маленький этнос, сохранивший пережитки традиционного (докапиталистического) общества, а «национальность» — принадлежность к этносу, у которого наличествуют признаки социальной самоорганизации по критериям Нового времени. Эти совершенно условные категории, не имеющие никаких соответствий в европейских языках и научных концепциях, характеризовались с помощью многочисленных подразумеваний и неточных ссылок, что делает их совершенно неоперативными в наше время и лишает какой бы то ни было инструментальной ценности.
Французское «la nationalite» или английское «the nationality» означает строго «гражданство», принадлежность к вполне определенному государству-нации. Поэтому «национальность» понимается повсюду в мире как синоним «нации» (в смысле государства-нации). Термин же «народность» просто непереводим, да и в русском языке и современной научной сфере бессмыслен. По этой причине мы поставили эти определения в цепи «этнос–народ–нация–раса» в скобках. На данном этапе их можно просто вычеркнуть и больше не упоминать.
Этнос–народ–(народность)–нация–(национальность)–раса
ЭТНОС И РАСА
Теперь стоит сделать еще одну поправку. Термин «раса» в нашей цепочке понятий следует перенести в ячейку «этноса», так как с социологической точки зрения группировка этносов на расы не дает нам никаких содержательных дополнений, если не считать социологию расовых теорий, о чем по понятным причинам и речи быть не может. Кроме того, многообразие расовых систематизаций и неопределенность таксономии не позволяют считать расу надежной матрицей для соотношения между собой этносов и анализа этих соотношений. Какие-то позитивные выводы на основании сближения между этническими группами и их группировки в более общие категории сделать, конечно, можно — социолог Жорж Дюмезиль, исследовавший преимущественно семью индоевропейских этносов, пришел к чрезвычайно важным социологическим выводам10. Но любые обобщения здесь следует делать с очень большой осторожностью, в том числе учитывая печальный опыт нацизма.
И наконец, тесная связь расы с биологией не несет в себе релевантной социологической информации, которой не содержалось бы в понятии этноса.
Таким образом, мы можем убрать расу как самостоятельное понятие, либо отождествив ее с одним из обобщений в систематизированной таксономии этносов, либо отложив ее вовсе как нечто нерелевантное для социологического исследования.
В таком случае мы получили следующую картину изначальной цепочки основных понятий:
Этнос–народ–нация
(раса)
В дальнейшем мы будем рассматривать только эту триаду.
Контрольные вопросы
1. Чем этнос отличается от народа и нации?
2. Какие исторические формы может создать народ?
3. В чем различие этноса и расы?
ГЛАВА 7.2
ЭТНОС И МИФОС
ЭТНОС И МИФОС
Соотнесем триаду «этнос–народ–нация» с той дуальной (двухэтажной) топикой, в рамках которой мы проводим наше исследование.
В этом случае этносу будет соответствовать следующая дробь:
Этнос представляет собой органичное единство, которое скреплено общностью мифа. Если мы приглядимся внимательнее к определению Широкогорова, мы увидим, что основные характеристики этноса — язык, общность происхождения, обряд, традиции, различения — совокупно определяют миф, являются его составными частями. Этнос есть миф. Миф без этноса не существует, но и этнос без мифа не существует, они строго тождественны. Не существует двух этносов с одинаковыми мифами — у каждого этноса обязательно есть свой миф.
Этот этнический миф может содержать элементы, общие с мифами других этносов, но комбинация всегда оригинальна и относится только к данному этносу и ни к какому другому.
При этом на уровне этноса и этнической социальной структуры миф находится одновременно в «знаменателе» (там он находится всегда и у всех социальных моделей) и в «числителе», что создает полную гомологию между структурой бессознательного и структурой сознания. Такая гомология есть основная черта этноса как явления: в уме и в сердце этнической общины происходят строго тождественные процессы.
Эта гомология порождает явление, которое Леви-Брюль назвал «пралогикой», то есть особой формой мышления, где рациональность не автономизирована от работы бессознательного, а все обобщения, таксономии и рационализации осуществляются в терминах живых органических импульсов и символов, представляющих собой нерасчленимые единицы со множеством значений (полисемия). Пралогика «дикарей» сродни миру чувств, искусству и поэзии: в ней каждый элемент несет в себе множество смыслов и в любой момент может изменить траекторию развертывания и поменять значение.
Дробь мифос/мифос выражает стабильность, свойственную этносу в его нормативном состоянии. Миф рассказывается снова и снова и остается все время тем же самым, хотя его внутренние элементы могут меняться местами или носители тех или иных символических функций — выступать друг вместо друга.
МИФ И МИФЕМА В СТРУКТУРЕ ЭТНОСА
Здесь важно сказать несколько слов о том, как понимал миф Леви-Стросс, который предложил рассматривать миф не как рассказ или ноты, описывающие последовательное развитие мелодии, но как стихотворение или ноты аккомпанемента, где отчетливо видны структура гармонии, повторы, смены тональностей, на фоне которых развертывается рассказ-мелодия. В поэзии это отмечается рифмой (то есть ритмом), что подразумевает перевод строки. Иными словами, миф можно читать диахронически — как синтагму, повествование, а можно синхронически — как картину, парадигму, отмечая, что вариации мелодии строго соответствуют тому или иному базовому аккорду. Акростих — пример этого вертикального чтения.
К открытию такой структуры мифа Леви-Стросс пришел под прямым влиянием Романа Якобсона и Николая Трубецкого — крупнейших представителей структурной лингвистики, создателей фонологии и евразийства (Трубецкой и был основателем «евразийского движения»).
Леви-Стросс приводит ставший классическим пример мифа об Эдипе11, где каждому эпизоду из истории несчастного царя соответствует определенный мифологический квант, включающий в себя целую систему значений, ассоциаций, символических смыслов, и хотя рассказ движется вперед и вперед, обрастая все новыми поворотами сюжета, мифологические кванты, будучи ограниченными (как ограничено количество аккордов и нот — но не их сочетаний!), периодически повторяются, что позволяет сложить миф об Эдипе как ленту и прочитать его сверху вниз. Эти мифологические кванты Леви-Стросс назвал мифемами — по аналогии с семами, которые обозначают мельчайшие частицы смысла в структурной лингвистике.
Это пояснение чрезвычайно важно для понимания этноса. Будучи мифом, этнос всегда имеет в своей структуре некоторый набор основополагающих элементов — мифем. Этим определяется то, что в разных этносах и культурах, даже чрезвычайно удаленных друг от друга и не имеющих никаких связей, мы встречаем очень близкие сюжеты, символы, понятия. Это сходство есть следствие ограниченности числа базовых мифем. В то же время каждый этнос из этих базовых мифем, общих для всех, выстраивает свои особые мифы, комбинируя их в особом порядке и в особой последовательности. Это и создает различия этносов, и лежит в основе их идентичности, каждый из которых самобытен, особен и отличен от других.
Тождество мифем и различие многообразных мифов (как комбинаций мифем) объясняют и множественность этносов, и наличие между ними определенного сходства.
С учетом этой поправки Леви-Стросса и введением понятия «мифема» становится понятной модель структуры этнических процессов, протекающих даже тогда, когда этнос находится в состоянии максимальной стабильности.
Можно представить себе ситуацию таким образом. В этносе миф в «знаменателе» представляет собой не миф в полном смысле этого слова, а набор мифем, тяготеющих к определенной структурализации. Как происходит структуризация архетипов, мы видели ранее на примере режимов бессознательного. Жильбер Дюран в поздних работах12 вводит в свою теорию понятие хреода — гипотетического процесса в биологии, открытого биологом Конрадом Уэддингтоном (1905–1975), предопределяющего развитие клетки по предопределенному пути, с тем чтобы стать в конечном счете частичкой строго определенного органа. Так же и мифемы, находящиеся в «знаменателе» этноса, представляют собой не нейтральный набор возможностей, но группы, тяготеющие к проявлению в строго определенном контексте и в строго определенных комбинациях — по логике «хреода».
То, что находится в «числителе» этноса, — это самый настоящий миф, диахронический рассказ, представленный как последовательное развертывание событий. Между мифемами (хреодами мифа) в «знаменателе» и мифом в «числителе» развертывается динамическое взаимодействие, что порождает смысловое напряжение. Это напряжение и составляет жизнь этноса.
Если при поверхностном наблюдении стабильное и равновесное бытие этноса может показаться чистой статикой, более пристальный анализ вскрывает диалог между свободно взаимодействующими «знаменателем» и «числителем», образующий истинную динамику полноценного, развитого, насыщенного и всякий раз «нового» (в инициатическом смысле), но вместе с тем вечного бытия.
ДУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЭТНОСА: ФРАТРИИ
Крупнейший российский лингвист и филолог Вяч.Вс. Иванов, рассказывая на одной из лекций13 о своей экспедиции к кетам, сделал акцент на том «самом главном», что опрашиваемый представитель этого древнейшего этноса Евразии сообщил членам экспедиции: «Никогда не бери в жены женщину своего рода». Этот закон есть фундаментальная ось этнической организации.
Этой теме свои исследования посвятили Леви-Стросс14 и — косвенно — Йохан Хейзинга15.
Запрет на инцест является важнейшим социальным правилом, обнаруживаемым у всех типов обществ, даже самых «диких». Этот запрет предполагает разделение общества на две части, фратрии. Эти две части мыслятся как не связанные друг с другом родовыми узами. Огрубленно можно сказать, что в самой чистой форме организация племени как базовой формы этноса (как ячейки этноса) предполагает обязательно два рода. Эти роды, или фратрии, мыслятся как экзогенные друг другу, то есть не связанные друг с другом узами прямого родства.
Племя всегда дуально, и браки заключаются только между двумя противоположными фратриями. На этом дуализме фратрий основана вся социальная морфология племени. Род — это тезис, а другой род, противоположная фратрия, — антитезис. Противоречия акцентируются через множество ритуалов, обрядов, символов, тотемических ассоциаций. Фратрии постоянно и многобразно подчеркивают свое различие, акцентируют антитетичность и дуализм. Вяч.Вс. Иванов считает, что близнечные мифы, распространенные у всех народов мира, имеют прямую связь с этой базовой социальной дуальностью племени.
Но вражда, постоянные нападки и соревнования двух фратрий между собой проходят в пространстве игры. Хейзинга в книге «Homo Ludens»16 показывает, что игра есть основа человеческой культуры, а рождается она из изначальной социальной структуры племени, разделенного на две противоположные фратрии. Фратрии конкурируют во всем, но по отношению к тому, что лежит за пределом пространства племени (к врагам, стихийным бедствиям, хищным зверям), они солидарны и едины. В способности включить разногласия, конкуренцию, различия и даже вражду в контекст единства Хейзинга и видит главное качество культуры.
Но не только внешняя угроза снимает напряженность между двумя фратриями. Институт брака и связанного с ним свойства (то есть отношений между родственниками сторон, вступивших в брак) является еще одним фундаментальным моментом социальной организации племени. С этим и связано высказывание кета о том, чтобы «брать жену из чужого рода». Это правило есть основа этноса, главный закон его социальной организации.
Этнос есть не что иное, как племя, только подчас расширенное до нескольких племен, сохраняющее при этом отношения, преобладающие внутри племени. Как бы ни увеличивался объем племени, через демографический рост или слияние с другими племенами, в рамках этноса общая структура остается той же. Отсюда часто встречающаяся у этносов дуальная организация. Так, у мордвин существует деление на группы эрзя и мокша. Марийцы делятся на горных, луговых и т. д.
Границы этноса не в его численности, а в его качественном устройстве. Пока сохраняется формула
,
а основное устройство социума воспроизводит дуальную структуру родства/свойства племени (или, как иногда говорят, «орды» — этот термин, в частности, употреблял Фрейд), мы имеем дело с этносом как с органической целостностью.
ЭТНОС, ОБЩИННОСТЬ, СЕМЬЯ
Если применить к этносу социологическую классификацию Ф. Тённиса — община(Gemeinschaft)–общество (Geselschaft), — можно вполне однозначно отождествить этнос с общиной. По Тённису, для общины характерны доверительные, семейные отношения, восприятие коллектива как единого цельного организма. Эта «общинность» характерна именно для этноса, и самое важное здесь, что базовая модель семьи как рода в этносе дополняется интегрирующим институтом свойства. «Община» вбирает в себя семью как род и других (не семью, не род), которые становятся «своими», оставаясь посторонними. Это чрезвычайно важная черта этноса. Этнос оперирует с тончайшей диалектикой отношений родного и другого (но своего!), что составляет значительную часть мифов и лежит в основе фундаментальных этносоциальных процессов. Эта диалектика семьи-общины не есть просто распространение принципа рода на другой род. Мы видим, что запрет на инцест утверждает совсем обратное. Чужие остаются чужими, не становятся частью своей семьи, своего рода, и это чуждость другого служит базой экзогенных браков. Этнос умудряется выстроить баланс такой интеграции, которая, отталкиваясь от рода, созидает «общину» не как продолжение рода или не только как продолжение рода, но и как нечто третье, что включает в себя тезис (род) и антитезис (другой род).
Связи остаются органичными — и когда они основаны на кровном родстве, и когда они основаны на отчужденном, гетерогенном свойстве.
ИНИЦИАЦИЯ В ЭТНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ
Из этой тончайшей диалектики этноса рождается социум. Динамика обмена женщинами племени между двумя фратриями и сложные комплексы патрилинейного и матрилинейного родства, а также матрилокальных и патрилокальных размещений молодоженов и их потомства создают социальную ткань этноса, в пространстве которой складываются социальные институты. Это пространство находится между родами, выражает синтетический характер их постоянного взаимодействия.
Важнейшим инструментом здесь является инициация (о которой в другом контексте говорилось ранее). Инициация есть введение подростка в структуру, которая параллельна его роду и которая ставит его в какой-то степени «над» родом. Но в то же время именно инициация и делает посвящаемого полноценным членом рода, обладающим всеми его социальными полномочиями. Это постинициатическое участие в жизни рода качественно отличается от естественного и доинициатического. Посвященный юноша символически возвращается в род как носитель дополнительного статуса, который он получает не в роде, а в инициатическом мужском союзе, в братстве. И таким образом он всякий раз заново устанавливает связь рода с миром «сил», «божеств», «духов» — с живым присутствием мифа.
Инициация открывает посвящаемому то, как устроены род и племя, то есть наделяет его социологическими знаниями и, соответственно, могуществом, так как он отныне видит устройство окружающей его жизни не просто как данность, а как выражение порядка, к истоку которого он причащается в ходе инициации.
Таким образом, «община» из рода становится этносом через процедуру инициации, и через инициацию же конституируются основные социальные институты. Формула кета — «всегда бери жену из чужого рода» — есть формула инициатическая, с помощью которой этнос становится этносом и одновременно социумом, поскольку этнос и есть изначальная, базовая, наиболее фундаментальная форма социума.
ГРАНИЦЫ ЭТНОСА И МАСШТАБИРОВАНИЕ БРАКОВ
Установление «правильных» границ этноса, то есть определение того, что включать в него, а что исключать и каковы пропорции включения, является темой бесчисленного числа мифологических сюжетов. Так как конструирование этноса предполагает установление тончайшего баланса между родством и свойством (включение в общину родного и не родного, но своего), эта тема описывается через известные сюжеты о слишком близком браке (инцест) и слишком далеком браке.
Мифологические сюжеты, прямо или аллегорически описывающие инцест (как правило, брат–сестра), строятся таким образом, чтобы вывести из этого факта катастрофические последствия. В этом смысл мифемы: инцест равен катастрофе. Но миф может развертываться и иначе: катастрофа может вызывать появление брата и сестры, расставание брата и сестры может служить как антифраза инцеста или, наоборот, предупреждение инцеста и т. д. Примерами изобилуют и систематизированные мифы индейцев у Леви-Стросса, и русские сказки, собранные Афанасьевым17 или систематизированно изученные В.Я. Проппом18.
Другая тема — слишком далекие браки. Это еще более захватывающая часть мифологии, где описываются многочисленные версии вступления в брак с существом нечеловеческого вида — животным (Маша и медведь, Царевна-лягушка), злым духом (Кощей Бессмертный, Дракон, Волк, Огненный Змей), сказочным существом (Снегурочка, Фея, Морозко).
Брачные мифы растягиваются между слишком близким и слишком далеким браком, будто пристреливаются, чтобы попасть точно в цель, и этой целью является «другой как свой», то есть член противоположной фратрии. Это настоящее искусство, так как определение дистанции и есть залог создания и воссоздания этноса. В основе этноса лежит точно осуществленный брак — слишком близкое или слишком далекое попадание чревато фундаментальной катастрофой. Поэтому брачные темы тесно переплетены с инициацией. Брак венчает собой инициацию, которая есть углубление в миф с целью осуществить это важнейшее этносотворное действие самым оптимальным образом.
МЕДВЕДИ КАК ЛЮДИ
Определение границ этноса, как мы видели, непростое дело. Можно и ошибиться, выйдя за его пределы. К этой сложности добавляется и то, что этносы оперируют с «пралогикой», то есть с таксономией мифологического характера, что на практике чаще всего выражается в использовании тотемов и тотемных животных для систематизации не только природных, но и культурных, социальных явлений. Животный мир, а также мир растений и стихий в мифологическом сознании соучаствует в структурировании культуры и организации социума. Поэтому он часто помещается не за границы этноса, а внутри них. На практике это выражается в приручении диких животных, освоении земледелия и культивации садовых и огородных культур, когда мир природы за пределами этноса включается во внутренний круг этноса. Это тоже своеобразная пристрелка к тому, что является правильной дистанцией.
Тотемизм мы можем наглядно увидеть в современных русских фамилиях. Откуда берутся Волковы, Щегловы, Карасевы, Щукины, Соловьевы и, наконец, Медведевы? Это следствия пристрелки русского этноса при определении своих правильных границ в рамках тотемного сознания.
Сегодня мало кто помнит, что русский народ в древности относил медведя к человеческому роду. Объяснялось это так: медведь ходит на двух ногах, у него нет хвоста, и он пьет водку. До XIX века мужики и бабы в русской глубинке были в этом полностью уверены, и поэтому на медведя ходили с рогатиной так же, как на кулачные бои в соседнее село. У медведей было типичное отчество — Иванович, отсюда полное имя — Михаил Иванович.
Медведь был связан с браком и плодородием. В ходе «медвежьей свадьбы» в лес отводили непорочную девицу и оставляли ее там, чтобы она стала женой медведя19. В свадебных обрядах «медведем» и «медведицей» называли жениха с невестой, а дружка именовался «медведником». В предсвадебном причитании невеста иногда называла свекра со свекровью «медведями». Сваты часто звались «косматыми». В русском фольклоре популярен образ медведя-свата.
Это включение медведя в границы этноса стало настолько расхожим штампом, что выражение «русский медведь» вошло в бытовую речь как фразеологический оборот. Эта русификация медведя отражает не просто ироничную метафору, но и более глубокие этносоциальные закономерности.
Включение медведя (а в данном случае еще и тигра) в этническую систему других народов — на сей раз тунгусов — описывает Широкогоров, участвовавший в ряде этнографических экспедиций в Манчжурии. Приведем его рассказ полностью.
«В Северной Маньчжурии существуют два вида медведя, большой медведь темно-бурый и маленький бурый, — там же существует тигр и, наконец, люди. В зависимости от времени года как медведь и тигр, так и человек меняют свои места, к чему их вынуждает передвижение дичи, которой они питаются. Большой медведь идет впереди и занимает лучшие места, за ним идет, оспаривая иногда у него территорию, тигр, на худших местах в отношении дичи, но достаточно хороших в других отношениях поселяется малый бурый медведь и, наконец, охотники-тунгусы. Такое передвижение с одного места на другое и в том же постоянном порядке происходит ежегодно. Но иногда происходят столкновения между молодыми особями тигра и медведя из-за территории (каждый из них занимает для себя небольшую речку). Тогда дело решается дуэлью, в результате которой слабейший уступает место сильнейшему. Эти дуэли иногда ведутся в течение трех лет, причем для соревнования медведь надгрызывает одно дерево, а тигр его нацарапывает, и если ему удается нацарапать выше места, надгрызенного медведем, то либо медведь уходит, либо вопрос разрешается на будущий год тем же порядком. Если же ни тот ни другой не уступают, то происходит ожесточенный бой. Местные охотники-тунгусы, изучив хорошо этот порядок деления территории между молодыми индивидуумами, охотно принимают участие в боях, зная их дату (это бывает ежегодно в конце апреля) и место (обгрызенное и нацарапанное дерево в предыдущем году). Охотник обычно убивает обоих бойцов. Известны случаи, когда человеку приходится уступить занятое место, если оно им отнято у тигра или медведя, вследствие яростных и систематических нападений этих животных на домашних животных и даже на жилище человека. Вполне понятно поэтому, что многие тунгусы считают некоторые речки для себя недоступными (для охоты), так как они заняты тиграми или большими медведями. <...>
Таким образом, в силу того что медведь не может не кочевать, так как он приспособлен к существованию именно таким образом, но приспособлены точно так же и другой вид медведя, и тигр, и человек, между ними всеми создается соревнование, и наконец они входят в некоторые отношения, становятся в зависимость друг от друга и создают своеобразную организацию — „таежное общество”, управляющееся своими нормами, обычаями и т. д., позволяющее человеку жить рядом с медведем, когда медведь не трогает человека, если не видит с его стороны признаков нападения, и когда люди с медведем одновременно собирают ягоды, не причиняя друг другу вреда»20.
«Таежное общество» тунгусов, полноценными членами которого являются два вида медведей и тигр, которые делят между собой места охоты, речки и чащи, представляет собой модель этноса, интегрирующего в себя жизненно важные элементы окружающего мира.
В мифологии медведь играет очень важную роль. У древних греков, автохтонов Сибири и славян медведь ассоциируется с женским началом. Греческая богиня-охотница Артемида (богиня Луны) считалась покровительницей медведей. Медведь — существо хтоническое, связанное с Землей, Луной и женским началом. Отсюда его роль в брачных церемониях и обрядах. Можно сказать, что медведь — феминоид.
ЭТНОС И РЕЖИМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
Выясненная нами структура социокультурной топики этноса — мифос/мифос — подводит нас к заключению о том, что этнос включает в себя два режима и три группы архетипов. Причем мы можем рассчитывать встретить их не только в сфере бессознательного («знаменателя»), но и в сфере «числителя». Так оно и есть, поскольку каждый этнос имеет мифологическую систему, в которой проявляется то, как он конституирует сам себя через набор мифем.
Здесь проявляются те же закономерности, которые мы видели при разборе режимов. Режим диурна тяготеет к тому, чтобы подняться в «числитель», а режимы ноктюрна готовы оставаться в «знаменателе». Таким образом, параллельно уточненной топике миф/мифемы мы можем предложить этносоциальную топику диурн/ноктюрн. Однако тут мы встречаемся с определенной проблемой: данное теоретическое допущение, основанное на аксиоматическом утверждении, что социальные структуры, социум развертываются во всех обществах вокруг вертикальной оси диурна, не подтверждается наблюдениями. Еще точнее, если социум как явление есть всегда и во всех обстоятельствах конструкт диурнического мифа (неважно, перешел диурн в режим логоса или остался на уровне мифа), то этносы могут поставить в числитель различные мифы, то есть не обязательно диурнические. В этом мы фиксируем главное различие между социумом и этносом. Социум всегда и без каких-либо исключений развертывается мифом диурна параллельно подавлению режима ноктюрна или по меньшей мере через его экзорцизм. Но этносы могут структурироваться и иначе.
Это означает, что мы смогли увидеть различие между этносом и социумом, которое особенно наглядно в тех случаях, когда в «числителе» этноса находится миф ноктюрна.
На первый взгляд, мы пришли к противоречию: «числитель» и есть область социума, и этнос есть социум. Это верно, но миф, находящийся в «числителе» у этноса, может представлять собой выражение режима ноктюрна, но при этом социальность — как и в любом случае — будет носить на себе отпечатки режима диурна. То есть этническое, совпадая с социальным в целом, может расходиться с ним в нюансах мифологических режимов.
Это обстоятельство чрезвычайно важно, так как оно показывает нам то значение, которое этнос играет в социологии. Если бы не это небольшое, на первый взгляд, отличие, этнос как явление был бы излишним и социолог мог бы вполне удовлетвориться исследованием обществ, не вводя дополнительного и громоздкого понятия «этнос». Этнос — в отличие от социума — представляет собой возможность общества существовать в режиме неструктурированного сновидения, то есть при нарушении структур социума этнос способен сохраниться.
Причину этого следует искать в тех институтах, которые являются в этносе социообразующими, то есть в инициации. И первая гипотеза, которая напрашивается сама собой, — это экзогенный характер социума в тех этносах, где миф в «числителе» сконфигурирован по модели ноктюрна. То есть в этом случае мы имеем дело с обществами, где социальность была привнесена из-за пределов этнического круга (включая медведей, тигров и т. д.). В чем-то аналогичный сценарий мы ранее встречали в форме археомодерна (псевдоморфоза), но там речь шла об обществах модерна, и там фигурировал логос. Теперь мы столкнулись с аналогичной ситуацией в самых глубинах первобытного общества.
Эта гипотеза зазора между этносом и социумом предполагает следующее: структура общества, в котором миф в «числителе» не является диурническим, несет на себе отпечаток воздействия иного этноса, который либо смешался с данным на каком-то этапе, либо покорил его, а потом в нем растворился, либо передал социальные структуры каким-то еще образом.
Так мы постепенно подошли к теории культурных кругов, или диффузионизму.
КУЛЬТУРНЫЕ КРУГИ
Ярчайшим представителем теории культурных кругов (также называемой диффузионизмом) был немецкий этнолог и социолог Лео Фробениус (1873–1938). Другими учеными, придерживающимися этого направления, были основатель политической географии Фридрих Ратцель и Фриц Гребнер (1877–1934). Археолог Гребнер выдвинул жесткий тезис: в истории человечества каждый предмет — материальный или духовный — был изобретен только один раз. Далее он передавался по сложным историческим и географическим траекториям.
У Фробениуса можно встретить многие структуралистские черты. Так, в частности, он считал, что каждая культура имеет свой «код», или «душу», которую он называл «пайдеума»21 (по-гречески дословно — «то, чему обучают ребенка», «навыки», «знание», «умение»). И сама культура первична по отношению к ее носителям, то есть к людям. Согласно Фробениусу, не люди делают культуру, а культура делает людей (вполне структурно-социологический тезис). Весь культурный и исторический процесс есть трансляция «пайдеумы». Смысл этой концепции заключается в том, что культуру можно перенести с одной почвы, где она возникла и развивалась, на другую, чуждую, и там она будет развиваться по совершенно иной логике.
Теория диффузионизма исходит из того, что в основе каждого культурного типа лежит вполне определенный центр, откуда этот тип далее распространяется, подобно тому как камень, брошенный в воду, производит круги, расходящиеся строго вокруг того места, куда он упал. Это можно проследить на остатках материальной культуры древности или на судьбе распространения религий, обрядов, идей и т. д.
Этот принцип подсказывает нам, как решить проблему наличия социума в тех этносах, где в «числителе» доминирует ноктюрнический миф. В рамках диффузионизма это объясняется просто — «пайдеума» диурнической культуры в силу каких-то обстоятельств была перенесена на почву этноса с доминацией ноктюрнического мифа, стала там основой социума и предопределила структуру инициации.
Фробениус делил все культуры на два типа — хтонический и теллурический22. Хтонический (от греческого «хтонос», «земля») тип — это тип, в котором доминируют образы пещер, ям, нор, вогнутости. Он имеет матриархальные черты, носители этого типа склонны к равновесию, балансу, гармонии с природой, миролюбию.
В теллурическом типе (тоже от слова «земля», только латинского — «tellus») преобладают холмы, курганы, выпуклости. Он имеет патриархальные черты и связан с воинственностью, агрессивностью, экспансией, жестокостью, волей к власти.
Мы совершенно однозначно опознаем в хтоническом типе режим ноктюрна, а в теллурическом — диурна. Если принять версию Фробениуса о дуальном типе культур и о культурных кругах и трансляции «пайдеумы», то мы получаем следующую картину.
Существует два огромных семейства этносов, каждое из которых включает в себя множество групп независимо от их расовой, языковой, религиозной или политической принадлежности, а также от уровня развития культуры и географического месторасположения. Одно семейство — хтоническое, то есть руководствуется формулой ноктюрн/миф (в бессознательном могут находиться элементы диурна, но они не доминируют и не могут вырваться в «числитель»). Второе семейство — теллурическое — основано на формуле диурн/миф (в «знаменателе» здесь могут присутствовать элементы ноктюрна, но они сдерживаются энергиями диурна в «числителе»). Эти два семейства охватывают всю полноту этносов человечества, и любой представитель человечества с необходимостью принадлежит либо к одной, либо к другой этнической семье. При этом практически все этносы, быть может, за редчайшим исключением некоторых архаических племен (вроде племени пирахан, о котором уже была речь ранее), имеют в самих себе как свою органическую часть социальные структуры. В случае теллурических обществ тождество этнос = социум полное и совершенное. А в случае хтонических мы вынуждены признать экзогенный характер социальной структуры и инициации, принесенных — по логике трансляции «пайдеумы» — носителями теллурического культурного кода, то есть этносами диурна.
Эта гипотеза полностью совпадает с теорией Людвига Гумпловича о «расовой борьбе», если мы учтем, как говорилось ранее, что под «расой» следует понимать «этнос». В таком случае теория Гумпловича в наших терминах будет выглядеть следующим образом. Теллурические культуры создаются этносами диурна, которые в соответствии со своей «героической» ориентацией чрезвычайно активны и агрессивны, и поэтому, распространяясь динамически по всему миру, подчиняют себе хтонические этносы, склонные к миролюбию. Так как миф диурна есть ось инициатического развертывания вертикали и индивидуации, то эти этносы несут в своем культурном коде (пайдеуме) основы социума с его стратификацией, основными социологическими осями, отношениями, ролями и структурами. Захватывая власть над хтоническими этносами, они утверждают в них свои социальные модели (модели диурна), которые представляют собой своего рода «псевдоморфоз» (по Шпенглеру). При определенных обстоятельствах они растворяются в хтонических этносах, которые постепенно возвращаются к естественной для них модели ноктюрн/миф, но формальные остатки их присутствия сохраняются в виде социума, социальной структуры и, самое главное, инициации (так на месте камня, упавшего в воду, в какой-то момент опять возникает гладкая поверхность).
Германская мифология живо описывает нам воинственных теллурических асов (Один, Тор и т. д.) и хтонических миролюбивых ванов. По Дюмезилю, индоевропейские этносы и, самое главное, индоевропейский культурный тип, индоевропейская пайдеума, представляют собой классический диурн.
Подавляющее большинство этносов — как архаических, так и современных, — которые мы можем изучать сегодня, демонстрируют нам именно такую модель: либо эти этносы сами несут в себе социум, либо они являются хранителями и ретрансляторами социума, который был вверен им «пришельцами», «другими», носителями теллурической культуры, которая постепенно или трансформировалась, или сохранилась в изначальном виде.
Индейское племя пирахан23 в бассейне реки Амазонки, у которого отсутствуют числительные, даже такие простые, как один и два, и у которых не было никаких запретов (включая запрета на инцест) и структурированных мифов (но которые при этом видели духов и общались с ними в обыденном режиме), представляет собой исключительно чистый пример хтонической культуры, то есть ноктюрнического этноса. Отсутствие структурированных мифов и наличие способностей к прямому духовидчеству не должны нас смущать: речь идет о том, что пирахан оперируют с мифемами, базовыми элементами мифа, еще не развернувшимися в структурированное повествование, — это отдельные ноты или аккорды, взятые наугад. Духи, которых видят, слышат и с которыми взаимодействуют индейцы пирахан вне религии, обрядов и мифов, — это и есть ноктюрнические мифемы. Их случай представляет собой уникальное явление этноса с формулой мифема/мифема. Это чистая форма хтонического типа.
РАЗЛИЧИЯ ЭТНОСОВ И КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
Будучи органическими единствами, полностью предопределяющими структуру социума (напрямую или через сложную операцию экзогенного внедрения мифа диурна в миф ноктюрна), этносы различны между собой. И эти различия представляют собой различия мифов. Каждый этнос имеет свое собственное издание формулы миф/миф. Это проявляется в языке, культуре, обрядах, верованиях, образах происхождения.
Этнос можно уподобить Dо Каmо, о котором шла речь в разделе социальной антропологии. Или, точнее, двум Dо Каmо, поскольку Dо Каmо как индивидуационный (инициатический) выразитель силы рода обязательно имеет дело с выразителем силы другого рода, противоположной фратрии. Здесь можно вспомнить близнечный миф и дуальную организацию общества, о которых много писал Вяч.Вс. Иванов24. Dо Каmо — близнецы, откуда частый случай наличия в этносе двух вождей или двух старейшин в племени. Они едины и различны одновременно, симметричны и асимметричны. Между ними нет иерархии, но нет и равенства. Нельзя исключить, что раздвоение властных функций между жрецом (flamen) и царем (rex) было одним из последствий перетолковывания близнечного характера этнической организации.
Каждый этнос имеет свою версию близнечного кода, свой баланс мифов, архетипов, свое сочетание «знаменателя» и «числителя», свои траектории комбинаций «хреодов», свои сочетания мифем. Эта констатация равносильна утверждению, что культурные круги существуют и в пространстве коллективного бессознательного. Общая структура этого коллективного бессознательного одинакова. Но у каждого этноса в случае каждой формулы миф/миф мы имеем дело с различными частями или голограммами единого целого. Единство человечества и человека обусловлено единством наиболее фундаментальной донной структуры мифа. И на другом конце, на уровне стремления к логосу, цель тоже общая — индивидуация. Но пути и стратегии этой индивидуации различны. Они различны в случае каждого человека, но человек, по Фробениусу, есть не что иное, как нейтральный сам по себе «носитель» «пайдеумы», то есть, в иных терминах, человек есть выражение этноса.
Вне этноса и социума, в значительной мере обусловленного этим этносом, человека нет. Он не может осуществить индивидуацию коллективного бессознательного, отталкиваясь непосредственно от себя самого. Он по определению имеет дело с тем, как это бессознательное структурировано в этносе, то есть какова его структура — и в том числе какова структура баланса «знаменателя» и «числителя» в каждом конкретном случае. Человек полностью и без остатка предопределен этносом, но не как биологическим фатумом, а как стихией мифа, культурного кода. Он не способен совершить индивидуацию, минуя этнос. Индивидуация совершается только внутри этноса и, по сути, самим этносом. Человек же есть лишь инструмент этой этнической индивидуации, ее момент, ее промежуток.
Этнос — это и есть человек в его максимальном понимании. И как различны люди между собой, так различны и этносы. Разница лишь в том, что люди не самодостаточны — у них нет половины для производства потомства, нет диалектического баланса между родным и чужим-своим, нет инициации как института смерти и нового рождения, у него нет своего собственного мифа, а у этноса все это есть — и пары для брака, и пространство коммуникаций, и возможности продолжения рода, и миф, и инициация. Поэтому различия этносов между собой и их отношения друг с другом — это по-настоящему содержательный и важный процесс, и человек приобретает значение и вес, только если он реализует себя в этносе, и уже через этнос, его мифы и его структуры вступает в контакты со всем остальным миром, который есть мир этнический, этнически предопределенный, этнически обусловленный, этнически структурированный.
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ШИРОКОГОРОВУ
Главную разновидность межэтнического взаимодействия мы рассмотрели на примере этносов диурна и ноктюрна. С точки зрения структурной социологии этноса они представляют собой наиболее важную парадигму, так как именно этот момент прививки теллуризма хтоническим этносам (а эти прививки могут производиться многократно) и составляет наиболее важный момент рождения социума с его институтами, статусами, ролями и т. д.
На более приземленном уровне Широкогоров предложил рассматривать три типа взаимодействия этносов между собой:
• комменсализм (от французского commensal — «сотрапезник» — форма симбиоза (сожительства) двух этносов, которые взаимодействуют друг с другом, но это взаимодействие и обмен не принципиальны ни для того ни для другого и в случае отсутствия не причинят никому из них серьезного ущерба);
• кооперация (когда каждый из двух этносов жизненно заинтересован в другом и в случае разрыва связей оба серьезно пострадают);
• паразитизм (когда один из этносов существует за счет другого, и если разорвать их альянс, то паразитирующий погибнет, а тот, на котором паразитирует другой, выздоровеет).
Широкогоров так описывает комменсализм:
«Наиболее слабою связью двух этносов является форма комменсализма, т. е. когда один и другой этнос могут жить на одной территории, не мешая друг другу и будучи так или иначе друг другу полезны, и когда отсутствие одного нисколько не мешает благополучной жизни другого. Так, например, сосуществование земледельца, занимающего ограниченный район, не заселенный дикими животными, с охотником, питающимся продуктами охоты, вполне возможно. Хотя каждый из комменсалистов может быть независим один от другого, они могут видеть и взаимную выгоду — охотник может быть обеспечен продуктами земледелия в случае временной голодовки, а земледелец может иметь некоторые продукты охоты — мясо, меха, кожи и т. д. Примером таких отношений могут быть русские поселенцы Сибири и местные аборигены, а также этносы Южной Америки, уживающиеся на одной территории, — земледельцы и охотники Бразилии»25.
О других формах межэтнических связей Широкогоров пишет так:
«Кооперация — это такая форма отношений двух этносов, которая предполагает, что один этнос без другого жить не может и оба одинаково заинтересованы в существовании друг друга. Такие отношения существуют, например, между индийскими кастами, между завоевателями, выделившимися в сословие (например, германцы) дворянства или рыцарства и местным населением (галлы, славяне). В случае подобной кооперации этносов они избирают такую форму общественной организации, которая оказывается одинаково удобной для обеих сторон. В зависимости от этнической устойчивости далее может произойти биологическое или культурное поглощение одного этноса другим, причем социальная организация продолжает существовать, как это можно наблюдать, например, в некоторых кастах Индии и др., но с переходом к другой форме общественной организации путем слияния или поглощения может произойти полная утеря этнических особенностей. <...>
...Этнические отношения могут принять и третью форму междуэтнических отношений на одной территории, а именно форму паразитизма. В этой форме отношений страдательным элементом является одна сторона, а другая остается в выигрыше, причем паразитируемый этнос без всякого для себя ущерба, но даже с большой выгодой может освободиться от паразитирующего этноса, но паразитирующий после этого рискует погибнуть совершенно. Примеров паразитирования можно привести много. Так, например, паразитируют испанцы на населении Южной Америки, где около каждого селения местных этносов живет несколько испанцев, наподобие того, как паразитируют русские на гиляках Сахалина, как паразитируют евреи в Польше и на юге России, китайцы на охотничьих тунгусах и т. д.»26.
Широкогоров подчеркивает, что эти типы могут динамически меняться в процессе развития межэтнических связей — комменсализм может переходить в кооперацию, кооперация в паразитизм и т. д.
ЭТНОСЫ И ВОЙНА
Еще одной формой межэтнических взаимодействий является, по Широкогорову, война. Это экстремальный, но постоянный формат межэтнических отношений. Этнос на подъеме подминает под себя этнос в состоянии стабильности или пребывающий в упадке. Так как этносы в целом постоянно динамически пульсируют, перемещаются в пространстве, видоизменяются, транслируют и адаптируют культурные коды, осваивают различные виды хозяйствования, приобретают новые технологические навыки и утрачивают прежние, то между ними — помимо трех форм мирного сосуществования — сплошь и рядом вспыхивают войны.
В войне этносов можно выделить множество уровней и форм — соперничество за ресурсы (в духе примера борьбы медведя, тигра и охотников-тунгусов, который мы приводили), битвы за территорию, стремление покорить другого и заставить работать на себя или платить дань, желание навязать другим свой культурный код и т. д. Нам интересно выделить здесь только один фактор, связанный со структурой архетипов.
Дело в том, что героический архетип диурна одними из главных символов имеет стрелу и меч. Это не просто метафорические изображения, это пластическое воплощение самого движения диурна, которое представляет собой импульс к войне. Архетип диурна несет в себе зов к войне, так как он и есть в самой своей глубине война со смертью и временем. Но выражением смерти, чудовищем, для героического импульса становится другое. Поскольку другое внутри этноса включено как свое, то героизм должен проецироваться за пределы племени. С этого и начинается позыв к войне. Другое за пределом этноса — это другой этнос. Его демонизация, превращение во врага, проекция на него образов, противостоящих диурническому порыву, — это самая естественная операция, которую несет в себе код теллурической культуры. Иными словами, в основе самого общества лежит дух войны, социум порождается войной, так как он порождается воином, борющимся в инициации против смерти и побеждающим смерть в «новом рождении».
Вероятно, здесь следует искать исток войны: не в материальных ограничениях или объективных факторах — война рождается в этносе, в человеке, в его глубине глубин и поднимается оттуда, чтобы реорганизовать все вокруг, подстроить под свои сценарии окружающий мир. Этносы воют, потому что в основе этносов лежит дух войны — по крайней мере тех этносов, которые относятся к теллурическому типу. Но и те, которые восприняли диурнические моменты экзогенным способом, не свободны от этого: при самом мирном настрое они часто по инерции чтят воинственных духов и богов, так как в них лежит ось социальной структуры, вращающейся вокруг меча, стрелы, скипетра (в смягченной форме — посоха, откуда у посоха загнутая или раздвоенная рукоять).
Контрольные вопросы
1. Как этнос соотносится с мифом?
2. Как К. Леви-Стросс понимал родство в социальной системе этноса?
3. Что такое теория культурных кругов?
ГЛАВА 7.3
НАРОД И ЕГО ЛОГОС
Теперь рассмотрим, что происходит, когда этнос становится народом. В нашей социокультурной топике формула народа такова:
.
ВСХОДЫ И ЖАТВА
Самое главное отличие этноса от народа — в «числителе». Там вместо мифоса стоит логос. Этот логос представляет собой введение принципиально нового измерения в этническую жизнь — измерения, которое отныне формулируется в рациональных терминах, оперирует с категорией цели, которой принципиально нет в мифосе. Мифос объясняет, как оно есть сейчас, как оно было раньше и почему надо продолжать делать одно и не делать другое. В мифосе отсутствуют вопросы зачем? куда? к чему? В нем отсутствует телос. Введение телоса превращает мифос в логос, придает ему совершенно новую структуризацию, реорганизует внутренние ресурсы этноса, направляя их в новое русло. Это уже не хреоды мифем, которые смутно подталкиваются к сцеплению с другими элементами, чтобы прийти к организации (хотя хреод и подразумевает некоторое подобие телеологии), это жестко прочерченный и строго формализованный путь, практически «железнодорожное полотно», по которому отныне будут курсировать энергии этноса.
Логос, который отделяет народ от этноса, есть логос народный, глубоко укорененный в этносе и его мифах, но поднимающийся над ними, чтобы утвердиться в новом измерении и одновременно это измерение конституировать, создать.
Переход от этноса к народу не является количественным, экономическим или политическим процессом. Это глубинное философское явление, когда в структуре мифа происходит сдвиг, и он превращается в нечто качественно иное — в логос.
Хайдеггер указывал, что изначально в философии Древней Греции фигурировали два базовых понятия, введенные Гераклитом, — «фюзис» и «логос». Оба они представляют собой рационализацию аграрных метафор: «φÚσιj» изначально означало «всходы», а глагол «λ◊γειν», от которого происходит этимологически «логос», — «процесс жатвы», «срезание колосьев», собирание и складирование плодов. Фюзис — это этнос, в котором свободно (или хреодически) прорастает миф. Пока есть только фюзис, миф привольно распространяется во всем пространстве социума, конституируя это пространство, являясь им. Когда вводится логос, начинается новая фаза, фундаментально отличная от предыдущей, — фаза жатвы, фаза логоса. Это и есть момент рождения народа: этнос превращается в народ, когда начинает рационально мыслить, то есть «пожинать» свое собственное содержание.
ГРЕКИ КАК НАРОД
Греки начинают осмыслять себя как народ в полной мере как раз в период появления философии, и сама эта философия, вычленяющая греческий логос из греческого мифа, служит осью греческого самосознания как эйкумены, цивилизации. Греки становятся народом из множества средиземноморских этносов именно через единство культуры. В полисах складываются различные политические режимы (такие полярные, как аскетическая милитаристская Спарта и демократические гедонистические Афины), местные культы и обычаи существенно отличаются друг от друга, множество этносов, входящих в древнегреческий ареал, говорят подчас на разных языках. Но все это многообразие — децентрализованное и самобытное — объединяется общностью цивилизации, принятием эйкуменической эллинской пайдеумы. Так, постепенно складываются и общий язык, и общая письменность, и общая мифология, но этот язык, эта письменность и эта мифология носят уже существенно иной характер — сверхэтнический, рационализированный, схематизированный, ориентированный на определенный телос. Поэтому речь идет именно о народе. И на определенном этапе появление досократической философии становится кристаллизацией этого процесса. В Платоне и Аристотеле греческий логос, логос греков как народа, достигает кульминации и ясно осознает сам себя и свою природу, а ученик Аристотеля, потомок диурнических македонян, взявших Афины, Александр Великий, руководствуясь этим логосом и воплощая этот телос, строит гигантскую мировую империю.
В этом случае мы видим, что греки стали народом из созвездия средиземноморских этносов без государства, но на каком-то этапе создали мировую империю. Когда эта империя пала, уступив место новым империям и царствам, в первую очередь Риму, на ее обломках стали формироваться новые этносы и народы, а какие-то этносы вернулись к прежнему состоянию, сохранив, в любом случае, глубокий след принадлежности к греческой культуре (эллинизм).
Следующий этап греческой идентичности как народа мы встречаем в Византии, после отпадения от нее западных провинций, захваченных варварами. Тогда «народ ромеев» (то есть дословно «римляне», так как Византийская империя была Римской империей), как называли себя греки этого периода, еще раз сформулировал свой логос, на сей раз в качестве ядра Византийский империи и приоритетного носителя православной религии. Нацией греки стали только в Новое время, после освобождения Греции от турецкого ига и создания современной Греции как государства-нации.
НАРОД ИНДИИ
Ведийские арии превращаются в народ тогда, когда их воинственный диурнический этнос (один из множества кочевавших по степям Евразии), хранитель теллурических, по Фробениусу, солярных мифов, вторгается в Индостан, где осознает свой миф как структуру универсального логоса и создает величественную цивилизацию, основанную на уникальном процессе, длящемся тысячелетия, рационализации Вед — через брахманы, упанишады, самхиты, санкхью и бесчисленные философские системы.
Если с этнической точки зрения этот процесс можно описать в терминах межэтнических отношений арийской верхушки, создавшей социальную систему Индии с автохтонным населением Индостана, в основном дравидами, то с другой точки зрения это образец развертывания народа как формулы логос/мифос.
ФОРМИРОВАНИЕ ИСЛАМСКОЙ УММЫ
Через религиозную идею формировался арабский народ. Будучи ранее разрозненными этносами, аравийские арабы эпохи Мохаммеда (571–632) постепенно сплотились вокруг нового религиозного проповедника, которого признали пророком. В данном случае в качестве логоса выступал Коран, где содержались рациональные предписания поведения, социальной организации, экономические и этические законы, основы права, перечислялись обязанности каждого члена общины (уммы). В исламской философии есть точный эквивалент греческому понятию логоса — это «калам», по-арабски «перо», которым Бог пишет содержание мира.
Новая религия, носителями которой являлись аравийские племена, вначале дает гигантский импульс к интеграции Аравийского полуострова, а затем провоцирует волну арабских завоеваний, которая захлестнула Евразию, докатившись до Европы, где арабов остановил только Карл Мартелл (686–741) во время знаменитой битвы при Пуатье, на Западе и до Индии и Индонезии на Востоке.
Арабы стали народом, получившим логос в виде Корана, и принялись распространять эту религиозно понятую модель народа (уммы) на весь мир. При этом происходило три параллельных друг другу процесса:
• арабизация (ассимиляция в арабский народ — с языком, обычаями, типом поведения) множества этносов Северной Африки и Ближнего Востока;
• исламизация (обращение всех завоеванных народов и этносов в мусульманство);
• создание халифата (установление политической власти арабской знати над завоеванными территориями в рамках единой исламской империи).
Здесь мы видим, что несколько аравийских племен, в частности курейшиты, под предводительством религиозного деятеля стремительно превращаются в народ, а тот в свою очередь создает цивилизацию и гигантское государство. Религия и священная книга мусульман, Коран, играют здесь главную роль — роль логоса.
При этом, как и в случае с греками, которые, отталкиваясь от цивилизации и отчасти философии, подошли к созданию империи, арабы, на сей раз отталкиваясь от религии, развернули на ее основе целую цивилизацию и построили мощное мировое государство.
Это показывает, что выделенные нами ранее формы превращения этноса в народ — религия, государство, цивилизация — могут развертываться в разном порядке и на разных этапах перетекать одно в другое. Важнее всего именно тот глубинный момент, когда происходит смена регистра и миф в «числителе» сменяется на логос.
ИМПЕРИЯ ЧИНГИСХАНА
Примеров тому, как этнос становится народом через создание государства, великое множество. История любого государства обязательно имеет фазу внутреннего скачка от мифоса к логосу, после которого на месте этноса обнаруживается народ.
Впечатляющий пример строительства величайшего государства и, соответственно, создание народа практически на пустом месте — без цивилизации и без определенной религии — дает нам Монгольская империя. Мелкий князь монгольского племени кият-борджигин, пребывающего в устойчивом этническом состоянии и не проявляющего никаких признаков становления народом, даже, напротив, слабеющего и теряющего позиции среди других монгольских этносов, Темуджин (1155/1162–1227) внезапно и практически единолично переключает режим этнического существования и начинает серию нескончаемых завоеваний. В молниеносные сроки создается гигантская Монгольская империя, превосходящая по масштабам величайшие империи древности.
Создателем империи становится монгольский народ, который формируется из различных этносов волей высшего властителя Чингисхана. В кратчайший период времени в единую структуру сплавляются не только различные монгольские племена, но и сотни других евразийских этносов, становящихся соучастниками начинания мирового масштаба.
В качестве логоса в данном случае выступает сконструированный Чингисханом кодекс «Яса», законодательные принципы организации Всемирного государства. Этот кодекс, слабо изученный в научной литературе, представляет собой рационализацию и абсолютизацию основных принципов режима диурна — дуализма друг–враг, высших ценностей — верности, доблести и чести, нормативного презрения к комфорту и материальному благополучию, приравнивания жизни к нескончаемой войне, запрета на алкоголь и т. д. Такой стиль социума был характерен для большинства кочевых племен Евразии и до монголов (скифы, сарматы, гунны, тюрки, готы и т. д.), но Чингисхан возводит миф в логос, обычай — в закон, следование традициям прошлого — в проект достижения высшей цели, создания мировой монгольской державы и покорения мира.
Показательно, что с самого начала Чингисхан строит именно империю, государство-мир, в котором четко оговариваются права покоренных этносов и религиозный вопрос. Монгольская империя обязуется соблюдать определенную автономию тех этносов, которые подчинились власти «великого хана», представители всех религий считаются неприкосновенными, освобождаются от дани и получают гарантированную поддержку государства. Монгольский логос выражается в унифицированной системе сбора налогов, организации профессиональной армии, налаживании систем ямского сообщения на всем пространстве империи. Но он сохраняет при этом миф, этнос и религию в неприкосновенности, согласуя с универсальным образцом только самые общие административно-правовые позиции.
Чингисхан создает государство, но это государство не отменяет этносы и мифы. Логос и народ (монгольский) выходят на первый план, но миф не стирается и не загоняется в подполье. Такая модель может быть названа имперским логосом, логосом, который не конфликтует с мифосом. Народ (в данном случае монголы), который становится носителем такого имперского логоса, конституируется по формуле:
Соотношение логоса в народе, строящем империю, и всех этносов в целом (со своими мифами, включая основной имперостроительный этнос) существенно отличается от того, как складывается баланс между логосом и мифосом в случае создания иных типов государственности.
Можно заметить, что в эпоху, совокупно определяемую как Премодерн, все формы государства, создаваемые народом, являются по своему типу империями. Это не является показателем объема их территориальных завоеваний, вселенского масштаба их идеи или наличия императора, но описывает специфику отношения в них логоса к мифосу. Логос в государствах Премодерна — больших или маленьких — никогда не становится в прямую оппозицию мифосу (то есть этносу), а поэтому является всегда имперским.
Это мы видим в полной мере и в образовании Русского государства: Рюрика приглашают на правление славянские и финноугорские племена, относящиеся к различным этносам. И в новой государственности их этничность не стирается, не подавляется, но сохраняется и продолжает существовать в естественном ритме еще долгие века. Это значит, что Киевская Русь с первых своих шагов была государством имперского типа: логос был в данном случае варяжский, а мифос — славянский (и частично финноугорский).
По той же модели создавалось государство франков, породившее современную Францию, а также практически все известные в истории государства эпохи Премодерна — все они были империями (либо вселенскими, либо средними, либо крохотными).
БАЛАНС ЛОГОСА И МИФОСА У НАРОДА
Тем не менее народ, творящий государство в процессе развертывания своего логоса, в любом случае меняет структуру своей этничности. Миф уходит под черту дроби, прямая гомология между «числителем» и «знаменателем» (как в этнической формуле мифос/мифос) нарушается. Между структурой бессознательного и структурой сознания выстраиваются более сложные отношения, нежели в мифе. Нечто от мифа в логос народа переходит, а нечто — нет. Теоретически создается пространство для потенциального конфликта, по крайней мере, для определенных трений.
Это ясно видно на примере становления греческой философии: по мере ее развития происходит рационализация мифа с параллельным разделением того, что ей поддается и входит в структуру философских систем, и того, что отбрасывается как «басни», «сказки», «предрассудки».
Народ, выходящий из этноса, какую-то часть своего «прежнего» (в логическом, а не хронологическом смысле) состояния отправляет на периферию.
Точно так же дело обстоит и с появлением ислама. Мохаммед частично принимает этнические традиции доисламского периода — в частности, черный камень Каабы в Мекке, многие религиозные и бытовые предписания древних арабов, — а частично их отвергает и объявляет им религиозную войну — как битву с неверием и «приданием Богу сотоварищей» (ширк).
Точно так же и с «Ясой» Чингисхана, где определенные этнические кодексы кочевого кодекса монголов возводятся в статус закона, а некоторые традиции — в частности, ритуальное монгольское пьянство, а также многое другое — жестко отвергаются.
Имперский логос не вступает в конфликт с мифом, но все же строго и четко отличает себя от мифа. На следующем этапе это отличие может привести к серьезным противоречиям.
Л. ГУМИЛЕВ: ПАССИОНАРНЫЙ ТОЛЧОК
Здесь можно задаться вопросом: что происходит в тот момент, когда этнос становится народом? Как и почему это случается? Пытаясь истолковать эту закономерность, крупнейший ученый, этнолог мирового масштаба Лев Николаевич Гумилев (1912–1992) сформулировал свою знаменитую теорию пассионарности и этногенеза. Изучив циклы существования сотен этносов, описанных в истории, Гумилев обнаружил странные закономерности, которые он назвал пассионарными толчками27. В момент пассионарного толчка этнос, ранее пребывавший в состоянии равновесия (это могло длиться веками, если не тысячелетиями, не выходя за рамки естественных этнических процессов, описанных схематично Широкогоровым, — комменсализма, кооперации, паразитизма), неожиданно резко менял режим своего существования, переходил к иной фазе и начинал внезапно и быстро наращивать интенсивность своего бытия, захватывая новые территории, покоряя соседей, создавая цивилизации, культуры, империи и религии. Пассионарный толчок давал старт этногенезу, то есть появлению новых интегрирующих этносов под воздействием пассионарного ядра.
Описываемое Гумилевым событие — пассионарный толчок как старт этногенеза — точно соответствует тому, что мы обозначаем как переход от этноса к народу. Гумилев описывал это в терминах «энергии», деятельной силы, которая внезапно открывается в этносе и выводит его на новый масштаб исторического бытия. Он связывал это с повышением количества «пассионариев», то есть людей героического, подчас несколько авантюрного типа, движимых избытком внутренних сил.
Относительно причины пассионарных толчков Гумилев давал очень своеобразное объяснение, связывая их с пульсациями солнечных циклов, связь которых с биологическими циклами жизни на Земле изучал русский ученый А.Л. Чижевский (1897–1964)28. При всем остроумии такой гипотезы к социологии и структурной социологии она никакого отношения не имеет. Но чрезвычайно важно следующее: Гумилев детально и точно описал те моменты в истории этносов, когда конкретно происходил именно переход от этноса к народу, и составил систематическую таблицу этносов в географическом и хронологическом порядке, включающую в себя все случаи такого переключения режимов, когда бы они ни происходили — как в древности, так и в последние столетия. И если ответ Гумилева на этнологическую проблему «Почему происходит переход от этноса к народу?» может быть найден спорным или иррелевантным, само привлечение к этой теме фиксированного внимания трудно переоценить. В ту часть структурной социологии, которая изучает этнос, то есть в область структурной этносоциологии, теория Гумилева входит в качестве важнейшего компонента.
МЕХАНИКА ЭТНОГЕНЕЗА ПО ГУМИЛЕВУ
В самом общем виде теория этногенеза Гумилева выглядит следующим образом. В рамках существующих этносов базовой ячейкой Гумилев выделяет «конвиксию» («общежительство»). Многочисленные «конвиксии» складываются в «консорции». Группы «консорций» образуют «субэтнос». Следующая ступень — «этнос» и, наконец, «суперэтнос».
конвиксия → консорция → субэтнос → этнос → суперэтнос
Процесс движения от конвиксии к этносу и суперэтносу есть маршрут, который в подавляющем большинстве случаев остается в потенциальном состоянии и при котором каждая существующая общественная система пребывает в равновесии. Но в редчайших случаях под воздействием необъяснимого (или гелиобиологического) импульса — пассионарного толчка — единичная «конвиксия» (например, община, группа единомышленников, разбойничья шайка, крохотная религиозная секта и т. д.) начинает вести себя активно, агрессивно, бурно, захватывая своей энергией все вокруг себя — то есть другие конвиксии. Если этот процесс продолжится, то конвиксия сформирует новый консорциум, далее — субэтнос, и так вплоть до суперэтноса. Полный путь в истории был пройден в единичных случаях, два из которых мы упоминали: империя Чингисхана и арабский халифат. Сюда же можно отнести распространение раннего христианства — от небольшой группы апостолов до мировой империи и всемирной цивилизации. В большинстве своем пассионарные импульсы гаснут на промежуточных этапах. Таким образом структуру «конвиксия–консорциум–субэтнос–этнос–суперэтнос» можно воспринимать как хреод, то есть как вероятный путь развертывания процессов пассионарности, который будет пройден в действительности только при сочетании множества дополнительных условий.
ПАССИОНАРНОСТЬ И ДИУРН
В теории Гумилева сразу бросается в глаза сходство между феноменом пассионарности и тем режимом воображения, который Жильбер Дюран описывает как режим диурна. В своей чистой мифологической форме диурн несет в себе нечто, подобное пассионарности. Комплекс мифов и символов диурна развертывается в режиме жесткого и обостренного драматического противостояния имажинэра смерти и времени. Героический диайресис отвергает эвфемизм ноктюрнических режимов и бросает вызов времени. Баланс, на котором строится привычная жизнь этноса, основан на компромиссе между диурном (основа инициации и социальных институтов, структура индивидуационных практик) и экзорцизмом ноктюрна (о чем говорилось ранее). Переизбыток диурна вполне может рассмотреть такой компромисс как переход всей системы на сторону «противника» — времени-смерти, и тонкий этнический баланс родства и свойства, в котором близнечные противоположности разрешаются диалектически, в этом случае может быть нарушен, что приведет к дестабилизации племени (этноса) и началу непредсказуемых (катастрофических) событий.
Нечто подобное может иметь место при отрыве мужского союза как инициатической структуры от остального племени — вплоть до полного обособления, откочевывания, отделения, переселения. Мужской союз как институт культивации героического начала — воины, охотники, молодые агрессивные мужчины — в отрыве от сдерживающих ноктюрнических уз равновесного этноса с большой вероятностью будет вести себя по пассионарному сценарию.
И наконец, можно предположить, в духе диффузионизма Фробениуса–Гребнера, что некоторые этносы или племена заведомо наделены повышенными диурническими свойствами и имеют соответствующую структуру мифа и доминанту героизма в бессознательном. Перемещение таких этнических групп, подчас трудноразличимых в деталях, по пространству порождает серию взрывов пассионарности или каналы ее распространения.
В этом случае пассионарность можно описать (но не объяснить, на что мы и не претендуем), как концентрацию диурна, которая служит горючим материалом для динамики процессов этногенеза и, соответственно, социогенеза.
НАРОД И ДИУРН
Продолжая эту линию, можно сказать, что развертывание героического начала — диурна — в структуре бессознательного и в общей архитектуре мифа приводит:
• на первых (логически, но не обязательно хронологически) этапах — к организации этноса в соответствии с социальным порядком вдоль вертикальной оси (эндогенным или экзогенным образом, о чем мы говорили ранее);
• в некоторых случаях — к концентрации этого начала в особых инициатических организациях;
• иногда — к мобилизации всей этнической группы для решения героических (воинственных, агрессивных, экстенсивных) задач;
• в форме кульминации — к оформлению героического мифа в логос, воплощающийся в создании империй, религий, цивилизаций.
Иными словами, за переход от этноса к народу ответственна чрезвычайно высокая концентрация элементов диурна. Теория этногенеза Гумилева и его стадий вполне может быть истолкована с помощью этого инструментария.
На первый взгляд, может возникнуть вопрос: а что изменилось, когда мы заменили один довольно загадочный термин «пассионарность» на другой, не менее загадочный, — «миф диурна»? Изменилось многое. Пассионарность Гумилева отсылала нас к биоэнергетическим теориям современной науки, которая является многократной производной от базовых антропологических и социологических парадигм. Эта наука есть напластование стольких слоев социологически обусловленных конвенций, что даже метафорическое использование ее терминов и процедур способно существенно понизить уровень достоверности гипотез, не говоря уже об этиологии или каузальности. Истолковав феномен пассионарности как специфический режим работы имажинэра, мы сразу же попадаем в центр проблематики, так как действие этого режима вписывается в общий контекст не только психоанализа и психоаналитической топики, но и в контекст социологии и структурной антропологии. И более того, в этом случае пассионарность можно непротиворечиво исследовать внутри ее ядра, то есть вскрыть механику пассионарности, демистифицировать ее (в частности, освободив от удручающей гелиобиологии: ведь «солнце» есть явление социальное и мифологическое и как таковое принадлежит к сфере воображения).
Таким образом, подводя итог анализу соотношения народа и логоса, можно сказать, что ключевой момент перехода от этноса к народу (с соответствующими формами масштабного исторического творчества) состоит в резкой доминации режима диурна в структуре этноса. Логос рождается из героического мифа, и чтобы это произошло, должна быть достигнута высокая степень концентрации именно этого мифа как в «числителе», так и в «знаменателе» формулы этноса мифос/мифос. Когда эта формула приобретет вид
,
произойдет искомый скачок пассионарности, диурн в числителе превратится в логос, и этнос станет народом.
Контрольные вопросы
1. Назовите фазы этногенеза по Л. Гумилеву.
2. Что такое пассионарность?
3. Приведите примеры исторического творчества народов (религии, цивилизации, империи).
ГЛАВА 7.4
НАЦИЯ ПРОТИВ МИФА
ПЕРЕННИАЛЬНОСТЬ ЭТНОСА
Этнос мы встречаем на всем пространстве исторической синтагмы Премодерн–Модерн–Постмодерн. В том или ином виде он есть везде как константа человеческого общества. Любое общество прямо или косвенно этнично, признается это или нет. В разных моментах социокультурной топики, в разных отношениях с другими ее составляющими, но присутствует миф везде — как константа коллективного бессознательного, как сам имажинэр. Человек этничен абсолютным образом, он всегда есть человек этнический. Точно так же социум — он несет на себе отпечаток этноса в самом прямом и непосредственном смысле. При этом этничность может быть единственным содержанием человека и общества как в рамках племени или архаических формах общества, а может сочетаться с более сложными системами — тогда, когда мы имеем дело с народом и построенными им более абстрактными конструкциями — цивилизацией, религией и особенно государством. В первом случае этнос — единственное, что дано (формула мифос/мифос), во втором — этнос сочетается с определенной надэтнической (суперэтнической, по Л. Гумилеву) надстройкой (формула народа — логос/мифос).
Этнос был и есть всегда. Это обстоятельство специально выделяет и обосновывает примордиалистская, или перенниалистская, теория (от латинского «primordial» — «изначальное» и «perrenis» — «вечное», «постоянное», «неизменное»). В общем виде ее впервые сформулировали немецкие философы Иоганн Готлиб Фихте (1762–1814) и Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803). С точки зрения синхронистского подхода и структурализма именно в этносе следует искать ключи к пониманию человека как такового. С этим связано все направление структурной антропологии, изучающей институты, психологию, ментальность, символы, обряды, образ жизни и мысли народов, пребывающих в состоянии этноса. Поэтому этническое мы встречаем на всех этапах истории — от Премодерна через Модерн вплоть до Постмодерна.
НАРОД КАК ПРОБАБИЛИСТСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Что касается народа, то есть перехода этноса в особый режим пассионарного напряжения или сверхконцентрации диурна, то это происходит далеко не во всех этносах. Этнос — нечто обязательное и присутствующее с необходимостью как фундаментальная антропологическая и социологическая данность. Народ мы встречаем намного реже. Это не обязательная и не необходимая форма социума. Она связана с совокупностью складывающихся факторов, которые комбинируются под воздействием множества разнообразных и разноуровневых причин. Нет никакой предопределенности в том, чтобы этнос становился народом, и нет никакой гарантии, что, став народом, то есть суперэтносом, в терминах Гумилева, он снова не распадется на этнические единицы — либо прежние, либо новые или что такие единицы от него не отколются. Превращение этноса в народ — явление обратимое.
Хотя мы встречаем народы — именно народы (не этносы) — на древнейших этапах известной нам истории, их существование, будучи логически вероятным, не является строго обязательным. Этим они отличаются от этноса, который обязателен и наличествует везде. Народ как частный случай зажженного героической сверхэнергией этноса есть, таким образом, величина вероятностная.
ГЕНЕЗИС НАЦИИ
Явление нации, со своей стороны, имеет строго определенную временную локализацию и относится к Новому времени. Ранее нации как таковой (то есть государства-нации) мы не встречаем, она является исключительным феноменом Модерна и полностью принадлежит к его парадигме. Нация — понятие современное, неразрывно связанное с Просвещением и парадигмой Модерна. Этим она отличается и от этноса, и от народа, которые присутствуют во всех парадигмах.
Генезис нации связан с понятием государства. Государство же в свою очередь, как мы видели, есть одна из трех возможных форм воплощения творческой мощи народа (наряду с религией и цивилизацией). Народ есть этнос, обретший логос. И наконец, логос рождается из мифологического режима диурна, который в свою очередь, конституируя логос, оставляет неиспользованными другие свои столь же диурнические и героические, но не логические возможности. Все то, что не переходит от одного состояния в другое, не исчезает, но остается в качестве действующих факторов, продолжающих оказывать огромное влияние на всю структуру. Генезис нации можно описать как процесс последовательной селекции мифологического потенциала.

Схема 25. Генезис нации
На схеме (схема 25) отмечены четыре логические ступени появления нации. Если спроецировать эти логические шаги на диахроническую картину, то переход на нижний уровень будет осуществляться строго в Новое время, что заставляет относить нацию к явлениям сугубо современным. Использование этого же термина в более ранние эпохи заставляет нас интерпретировать высказывание как относящееся либо к народу, либо к этносу.
Такое строгое определение нации чрезвычайно важно для того, чтобы распутать клубок бесчисленных противоречий, смешений понятий и анахронизмов в использовании термина «нация».
Нация связана с этносом генетически, так как появляется из матрицы этноса. Но по мере становления нация все более и более освобождается от того, что было ее истоком, вплоть до того, что в законченной форме она становится к этносу в абсолютную оппозицию.
ГОСУДАРСТВО-НАЦИЯ КАК МАШИНА ЭТНОЦИДА
Мы видим, что государство-нация вообще не признает в своей структуре наличия мифа и отождествляет себя исключительно с областью логоса. Это строго явствует из истории становления Нового времени, которое проходило под знаком полного освобождения разума от «доразумных», «внеразумных» примесей. Смыслом Просвещения было изгнание мифа.
Поэтому в политической практике становления современных государств-наций мы видим развертывание планомерного этноцида — уничтожения этносов и даже народов (как имеющих в себе «слишком много» от мифа, хотя и в «знаменателе»).
Так, при формировании французского государства-нации жертвой стали десятки этносов, населявших некогда территорию Французского королевства. Это окцы, аквитанцы, баски, гасконцы, норманны, бретонцы, провансальцы и др. Из нескольких этносов верстается единое однородное поле, и верстается оно сверху — со стороны государства, которое вводит общий социальный стандарт, куда включаются нормативный национальный язык, общее право (отменяющее этнические различия), принцип общего образования (вначале католического, потом секулярного, светского), фиксируются основы экономической системы (от феодальной к капиталистической), искусственно и однотипно формируются органы власти, другие институты.
Государство вырабатывает определенный логос как механическую модель жестких закономерностей и подверстывает под этот логос не только малые этнические группы, оказавшиеся в его пределах, но и сам народ, запустивший государство, последовательно очищая его от мифа.
ГОСУДАРСТВО КАК АНТИИМПЕРИЯ ИСКУССТВЕННО ПОРОЖДАЕТ НАЦИЮ
Показательно, что нацию порождает только государство неимперского типа. В принципе современное государство, чьими теоретиками были Макиавелли, Гоббс и Жан Боден, было задумано как антиимперия, как антитеза империи.
Национальное государство последовательно очищается от других форм творчества народа — от цивилизации и от религии. В истории Европы это означало игнорирование такого явления, как европейская цивилизация и стремление обосновать национальную государственность на рационально осмысленных эгоистических интересах конкретной группы (династии или класса), создавшей государство и пользующейся его плодами. А с другой стороны, современные государства строились в полемике с универсалистскими претензиями папской власти, что объясняет либо светский, либо протестантский характер теорий государства (как у Жана Бодена или Томаса Гоббса). И наконец, в практической оптике они оппонировали линии Австро-Венгрии — последнему имперскому образованию Западной Европы.
Империя сочетает централистский логос с полифонией этносов, она же сохраняет имперообразующий народ в относительной неприкосновенности. В терминах «логос/мифос», она сочетает универсалистский логос с мифологическим многообразием в «знаменателе», которое признается и де-юре, и де-факто.
Нация не просто определенный этап существования народа. Здесь последовательность иная. Народ создает государство (на первых порах, как правило, империю). Империя при определенных условиях (и далеко не всегда) трансформируется в государство светского, неимперского типа. И только потом это государство неимперского типа искусственно порождает нацию, учреждает ее — политически, социально, юридически, административно, институционально, территориально и даже экономически, конституирует, конструирует ее. Нация — это конструкт государства, то есть явление искусственное, основанное на применении абстрактного логоса к конкретным историческим, этническим и политическим условиям.
ГРАЖДАНИН ― ЛОГИЧЕСКИЙ АРТЕФАКТ НАЦИИ
Основой нации является не какая-то органическая общность, но индивидуум, гражданин. Гражданин — единица чисто логического порядка. Он конструируется не на основании чего-то имеющегося, но на основании рационального императива. Гражданин вводится как учрежденное тождество, подчиняющееся первым трем законам логики — «А=А», «А не не-А», и «либо А, либо не-А». Гражданин — это такая единица, которая полностью удовлетворяет этим законам. Он выделяется из общей массы этноса или народа, связанного многочисленными нитями мифоса в своем «знаменателе», и этим обрывает все связи с естественным коллективным целым (миф в «знаменателе»), переходя в новый искусственный коллективный агрегат, основанный на логических операциях. Этот искусственно сконструированный агрегат и есть нация.
Ранее мы говорили о том, как перенос элемента из области мифоса в область логоса ставит его перед холодным и беспристрастным анализом, отчужденным механическим судом. Гражданин как основа нации и есть человек, оторванный от своей естественной среды, пробужденный от своих грез и риторических дискурсов и вызванный на строгий механический суд. На этом основана идея национального права. Право в государстве-нации — это основа функционирования всего механизма, это схема аппарата и инструкция по эксплуатации. Основой нации является Конституция как базовый документ, определяющий основные параметры чертежа и механизм взаимодействия между собой отдельных частей общего национального аппарата.
Гражданин есть универсальная деталь этой логической машины.
Если снова вспомнить понятия социологии Тенниса, можно сказать, что нация есть выражение Geselschaft (общества) как искусственного скрепления между собой атомов, на которые было предварительно расчленено органическое целое. Нация есть робот народа и этноса, можно также сказать, что это автоматическое чучело, внутренние органы из которого тщательно изъяты и заменены механическими деталями, эти органы приблизительно имитирующими.
ГИПОТИПОЗ «НАРОДА» В КОНСТИТУЦИЯХ
Нация есть антиэтнос, антинарод. Воспоминание о народе как инициаторе появления нации часто еще содержится в Конституциях большинства наций, но это упоминание носит характер гипотипоза (то есть анахронического эвфемизма): понятие «народ» возникает как живое напоминание о том, что предшествовало появлению государства и созданию на его основе нации. В настоящем, в национальном государстве народа уже нет, вместо него есть нация — она-то и управляется Конституцией и конституируется ею. Но гипотетическое обращение к народу в настоящем времени является фигурой речи, тропом, что, кроме всего прочего, приводит к неверному и чисто анахроническому выводу о том, что нация могла быть тем, что предшествовало государству (хотя это логическое и хронологическое, синтагматическое противоречие).
ПРИЧИНЫ ПУТАНИЦЫ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ НАЦИИ (НАЦИОНАЛИЗМА) В ПОЛИТОЛОГИИ
С этими нюансами сопряжено то, что сплошь и рядом под «нацией», имеющей строго механическое и гражданское содержание, понимаются иные реальности — то есть «народ» и «этнос» как социум, где позиции мифа полностью легитимизированы, а иногда и легальны. Такой сбой понятий заставляет одних и тех же представителей Модерна и современного государства выступать и как сторонники нации, и как ее противники. Сторонниками они являются тогда, когда понимают под «нацией» гражданское общество в пространстве государства (то есть собственно то, что и следует понимать под «нацией»), а противниками — коль скоро в это понятие вкладывается анахроническое содержание («народа» и/или «этноса»).
Эта же двойственность, основанная на нечетком словоупотреблении, затрагивает и понятие «национализм». Национализм, строго говоря, есть явление сплоченности и мобилизации граждан государства для реализации какой-нибудь государственной цели — победы в войне, расширения своего политического влияния или зоны экономического контроля. Такой национализм ничуть не конфликтует концептуально с нормативами гражданского общества и является вполне приемлемым в большинстве обществ Модерна. Но если под «нацией» неправомерно понимать «народ» или «этнос», то значение понятия меняется на прямо противоположное и под «национализмом» понимают в этом случае контратаку поставленного вне закона мифоса против логоса, узурпирующего все полномочия в современном государстве, то есть попытку Gemeinschaft (общины) отвоевать часть своих прав у Geselschaft (общества). Чтобы подчеркнуть эти различия, используют составные термины типа «этнонационализм», «этнократия», «Volk-национализм» (или «volkisch» — от немецкого «das Volk», «народ»), «национальная нетерпимость» или «расизм». Очевидно, что такие сложные конструкции только затемняют сущность проблемы, заставляя разрабатывать системы понятий и определений, в том числе юридических, основанных на натяжках, многозначностях и умолчаниях, что только вредит стройности научного, политического и правового дискурса. Примерами такого неадекватного использования терминов «нация» и «национализм» полны мировые и российские СМИ, случаи правовой практики, типовая политическая полемика, никогда ни к чему не ведущая, так как терминологическая путаница лежит в самой основе обсуждаемых позиций и приоритетов.
ПРИЧИНЫ ПУТАНИЦЫ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ НАЦИИ (НАЦИОНАЛИЗМА) В ЭТНОЛОГИИ
Другой вид путаницы понятий имеет место в научной среде. Это связано с теориями «этноса», обсуждаемыми современной этнологией и антропологией. В российской науке сложилась чрезвычайно некорректная и иррелевантная практика противопоставлять друг другу примордиальную (перенниалистскую) теорию этноса (мы ее изложили выше) и так называемый социальный конструктивизм.
Примордиализм признает «этнос» как изначальное и фундаментальное явление, данное как развертывание структур бессознательного (с добавлением идеи родовых связей или без него — мы видели, что в любом этносе участвует как родство, так и свойство, и оба они конститутивны для определения этноса только в совокупности, что делает критерий наличия родовых связей при определении этноса неполным и вводящим в заблуждение). Противопоставляемый ему «конструктивизм» тщится объяснить появление этноса искусственной культурно-политической и лингвистической инициативой элит или отдельных небольших групп. И здесь, как и в бытовом языке политиков и журналистов, мы сталкиваемся со смешением понятий и анахроническими экстраполяциями.
Этнос — явление строго и однозначно примордиальное, и никакого другого объяснения его происхождения не существует. Единственное — процессы этногенеза могут толковаться различно, через энергетическую теорию пассионарности (как у Гумилева), через комбинацию режимов бессознательного (особенно с упором на социообразующую функцию диурна) или как-то иначе.
Гердер метафорически определил «этносы» (= «народы») как «мысли Бога». В религиозных представлениях иудеев и частично христиан объяснение различия этносов и народов дается через идею множественности ангелов: каждому народу (этносу) дан свой ангел, символически олицетворяемый князем данного народа. Таким образом, члены цепочки «ангел–князь–народ(этнос)» могут выступать метонимическими понятиями.
Конструктивизм в полной мере начинается там, где происходит создание нации. Здесь действительно нет ничего примордиального и перрениального — эта национальная конструкция строится полностью искусственно и с помощью механических и логических законов. Здесь действительно большую роль играют властные и интеллектуальные элиты, вырабатывающие чисто логически и умозрительно те идеи, принципы, интересы и ценности, вокруг которых призвана объединяться конституируемая ими искусственная гражданская общность. В случае больших наций это очевидно и не требует доказательств.
Проблемы могут возникнуть только с маленькими нациями, возникновение которых происходит на наших глазах. На постсоветском пространстве в каждой из республик СНГ, кроме России, идет полным ходом процесс создания таких новых наций, как правило, никогда не существовавших в истории. Аналогичные попытки делаются и на более низком уровне — в пределах сепаратистских тенденций и внутри самой России. И в этом случае еще больше в глаза бросаются обращения операторов создания новых наций к этническому фактору.
Поверхностная рефлексия над этими феноменами привела некоторых ученых29 к противопоставлению примордиализма и конструктивизма. Дело в том, что апелляции к этническим началам в создании нации не определяют сущности этногенеза и упускают из виду само содержание этноса. Этот фактор, действительно искусственный и механически сконструированный, служит материалом для формирования нации в ее гражданском политическом смысле. В этом дает о себе знать общий цивилизационный настрой Модерна.
По мере крушения имперских образований или распада крупных государств, не успевших или не пожелавших до конца уничтожить самобытные этнические группы в своих пределах, этнические элиты стараются имитировать западные государства-нации и повторить весь цикл «этнос–народ–нация» даже в том случае, если для этого не созрели внутренние предпосылки. В этом случае мы имеем дело с археомодерном или псевдоморфозом, о чем мы неоднократно говорили. Этнические элиты получают образование в институтах Модерна. А затем проецируют полученные эпистемы — в политическом, культурном, социологическом смыслах — на собственные этнические группы, продолжающие жить в рамках традиционного общества.
В таких случаях мы видим конструктивизм, но этот конструктивизм не имеет никакого отношения ни к сущности этноса, ни к этногенезу (как бы его ни понимали); он объясняет только поведение элиты, проецирующей на фундаментально и неизменно примордиальный этнос процедуры создания нации (и чаще всего, если не всегда, государства-нации), почерпнутые на чужом опыте через образование в иных социальных контекстах и в иной исторической парадигме — в парадигме Модерна, где никакого этноса уже не предполагается. Из таких попыток может появиться только очередной псевдоморфоз, что мы видим на примере искалеченной Грузии, раздираемой противоречиями современной Украины или полного провала попытки построить государство-нацию Дудаевым (1944–1996) и Масхадовым (1951–2005), что справедливо критиковали чеченские традиционалисты и этнократы (в частности Х.-А. Нухаев30).
СУДЬБА МИФОСА В МОДЕРНЕ
Если внимательно следить за нашей логикой при описании нации, мы наталкиваемся на определенное противоречие. С одной стороны, мы сказали, что дробь логос/мифос и сама двухэтажная топика, лежащая в основе структурной социологии, есть универсальная модель, применимая ко всем социологическим, психологическим и антропологическим явлениям. Но при описании государства-нации мы говорим только о логосе, причем таком, который объявляет мифосу войну на уничтожение — вплоть до того, что не признает самого его существования и пытается описать общество Модерна как чистый Geselschaft, у которого вообще нет знаменателя. Это соответствует той диахронической последовательности, с которой мы начали наше изложение. Модерн считает, что верной является только диахроническая схема темпоральной синтагмы:
мифос логос.
Мы же показали, что благодаря открытиям структуралистов, лингвистов и психоаналитиков выяснилось: мифос никуда не исчез, он остался в бессознательном и продолжает там же существовать, несмотря на отрицающий само это существование логос. Поэтому, когда мы говорим, что нация как чисто логическое и искусственное явление основана целиком и полностью на логосе, мы описываем ситуацию со стороны самого логоса: так нация и государство мыслят сами себя и свой атомарный состав (граждан). Для наглядности можно выстроить следующую цепочку:
Она строго соответствует эквивалентной цепочке
В нации логос стремится отменить мифос, перечеркнуть его, снять его как явление. Если верить нации и Модерну в целом, то этнос и мифос упразднены при переходе к Новому времени. Нации сменяют собой народы и этносы. Номинально и юридически так оно и обстоит, и в знаменателе у логоса и нации ничего нет. Но структурализм проявляет это «ничто» как пленку, и постепенно через его методологию, через исследование нарратива и риторики, через открытие коллективного бессознательного и парадигмального подхода на «пустом месте» появляются черты давно знакомого явления, которое, как выясняется, никуда не исчезло. Это открытие и заставляет социологов, антропологов и лингвистов (начиная с самых крупных — Э. Дюркгейма, М. Мосса, К. Леви-Стросса, Р.О. Якобсона, Н.С. Трубецкого и т. д.) обращаться к примитивным обществам, архаическим племенам, древним языкам, преданиям, сказкам и легендам в поисках содержания этого «ничто», разоблаченного как нечто.
ЭТНОС КАК ПОДСОЗНАНИЕ НАЦИИ
Точно так же обстоит дело и с нацией. Нация считает, что «избавилась от этноса», и игнорирует этническое в правовых, концептуальных, политических, административных и институциональных системах. Нация делает вид, что «этноса нет», а когда он заявляет о себе, стремится его подавить, а то и просто уничтожить — либо путем национализации (насильственного обращения в национальный тип через язык, культуру, право и т. д.), либо путем истребления. При создании американской нации вокруг белых колонизаторов с доминирующим англосаксонским и протестантским социокультурным кодом располагалось местное население — индейцы, которые оказались совершенно неспособными (и субъективно, и объективно) в нее интегрироваться. Это привело к их истреблению или к апартеиду, который де-факто существует в США до сего времени. Индейцы были этносами, причем с развитыми чисто этническими чертами, и не могли интегрироваться в нацию. Сложнее обстояло дело с чернокожими рабами, оторванными от почвы и произвольно перемешанными белыми плантаторами без учета их этнической принадлежности (ведь среди чернокожих рабов были представители совершенно различных этнических групп, отловленные в Африке преимущественно в экономических целях). Афроамериканцы, таким образом, включались в американскую нацию на индивидуальной основе — как граждане с черным цветом кожи без какого бы то ни было этнического контекста. Поэтому вопрос об их интеграции был относительно упрощен, и когда Север и аболиционисты одержали победу над конфедератами и плантаторами Юга, юридически путь интеграции негров в американскую нацию был открыт. Однако потребовалось около ста пятидесяти лет, пока это теоретическое равноправие реализовалось до такой степени, что президентом США стал первый в истории этой нации мулат с африканским фенотипом. Индейцы же так и остались за чертой.
Но на самом деле этнос никуда не исчез и ярко просвечивает сквозь формальные претензии наций на создание чисто логических обществ. Этническая принадлежность сказывается и на поведении элит, и на историческом выборе масс, и на системе ценностей и интересов, которые пусть внешне рационально, но всегда иррационально внутренне выбираются в качестве национальных приоритетов. Этнос не имеет легального места в нации, но он контролирует в огромной степени процедуры легитимации31, которые имеют неформализованный характер. И уж совершенно откровенно он доминирует в общественном мнении и коллективном сознании, предопределяя его смыслы и сбои.
Статус этноса в государстве-нации полностью соответствует статусу бессознательного (или подсознания) в человеке Модерна. Бессознательное безусловно есть и активно влияет на личность, функционирование рассудка, саму структуру Эго — признает ли это Эго или нет. Точно так же и этнос, который можно назвать «бессознательным» нации. Он строго отрицается, третируется, подавляется, загоняется в подполье, но он продолжает жить там — нелегально и без прописки, предопределяя многое, если не все, из того, что происходит на уровне логоса — как в основном, титульном составе нации (то есть в том народе, который создал государство, учредившее нацию), так и в этнических меньшинствах — автохтонных или вошедших в нацию в результате миграции.
НАЦИЯ И ДИУРН
Если вновь обратиться к схеме генезиса нации, мы увидим, что нация есть продукт работы героического режима бессознательного — диурна. Вспомним, что говорилось в начале этого раздела об участии работы диурна в социальных структурах этноса (независимо от доминирующих в этносе архетипов). Теперь можно проследить всю цепочку.
1. Диурнический миф развертывает социальную вертикаль, которая организует этнос в социальную структуру.
2. Следующая ступень развертывания диурна приводит к появлению логоса и трансформирует этнос в народ (суперэтнос).
3. Народ (суперэтнос) через свой логос (с опорой все на тот же диурн — но уже в бессознательном, в знаменателе) создает цивилизацию и/или религию, и/или государство (как империю).
4. В случае государства-империи абсолютизация логоса (опять же продолжая траекторию развертывания диайретического мифа и его энергетики, направленной к рационализации и членению внешнего мира) может привести к созданию государства-нации, где государство учреждает нацию вместо народа и этноса.
5. Диурническая агрессивность превращается в битву логоса с собственным знаменателем, и нация начинает репрессировать этнос, ведя дело к его уничтожению.
Так, на всех этапах мы видим преобладание диурнического начала, доведенного до своих абсолютных форм и вошедшего в противоречие даже с тем, что его породило — то есть с диурническим мифом как бессознательным архетипом. В логосе диурн увидел возможность быть отныне сознательным (четыре закона логики) и обратил эту возможность против своих собственных корней. В этом состоит проект гражданского общества в чистом виде (как оно представлено у Канта), где продолжение той же логики требует отказа от иррационализма войны и в конечном счете — от государства.
Гражданское общество — это завершающая стадия развития диурна, в которой он приходит к отрицанию уже самой нации и самого государства в пользу чистой логики и чисто логической единицы — гражданина, на предыдущем этапе конституированного и сконструированного государством и нацией.
Поэтому к пяти вышеперечисленным шагам в развитии диурна мы можем добавить шестой.
6. Диурнический логос нации приходит к необходимости замены нации как сцепленного агломерата граждан-атомов этими же атомами в свободном состоянии и в ходе общей программы освобождения от мифоса начинает вырывать корни самого диурна, приведшего по последовательной цепочке развертывания диайретического мифа к возникновению гражданского общества. Отсюда пацифизм, денонсация воли к власти (как иррациональной формы диурна), «открытое общество» Поппера, либеральная демократия и в конце концов Постмодерн. Диурн, начав с со своего приоритетного самоутверждения, приходит к самоотрицанию и самоуничтожению.
На этом шестом пункте работа диурна доходит до логического предела и исчерпывает свой потенциал.
Далее начинается нечто парадоксальное.
RESIDUI
В рамках нашей топики мы можем проследить, где синхронический момент доминирует над диахроническим, а значит, выстроить картину движения диурна от мифа к логосу и от этноса к нации — с позиции того, что оказывается отброшенным в ходе развертывания этого процесса. Если для самого диурна и всего захваченного его энергией это не имеет никакого значения, то для общей картины общества-дроби это чрезвычайно важно, так как освещает изменения в структуре знаменателя, который, будучи принципиально тождественным, способен принимать в себя некоторые элементы, «сваливающиеся» в него из числителя в ходе «великой чистки», чем принципиально занимается диурн.
Можно назвать эту логику схемой аккумуляции «остатков» (residui), пополнением своего рода «резидуального тезауруса». В этот тезаурус попадает все то, что отбрасывается последовательными действиями диурна, утверждающего свой «героический» (диайретический) порядок.

Схема 26. Пополнение резидуального тезауруса
Из этой схемы мы видим, как пополняется знаменатель (бессознательное) эпохи Модерна содержанием, которое ранее составляло компетенцию диурна. Так, в область маргинального, иллегального в режиме нации попадает не только ноктюрн, но и иррациональные аспекты диурна, и, более того, те проявления логоса (религия, цивилизация, империя), которые были достоянием логоса — числителя! — на предыдущих этапах.
Если продлить эту цепочку дальше, в Постмодерн (о котором речь пойдет чуть дальше), мы увидим, как этот тезаурус пополнится и такими совершенно логосными понятиями, как нация и государство, если применить к ним на новом витке и с новым тщанием критерии строгого соблюдения требований логоса.
Структура резидуального тезауруса, где в эпоху Модерна пребывает не только этнос, но и народ и его творения, отличные от государства-нации (то есть определенные формы логоса, а не только мифоса), существенно нюансирует общую топику структурной социологии, так как включает в область знаменателя ряд позиций, которые на ранних этапах принадлежали числителю и относились к порядку логоса.
НАЦИЯ КИБОРГОВ
Идея перехода от этноса и народа к нации в ходе режима диурна, как мы показали, в определенный момент приводит к одной важнейшей операции — переносу частички мифа, фрагмента этноса или коллективного бессознательного, стремящегося к индивидуации (Dо Каmо), в пространство логики. Именно там и возникает гражданин как атомарное звено нации. Но, будучи помещенным в механическую систему по механической же логике, гражданин в какой-то момент подходит к решающей точке. Либо он будет продолжать развертывать в своем гражданском статусе бессознательные структуры (хотя и нелегально, но все же принесенные им из прежних состояний Премодерна, то есть из этноса, из мифа) и в таком случае будет оставаться не просто гражданином, а чем-то еще, нарушая три закона логики, либо в какой-то момент его надо будет заменить нормативным гражданином с полностью адекватным нации сознанием и системами поведения без малейшего отклонения от логических нормативов.
Первый случай будет означать, что нация опускает руки перед невозможностью полноценно реализовать свою задачу и учредить систему граждан вместо органических коллективных единиц. Но такое признание было бы равнозначно признанию Модерна в том, что он оказался не способен выполнить свою программу. Именно к этому выводу пришли философы Франкфуртской школы и Э. Левинас (1906–1995), мыслившие «от Аушвица и Освенцима», то есть констатировавшие неспособность западноевропейского Модерна изменить этническую и мифологическую природу человека и заменить ее четко функционирующим механизмом. Даже с учетом этой констатации сама диурническая природа логоса, пусть и диалектически преодоленная и осужденная его последующими изданиями, противоречит такому «фатализму», и дух Модерна будет искать способы, как преодолеть свой собственный провал.
И здесь мы подходим к следующему важнейшему шагу: полноценным членом нации, нормативным гражданином, двигающимся по строго предписанным логикой траекториям без какой-либо опасности впасть в этнос или в миф, будет являться человекоподобное, но искусственное существо — киборг, клон, мутант, продукт генной инженерии. Оптимальный атом нации и гражданского общества — это человек без подсознания, без этнических свойств, человек, полностью созданный инструментарием культуры и ее ультралогической формой. Гражданское общество и полноценно «логичная» нация в своих сингулярностях и в своем обобщении могут быть построены только в том случае, если на место людей встанут человекоподобные аппараты, машины, постлюди. Идеальная нация, строго соответствующая критериям логоса в его наиболее полноценном развитии, — это нация киборгов, компьютеров, биомеханоидов.
Здесь мы снова подходим к черте, где заканчивается Модерн со своими достижениями по изведению логосом мифоса (нацией этноса), и вступаем в Постмодерн, где нас ожидают новые метаморфозы логоса и постчеловеческая «антропология» открытого общества мутантов, клонов и киборгов. Очищение нации от этноса приводит к освобождению от человека и его структур как таковых. И концепт «гражданского общества» как оптимальной формы развития того же импульса, который привел логос к формированию нации, может быть на практике реализован только через выход за рамки человека, который, как выясняется, настолько тесно и неразрывно связан с этносом и мифом, что попытка оторвать его от этноса и мифа приводит только к одному результату — к концу человека, к его смерти.
Контрольные вопросы
1. В чем основные противоречия между нацией и мифом?
2. Какова судьба мифа в эпоху Модерна?
3. В чем основные причины путаницы в определении нации в российском научном и политическом контексте?
РЕЗЮМЕ
В настоящей главе мы выяснили следующие принципиальные позиции этносоциологии.
1. Этнос является примордиальным компонентом человека как явления и сохраняет свое фундаментальное значение на всем историческом цикле развертывания синтагмы от архаики к современности. Примордиалистская (перенниалистская) теория этноса является единственно адекватной и оперативной.
2. Формулой этноса является соотношение мифос/мифос, где числитель отличается от знаменателя пропорциональным превосходством диурна, который ответственен за развертывание в этносе социальных (вертикальных) структур и институтов.
3. В западном обществе судьба этноса проходит все стадии развития доминанты диурна по цепочке формул:
мифос/мифос (= этнос) логос/этнос (= народ)
логос/0 (ноль) (= нация).
4. Диурн развертыванием своего ингерентного (внутреннего) сценария порождает народ, затем государство, затем нацию, затем фигуру гражданина, затем гражданское общество.
5. По линии логоса — каждый предыдущий этап снимается и исчезает в ничто, по линии мифоса — отброшенные возможности копятся в знаменателе, составляя ризидуальный тезаурус.
6. При переходе от Модерна к Постмодерну ставится задача создания нового субъекта как полностью логической единицы гражданского общества, лишенной знаменателя. Такой постчеловеческой сингулярностью становится фигура киборга, мутанта, клона, робота.
7. С учетом Постмодерна полная цепочка трансформаций этноса в социологической перспективе диахронической синтагмы выглядит следующим образом:
этнос народ
нация
гражданское общество
нация (общество) киборгов (постлюдей).
1 Широкогоров С.М. Этнос: исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Шанхай, 1923.
2 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Tübingen, 1976.
3 Дугин А. Обществоведение для граждан Новой России. М., 2007.
4 Бромлей Ю. Очерки истории этносов // Современные проблемы этнографии. М., 1981.
5 Gumplowicz L. Der Rassenkampf: Sociologische Untersuchungen. Innsbruck, 1883.
6 Широкогоров С.М. Этнос. Шанхай, 1923.
7 Широкогоров С.М. Этнос. Указ. соч.
8 Lapouge G.V. de. L’Aryen, son rôle social, cours libre de science politique, professé à l’Université de Montpellier (1889–1890). Paris: A. Fontemoing, 1899; Idem. Race et milieu social: essais d’anthroposociologie. Paris, 1909.
9 Güenther H.F. Rasse und Stil: Gedanken über ihre Beziehungen im Leben und in der Gesitesgeschichte der europeischen Volker. Munich, 1926.
10 Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.
11 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983.
12 Durand G. Champs de l’imaginaire. Grenoble: ELLUG, 1996.
13 http://www.polit.ru/lectures/2005/09/06/ivanov.html
14 Levy-Strauss C. Les Structures élémentaires de la parenté. P., 1949.
15 Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. М., 1995.
16 Там же.
17 Афанасьев А.Н. Народные русские сказки: В 3 т. М., 1984.
18 Пропп В.Я. Морфология сказки. М.: Лабиринт, 1998.
19 Иванов В.И., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965. См. также: Воронин Н.Н. Медвежий культ в Верхнем Поволжье в ХI веке // Краеведческие записки. Ярославль, 1960. Вып. IV; Громыко М.М. Дохристианские верования в быту сибирских крестьян ХVIII–ХIХ веков // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства в ХVII — начале ХХ в. Новосибирск, 1975.
20 Широкогоров С.М. Этнос. Указ. соч.
21 Frobenius L. Die Geheimbünde Afrikas. Hamburg, 1894; Idem. Weltgeschichte des Krieges. Hannover, 1903; Idem. Unter den unsträflichen Athiopen. Berlin, 1913; Idem. Dokumente zur Kulturphysiognomik. Vom Kulturreich des Festlandes. Berlin, 1923.
22 Frobenius L. Paideuma. Münich, 1921.
23 Everett D. Don’t Sleep, There Are Snakes: Life and Language in the Amazonian Jungle. New York: Profile Books Ltd, 2008.
24 Иванов Вяч.Вс. Дуальная организация первобытных народов и происхождение дуалистических космогоний (рец. на кн. А.М. Золотарев, 1964) // Советская археология. 1968. № 4; Он же. Заметки о типологическом и сравнительно-историческом исследовании римской и индоевропейской мифологии // Semeiotike. Труды по знаковым системам. Тарту, 1969. Т. 4; Он же. Двоичная символическая классификация в африканских и азиатских традициях // Народы Азии и Африки. 1969. № 5; Он же. Бинарные структуры в семиотических системах // Системные исследования. Ежегодник. 1972. См. также: Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964.
25 Широкогоров С.М. Этнос.
26 Там же.
27 Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989.
28 См.: Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924; Он же. Теория гелиотараксии. М., 1980.
29 Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский мир, 1997; Он же. Реквием по этносу. М.: Наука, 2003; Он же. О нации и национализме // Свободная мысль. 1996. № 3.
30 Нухаев Х.-А.Т. Ведено или Вашингтон? М.: Арктогея-центр, 2001.
31 Различия между легальностью и легитимностью подробно изучал немецкий философ и юрист Карл Шмитт. См.: Schmitt C. Legalität und Legitimität. Munich, 1932.
РАЗДЕЛ 8
СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ
ГЛАВА 8.1
ПОЛИТИКА КАК ВЛАСТЬ. СТРУКТУРА И СТИХИЯ ВЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ
Политика в социологическом ключе определяется как то, что имеет отношение к стихии и структуре власти. Вся политика строится на власти, и политические структуры развертываются вокруг этой властной оси.
В политологии есть еще одно определение политики (политического). Это сознательное распределение ролей друг–враг1 (К. Шмитт). Карл Шмитт подчеркивает, что оппозиция друг/враг отличается от других оппозиций, таких как добро/зло (что относится к сфере морали), боль/наслаждение (что относится к чувственной сфере), Бог/дьявол (что относится к религии), красота/уродство (что относится сфере эстетики) и т. д. Пара друг/враг является политической, по Шмитту, так как предполагает возможность пересмотра в какой-то момент дистрибуции этих ролей, и друг может стать врагом, а враг–другом. Для этого необходимо освободить понятие «враг» (и «друг») от моральной, богословской и иных нагрузок, чтобы иметь возможность без ущерба для ценностных систем общества в любой момент переключить режимы отношения к другу/врагу.
При всей полезности и глубине такого определения политики оно не выделяет сущности политики как социологического явления, так как ничего не говорит нам о власти и ее структуре.
У Шмитта есть и другие теоретические построения, стоящие ближе к теме власти, — например, его теория «решения»2 (Entscheidungslehre) и связанная с ним теория суверенитета3. По Шмитту, «суверенен тот, кто принимает решение в чрезвычайных обстоятельствах»4. Решение — это и есть акт отправления власти; чрезвычайные обстоятельства представляют собой ситуацию, когда это отправление власти основано только на чистой воле правителя при отсутствии однозначных парадигм поведения, закрепленных в каком-то правовом (обрядовом, освященном традицией) кодексе (письменном или устном). Это определение уже ближе к сути дела, так как в основе его лежит власть, опирающаяся на саму себя, в условиях максимальной чистоты чрезвычайной ситуации.
ВЛАСТЬ КАК СТИХИЯ И ВЛАСТЬ КАК СТРУКТУРА
Политика есть власть как стихия и как структура. Как стихия власть сопряжена как раз с «принятием решения в чрезвычайных ситуациях» — в этих условиях она обнажается с наибольшей полнотой. Как структура власть представляет собой иерархическую организацию общества, ось, по которой возрастает количественный показатель власти.
В базовой (для социологии) модели социальной стратификации ось власти является одной из четырех главных осей, вдоль которых эта стратификация осуществляется. Структура же власти выстраивается вокруг этой оси и включает в себя совокупность властных институтов и властных отношений.

Схема 27. Власть как структура
Между властью как стихией и властью как структурой существует существенное различие. Власть как структура есть всегда и везде, во всех типах обществах и во всех социальных парадигмах. Поэтому политическое измерение наличествует в социуме как таковом и является его неотъемлемой частью. Можно построить чисто гипотетическую абстракцию «общества без власти» (анархия), но найти такое общество невозможно: все существующие общества — и архаические, и современные, и религиозные, и секулярные — строятся вокруг властной вертикали.
Власть как стихия, концентрирующаяся в максимальной степени на вершине властной оси, напротив, далеко не всегда присутствует в разных типах общества и свойственна только вполне определенным случаям. Номинально для этой стихии заведомо зарезервировано место в социальных структурах власти (но не во всех политических системах в равной степени), но возможность власти как стихии превращается в действительность только в особых случаях.
СОЦИОЛОГИЯ ЦАРЯ ДОЖДЕЙ
Чтобы пояснить эту тему, обратимся к теме «сакральных монархов», изученных в работах Дж. Фрэзера (в частности в «Золотой ветви»)5. Фрэзер рассказывает о существовании во многих архаических обществах особой социальной роли короля-жреца или царя стихий (Царя Огня, Царя Дождя и т. д.). Этот сакральный царь находится на самой высокой ступени иерархии, пользуется огромным почетом и уважением, но его главная задача — обеспечивать дождь, укрощать негативные природные условия, помогать урожаю расти, а скоту — размножаться. Этот высший представитель иерархии находится на вершине властной структуры, но полностью лишен власти как стихии.
Фрэзер приводит такие примеры:
«У некоторых племен Верхнего Нила, как известно, нет царей в обычном смысле слова. Единственные, кого они почитают за царей,— это Цари Дождя (Мата Кодоу), которым приписывается способность вызывать дождь в нужное время года, то есть в сезон дождей. До того как в конце марта начинаются дожди, страна представляет собой опаленную зноем, бесплодную пустыню, а скот — основное богатство народа — гибнет из-за отсутствия травы. Приближается конец марта, и глава каждой семьи отправляется к Царю Дождя и дарит ему корову, чтобы тот ниспослал благословенную воду на побуревшие, иссохшие пастбища. Если дождь не идет, люди собираются и требуют, чтобы царь дал им дождь; если же небо продолжает оставаться безоблачным, царю вспарывают живот, в котором он, как гласит поверье, скрывает ливни. <...>
Аналогичная должность существует и у племен, живущих на окраинах Абиссинии. Вот как описал ее один наблюдатель: „Обязанность жреца, алфаи, как его именуют барса и кунама, имеет одну замечательную особенность: считается, что он способен вызывать дождь. В прошлом такая же должность имелась у алгедов, и до сих пор она является обычным делом среди негров-нуба. Алфаи барса, к которому обращаются за помощью и северные кунама, живет со своей семьей в одиночестве на горе недалеко от Тембадера. Народ приносит ему дань одеждой и плодами и обрабатывает за него его большое поле. Он — царь царей, и должность его переходит по наследству к его брату или сыну сестры. Считается, что заклинанием он вызывает дождь и прогоняет саранчу. Если он не оправдывает ожиданий народа и в стране наступает продолжительная засуха, алфаи до смерти забивают камнями, причем первый камень обязан бросить в него ближайший родственник. Когда мы путешествовали по стране, должность алфаи все еще занимал один старик, но я слышал, что деланье дождя показалось ему делом слишком опасным, и он отказался от должности”.
В глухих лесах Камбоджи обитали два таинственных повелителя, известные как Царь Огня и Царь Воды. Слава о них разносилась по всему югу громадного Индокитайского полуострова. До Запада докатилось лишь слабое эхо этой славы. Насколько нам известно, их не видел ни один европеец, и само их существование могло бы сойти за басню, если бы они не поддерживали постоянную связь с королем Камбоджи, который из года в год обменивался с ними подарками. Выполняемые ими царские функции — чисто духовного или мистического порядка. У них нет никакой политической власти»6.
Фигура сакрального царя, которого забивают или зарезают, если он не сможет вызвать дождь, — причем с этим статусом часто, как показывает Фрэзер далее, накрепко связана идея о необходимости насильственной смерти, — представляет собой яркий пример разведения власти как стихии и власти как структуры. Царь Дождей — высший в обществе, но политическойвласти не имеет.
КАСТА В СОЦИОЛОГИИ Л. ДЮМОНА
На этом дифференциале строит концепцию касты социолог Луи Дюмон7. По Дюмону, само представление о касте отличается от сословия именно тем, что высшее место в структуре власти оторвано от возможности осуществления власти как стихии, то есть конкретного управления обществом. Это он прослеживает на примере индийского общества, где высшей кастой считаются брахманы, жрецы, ответственные за проведение священных ритуалов, молитв, обрядов, передачу Традиции. Кшатрии, воины, — вторая, более низкая каста. Но с точки зрения реального управления обществом вся власть сосредоточена именно в руках воинов, которые имеют прямое отношение к стихии власти, что контрастирует с их вторичностью в структуревласти. Именно такую дифференциацию Дюмон считает признаком кастового устройства — в отличие от других типов иерархий.
Это кажущееся противоречие можно разрешить, если пристальнее присмотреться к тому, как архаические или религиозные народы понимают саму стихию власти. Эта стихия мыслится ими как космическая, тотальная, управляющая одновременно Вселенной и обществом. Поэтому она делится логически на две составляющие — власть макрокосмическая, духовная(способность «вызывать дождь»), и власть социальная. Рене Генон8 называет это парой духовное владычество (l'autorite spirituelle — фр.) и временная власть (le pouvoir temporel — фр.). Макрокосмическая власть сакрального короля, «царя Немейского леса» у Фрэзера, вершины «структуры власти», относится к сфере духовных и природных (надсоциальных, сверхполитических) явлений. Стихия же власти в этносе, племени, обществе осуществляется представителями иной касты. С позиций современной науки идея вызывания дождя или заклинания духов представляется смехотворной, поэтому создается впечатление, что носители «духовного владычества» есть нечто условное, несущественное, и такое «владычество» фиктивно и ни к какой реальной власти отношения не имеет. Но с точки зрения членов традиционного общества эта область вполне реальна, так как после совершения обрядов дождь на самом деле (иногда) идет, а значит, священная власть налицо. Здесь друг на друга накладываются социальные системы двух типов — современная и традиционная. С позиций современного социума высшая каста, лишенная политической власти, к реальной политической власти не причастна. Но с позиций традиционого общества она вполне к ней причастна, так как сама власть включает в себя дополнительное измерение — потусторонний мир, иерархию состояний бытия, механизмы духовных и природных процессов, связанных в общую структуру, где действуют силы, аналогичные тем, что управляют жизнью общества. Понимание границ социума в традиционном обществе существенно шире, чем в современном (как шире современного понимание границ этноса в Премодерне и архаических племенах, что мы видели в предыдущей главе).
Отсюда следует, что вывод Дюмона о специфике кастового устройства может быть несколько скорректирован для общего случая общества: кастовая система власти помещает на высшую ступень ту социальную группу, которая ответственна за трансцендентную макрокосмическую власть, но строго отделена от вовлеченности в политику земного человеческого социума, то есть от стихии решения в насущных вопросах политической организации.
ПОЛИТИКА И ДЕЯНИЕ НЕДЕЯНИЯ
В таком случае различие между стихией власти и структурой власти может быть описано в более общей формуле. Структуры власти существуют всегда и везде, номинально концентрируя в себе возможность для тех, кто занимает в них верховное положение, проявить стихию власти (решение). В некоторых случаях реализация стихии власти сводится к минимуму — тогда вся жизнь строится на строгом соблюдении традиций и правил, а роль решения предельно умаляется.
Здесь снова следует вспомнить определение чрезвычайных обстоятельств Шмитта. К сакральному царю обращаются только тогда, когда возникают чрезвычайные обстоятельства в сфере природы — засуха, неурожай, падеж скота и т. д. Если Царь Дождя не помогает в этих чрезвычайных обстоятельствах, его убивают, приносят в жертву.
Точно так же и на следующей, более низкой ступени: обычные цари или вожди часто также проявляют свою власть (как стихию) только тогда, когда подступают чрезвычайные обстоятельства (нападение врага или решение о упреждающей агрессии, добровольное или вынужденное переселение и т. д.), а в остальных случаях правят лишь фактом своего присутствия. Китайская традиция называет это «деянием недеяния» Wu-wei9 и считает образцом для императора именно такой стиль правления: чем меньше император предпринимает усилий, тем лучше, все идет своим чередом. Вмешательство от него требуется только тогда, когда что-то в естественном порядке вещей выходит из своей колеи, сходит с орбиты. Вот тогда императору приходится принимать решения. И если он с этим не справляется, его также часто убивают — но уже по вполне светским, а не ритуальным причинам (на чем основана череда цареубийств, династических переворотов, составляющих огромный сегмент политической истории самых разных народов и обществ).
Кончина последнего русского царя Николая II может служить яркой иллюстрацией этих социологических закономерностей. Николай II в бытность свою царем осуществлял «деяние недеяния», колебался в решениях, перекладывал ответственность на традиции, устои или ближайшее окружение. При возникновении чрезвычайных обстоятельств он отрекся от престола, но так как этого оказалось недостаточно для прекращения смуты, он был зверски казнен со всей своей семьей (ритуальный аспект). И наконец, спустя некоторое время он был канонизирован церковью как мученик, то есть полностью сакрализирован. В нужный момент он «не смог вызвать дождь или остановить бурю». В этом примере мы видим полное расхождение власти как структуры и власти как стихии. Николай II стоял во главе властной структуры, но был свершенно чужд власти как стихии.
В последние годы существования СССР сходный сценарий повторился с Генеральным секретарем КПСС и Президентом СССР М.С. Горбачевым — с той лишь разницей, что Горбачев вместо «деяния недеяния» принялся заниматься перестройкой властной структуры, но нового не построил, а старое разрушил, вызвав «засуху вместо дождя».
ВЛАСТНЫЕ СТРАТЫ
Стратификация общества по оси власти позволяет выделить несколько социальных страт, которые различаются практически во всех известных обществах, хотя признаки и свойства самой стратификации и ее формы могут меняться. В самом общем виде встречающаяся как у архаических народов, так и в современных обществах властная стратификация может быть представлена в следующей схеме.

Схема 28. Стратификация по оси власти
Пунктиром на схеме обозначены варианты количественных пропорций между различными стратами в разных типах общества. Есть общества, в которых социальные маргиналы (рабы) преобладают количественно и составляют самую большую социальную страту, а есть такие, где их процент незначителен и страта свободных тружеников является наибольшей. Остальные же пропорции сохраняются практически везде — жрецов всегда меньше, чем воинов, а тружеников больше, чем жрецов и воинов, вместе взятых.
ВЛАСТНЫЕ ИНСТИТУТЫ: САКРАЛЬНЫЙ ЦАРЬ
Определяя ось власти, мы говорили о властных институтах и властных отношениях. Властными институтами являются такие социальные организации, которые упорядочивают властную структуру общества, распределяют сферы властных полномочий в их связи с различными видами жизнедеятельности, выстраивают закрепленную обычаем или законом организационную вертикаль. В примитивных обществах властные институты тяготеют к интеграции в общую модель социума и срастаются с ней.
Король-жрец воплощает в себе и жреческие, и царские функции и является вершиной властной вертикали. Однако стихия власти этой фигуры настолько «возвышенна» (так как относится к макрокосмическим явлениям), что в некоторых случаях может пропадать из поля зрения или утрачивать свое значение. В этом случае место короля-жреца занимает просто жрец или верховный жрец. Так происходит, если трансферт функции идет по линии жречества. В других случаях магические функции царя-жреца могут передаваться обычному вождю или царю, обладающему стихией социальной власти. Так было в случае римских императоров, считавшихся одновременно и первожрецами культа Юпитера в Римской империи, у древнегерманских вождей, считавшихся одновременно и главными жрецами племени, и во многих других случаях. Так, Лев Гумилев считает, что второй по счету великий русский князь, «вещий Олег», был таким царем-жрецом, а его имя собственное — скандинавское Helgi — означает титул «священник», от немецкого «heilig»; при этом эпитет «вещий» есть не что иное, как славянский перевод этого титула10.
Подробно тематику сакральных функций, сохранявшихся за европейскими монархами уже в христианскую эпоху, исследовал историк Марк Блок11. О «царстве пресвитера Иоанна», то есть о царе-жреце, правившем великой империей, затерянной в просторах Азии, в Средневековье ходили многочисленные легенды12.
Функция царя-жреца представляет собой важнейшую черту политики в ее архетипическом изначальном выражении — на вершине властной пирамиды предполагается синтез всех властных функций, замыкающий социальную иерархию на иерархию космическую, где управление людьми сливается с управлением стихиями. В этой синтетической функции проявляется высший смысл политики как выражения стихии власти.
В чистом виде социального института сакрального царства мы почти никогда не встречаем. А его своеобразные пережитки подробно каталогизировал Фрэзер в своем исследовании о царе Немейского леса13, цитаты из которого мы уже приводили. Причем очевидно, что исследуемые им случаи представляют собой рудимент какого-то властного института, от которого остались лишь отдельные предания, фрагменты, так или иначе смещающиеся либо в область жречества, либо в область обычной царской (королевской) власти. Более подробно смысл и функции этой фигуры и ее социальной роли в религиозных учениях исследовал Рене Генон14.
В любом случае в логической схеме властной стратификации место для института «сакрального царя» следует зарезервировать как важнейший социологический топос, где подчеркивается максимальное слияние властных функций.
ЖРЕЧЕСТВО КАК ВЛАСТНЫЙ ИНСТИТУТ
С точки зрения социальной стратификации жречество можно отнести к властному институту во многих случаях. При этом стихия власти жрецов простирается на отдельные стороны социальной жизни, связанные с отправлением ритуалов, свадебными и похоронными обрядами, коллективными церемониями, излечением, контактами с «мирами», находящимися по ту сторону привычного социального круга, — с духами, богами, силами природы, зверями, растениями и т. д. Власть жреца распространяется на тот более широкий контекст, в который помещен социальный человек вместе со всем социумом. Поэтому в компетенцию жрецов входило управление процессами, которые были за чертой социального круга или во внутреннем мире членов социума. Социум можно представить как пространство, ограниченное (несоциализированной или не до конца социализированной) природой вовне и «невидимым миром» внутри людей. В этих областях, номинально не доступных социуму напрямую, развертываются властные функции жречества и его институтов.
Жречество согласовывает социальную жизнь с закономерностями и требованиями внечеловеческого мира, скрытого в душе или лежащего за социальным горизонтом. Поэтому в компетенцию жрецов входили:
• коммуникация с потусторонним;
• предсказания грядущего;
• осуществление обрядов, в первую очередь похоронных (проводов человека на ту сторону) или свадебных (в результате чего в общество должны были прийти «с той стороны» новые члены — дети);
• выполнение функций целительства (так как причины болезней и патологий в традиционном обществе виделись «на той стороне»).
Эти жреческие функции имели в архаических и религиозных обществах (в Премодерне) именно властный характер, так как считалось, что жрецы способны повелевать духами, управлять стихиями, реализовывать властный потенциал для осуществления социально значимых действий. Поэтому в обществе в целом институт жречества вплоть до Нового времени относился к властным институтам, а его члены пользовались всеми привилегиями, даруемыми властью.
Однако, как мы видели выше, качество власти жрецов было весьма специфичным и касалось сплошь и рядом потусторонних или макрокосмических «материй», что и приводит некоторых современных исследователей в замешательство относительно того, чтобы полноценно причислить институт жречества (или шаманства) к полноценной иерархии властных институтов. Не веря в «потустороннее», современный исследователь не способен понять, в чем же состоит властное начало колдунов и шаманов. А кроме того, фундаментальное изменение социальной функции религии в Новое время при переходе к секулярному обществу, отделение церкви от государства, делает причисление жречества к властной оси проблематичным.
Решение здесь весьма простое. Жречество представляет собой полноценный властный институт в обществах Премодерна. Такое утверждение абсолютно корректно со всех точек зрения.
ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ И ВОИНЫ
Царская власть и страта, состоящая из воинов, представляют собой классический властный институт, являющийся образцом для всех властных институтов в целом. Царская власть связана с фундаментальным действием — принуждением. По сути, царь и его дружина, гвардия, войско являются носителями легализированного и легитимного насилия.
П. Сорокин15 выделяет три основных типа социальных отношений:
• семейные, основанные на взаимодоверии, интимности, восприятии всей семьи как единого целого;
• договорные, в основе которых лежит формализованный контракт одного члена общества с другим;
• принудительные, где доминирует насилие, навязывание одними своей воли другим.
В царской власти и институте власти вождя, правителя и т. д. преобладает третий тип отношений. Царская власть строится на силовом принуждении. Это принуждение составляет суть институализации и самого царя, и того класса, который способствует ему в осуществлении основных функций. Воины суть выразители социального насилия.
Насилие царской власти имеет две принципиальные сферы применения — внешнюю и внутреннюю.
Царь является военачальником и предводителем воинов, которые призваны отражать нападения внешних врагов и осуществлять нападения сами. Это насилие, обращенное вовне от социума. Задача воина — воевать, то есть осуществлять акты насилия и устанавливать принудительные отношения с противником или, в случае защиты, насильственным же образом предотвращать то, чтобы внешний противник установил отношения насилия с данным обществом, частью которого является воин. Воевать с внешним врагом, убивать, калечить, наносить ущерб, разрушать, побеждать и грабить покоренного противника, отбирая его имущество, скарб, ценности и женщин — изначальная социальная функция воинов как социальной властной страты. Царь олицетворяет эту роль, поэтому часто в летописях победы, одержанные армией, народом, ополчением, метонимически приписываются царю, вождю, предводителю — даже в том случае, если он не принимал лично участия в походе или в военных действиях и даже не руководил ими на дистанции.
Вторая форма нормативных действий института царской власти есть реализация насилия внутри социума. Это насилие применяется в тех случаях, когда какие-то социальные элементы выступают против сохранения существующего порядка, стремятся оспорить данный уклад или нарушают нормативное функционирование социальных процессов. Иногда речь идет о противоречиях групп, родов, отдельных индивидуумов, которые не разрешаются мирно, сами собой и требуют вмешательства высших инстанций — то есть суда, разбирательства и вынесения необратимого решения. Полицейские, судебные и репрессивные функции составляют вторую половину задач царской власти, обращенных вовнутрь и предполагающих в некоторых случаях применение насилия против членов собственного социума, к которому принадлежит этот институт.
ИНСТИТУТ ТРУЖЕНИКОВ
Третья ступень властной стратификации включает в себя подавляющее большинство членов социума (за исключением воинов, объединенных в отдельный социальный институт — дружину или регулярное войско), занимающихся хозяйственной деятельностью — производством продуктов питания, инструментов, иных материальных ценностей. Здесь преобладающим типом социальных отношений являются семейные и договорные. Семейные отношения регулируют взаимодействие между собой хозяйствующих единиц в рамках большой семьи или рода. Договорные отношения преобладают в отношениях между родами, фратриями, отдельными хозяйствующими субъектами общества, не связанными между собой семейными узами.
В этой социальной страте преобладают институты, сопряженные с обменом и материальными ценностями. Данные институты — в форме обычаев, традиций, правовых уложений и особых договорных структур — призваны упорядочивать характер обладания материальными предметами (собственностью), циклы обмена, систему обязательств сторон в отношении друг друга.
Классическим примером такого института является крестьянская община, или «мир», где совокупность тружеников коллективно решает вопросы землепользования, распределения наделов, пастбищ, угодий, разрешает коллизии хозяйствующих субъектов, коллективно выполняет ряд обязательств перед высшими стратами (воинами и жрецами) в виде оброка, десятины, дани, поставки рекрутов для ополчения и т. д.
Эта модель усложняется при переходе к ремесленничеству и посадским концам, имеющим более узкий профессиональный профиль, так как здесь в дело вступают менее симметричные и более разнородные отношения, связанные с узкой специализацией, что порождает дополнительные институты — цеха, артели и другие профессиональные ассоциации. И наконец, появление торговцев (купцов, «гостей») еще более усложняет структуру функционирования этой страты, так как институционализированный и многоплановый обмен (в том числе через посредство денег или их товарного эквивалента) переводит договорные отношения на новый уровень.
Совокупность социальных отношений внутри этой страты носит номинально мирный, непринудительный характер. Во властную вертикаль эта страта включается как объект властных отношений, будучи вынужденной при определенных обстоятельствах подчиняться насилию со стороны царя и воинов. Это насилие может быть результатом судебного вмешательства власти в спор хозяйствующих субъектов, который невозможно решить без апелляции к высшим инстанциям. В других случаях принудительные взаимодействия осуществляются при сборе налогов, дани и т. д. И наконец, эта страта выступает объектом применения силы в тех случаях, если ее представители стремятся изменить существующий порядок вещей или отказываются выполнять требования высшей страты.
В определенных случаях члены страты хозяйствующих субъектов могут также выступать носителями властного начала, в том числе в его принудительно-насильственном проявлении — либо в рамках патриархальной семьи (где глава семейства часто имеет легальное право на насилие над женой и детьми, а также младшими родственниками), либо по отношению к низшей — четвертой — страте, к которой в некоторых обществах принадлежат рабы (как правило, пленные враги), холопы или закупы (лица, утратившие экономическую самостоятельность или добровольно продавшие себя в рабство). Показательно, что и члены семьи, и холопы включались в Древней Руси в общую социальную категорию — «челядь» (от слова «чадо» — «маленький», «ребенок»), и все они считались подчиненными главе семьи. Ниже тружеников стояли также различные маргиналы (изгои, парии, неприкасаемые и т. д.). Над этой четвертой стратой представители третьей страты имеют власть, сопоставимую с той, которую имеют над ними самими воины.
Институты страты тружеников и купцов носят преимущественно экономический характер и связаны с регламентацией материальной деятельности.
Контрольные вопросы
1. Расскажите о том, как вы понимаете стихию власти и структуру власти. В чем основное отличие?
2. Что такое каста по Л. Дюмону?
3. Назовите основные властные институты в древних обществах.
ГЛАВА 8.2
СОЦИОЛОГИЯ ЭЛИТЫ
ЭЛИТА И МАССЫ
Социолог Вильфредо Парето16 предложил свою модель социальной топики властных отношений17. Смысл данной топики в том, чтобы обобщить структуризацию властного треугольника в дуальной схеме элиты–массы.
Модель, аналогичную модели Парето, разработал другой итальянский социолог, Гаэтано Моска18. В отличие от Парето он предпочитал название «политический класс» термину «элита», меньше внимания уделял экономическим факторам (Парето же начинал как экономист), подчеркивал многовекторный процесс формирования «политического класса», куда он включал религиозных деятелей и ученых.
К тому же спектру идей относятся концепции Роберта Михельса19, бывшего в юности горячим сторонником «прямой демократии» и постепенно пришедшего к выводу относительно того, что любая демократическая система рано или поздно становится олигархией, где правящий класс (элита, политический класс) стремится перевести свою власть в наследственную и неотчуждаемую.
На всех трех авторов повлиял швейцарский экономист Леон Вальрас (Парето возглавлял позже его кафедру в Лозанне), учивший (вопреки Марксу видевшему общество в диалектике и динамике), что главным законом общества является принцип равновесия. На признании равновесия главным свойством социальной структуры основаны теории Парето, Моски и Михельса.
Теория этих авторов сводится к констатации неизменности (перманентизма) политической составляющей социальной структуры, которая независимо от своих идеологических и политических заявлений остается идентичной на всем протяжении мировой истории. Парето называл историю «кладбищем аристократий» (понимая под аристократией правящий класс или элиту).
Эта схема социологии власти исходит из того, что члены общества наделены изначально разными качествами — логическими и нелогическими (Парето называл их инстинктами или остатками — residui). Нелогические качества формируют определенные типы, которые делятся на активное меньшинство и пассивное большинство. Активное меньшинство составляет элиту. Пассивное большинство — массу. Так дело обстоит во всех типах обществ независимо от того, какой идеологии они придерживаются — демократической, монархической, тоталитарной, светской или религиозной.
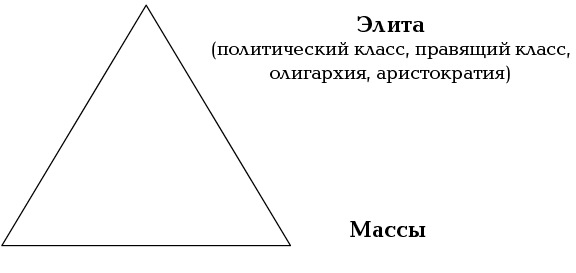
Схема 29. Общества Парето, Моски, Михельса
РОТАЦИЯ ЭЛИТ
Парето учил также о ротации элит. Этот процесс связан с тем, что правящая элита стремится закрепить свое положение в обществе навсегда и передать власть своим потомкам. Механику закрепления за конкретными элитами позиции на верхних этажах подробно изучал Моска, связывая, в частности, иерархию власти с иерархией образования, престижа и богатства, то есть рассматривая совокупно все четыре социологические оси и толкуя их как вспомогательные к основной властной вертикали.
И Парето, и Моска, и Михельс подчеркивают, что на пути к власти, а подчас — находясь у самой власти, элитарные типы ясно осознают общность своих целей, формируют коалиции, сплачивают свои усилия для реализации политического господства. Формирование элиты является, таким образом, социально-психологическим процессом.
По Парето, эта фиксация элит рано или поздно приводит к тому, что правящая элита вырождается, ее потомки утрачивают качества, приведшие первых носителей элиты к вершине власти. Моска говорил о том, что изменение социальных систем делает представителей устойчивых элит неадекватными новым вызовам, что дает сходный результат. Закрытая от приема новых членов правящая элита постепенно ослабляет политическую систему. На противоположном конце — в области маргинальности — формируется контрэлита, которая начинает борьбу за власть. В какой-то момент противоречия достигают решающей точки, и контрэлита свергает старую элиту и сама становится правящей элитой. Далее весь цикл неизменно повторяется снова.
В такой ситуации свойство элиты выражается либо в факте нахождения на вершине властной структуры (правящая элита), либо в обладании внутренней жаждой власти, вкусом к стихии власти (элита как таковая может находиться и на вершине властной структуры, и на социальном дне, откуда она стремится любой ценой вырваться и достичь вершин власти). Насыщение вершин властной структуры носителями властной стихии — из какого бы социального сектора они ни поднялись — называется ротацией элит.
Ротация элит может происходить и мирным способом, если у правящей элиты достанет логических качеств для осознания того, что полная закрытость власти для новых сил и энергий контрэлиты неминуемо приведет к ее краху. Но Парето считал, что люди редко руководствуются логическими умозаключениями и чаще всего действуют на основании инстинктов — остатков и дериваций.
ВОЛЯ К ВЛАСТИ
В области философии Фридрих Ницше обосновал движущий импульс представителя элиты, аристократа как волю к власти20. Согласно Ницше, воля к власти не есть производная от каких-то других качеств и свойств — стремления к комфорту, обогащению, не говоря уже об идеалистических и идеологических мотивах. По Ницше, воля к власти есть основа бытия, движущая сила жизни, выстраивающая все согласно вертикальной иерархической оси. Воля к власти первичнее, чем человек или политика. Она порождает человека и политику как проявление своих жизненных потоков. Поэтому человек, считает Ницше, есть только одна из стоянок развертывания этой воли к власти, момент в ее самоутверждении через войну и агрессию. Эволюция видов становится здесь метафорой выстраивания властной вертикали. Фигура льва как царя зверей сменяется фигурой играющего ребенка (образ из текстов Гераклита21). Человека как наиболее агрессивное и стремящееся к власти существо, в свою очередь, призван сменить сверхчеловек, носитель все той же воли к власти, но уже в более чистом и кристаллизованном виде.
Воля к власти необъяснима, это она объясняет все. Таким образом, согласно Ницше, социальные и политические процессы приобретают смысл, будучи помещенными в систему координат этой всеобъемлющей жизнеутверждающей воли.
Предвосхищая конструкции Парето, Моски и Михельса, Ницше писал о «морали господ» и «морали рабов», полагая, что существует онтологическая иерархия между двумя типами людей: в одних воля к власти доминирует, энергия жизни бьет через край (они-то и представляют собой «господ», свободно развертывающих свое стремление к доминации), в других она едва тлеет. (Это относится к «рабам», готовым терпеть над собой тех, кто решительно ставит на их голову свой господский сапог.)
РАБ И ГОСПОДИН В ФИЛОСОФИИ ГЕГЕЛЯ
Важный вклад внес в проблематику власти Гегель. В «Феноменологии духа»22 он выводит фигуры Господина и Раба из их отношения к смерти.
«Индивид, не подвергающий опасности собственную жизнь, — пишет Гегель, — вполне может быть признан личностью (в абстракции); при этом он не достигает истинности подобного признания как независимого самосознания»23. Согласно Гегелю, каждое самосознание структурно нуждается в другом самосознании, и их борьба должна иметь исходом не смерть одного из них, но подчинение одного другому.
Так рождаются различие между Господином и Рабом и диалектика их отношений. В поединке Господин подвергся смертельному риску и, победив, стал хозяином. Раб убоялся смерти и, потерпев поражение, спасая свою жизнь, согласился с положением раба и превратился в некую «вещь», зависимую от Господина. Господин эксплуатирует Раба, принуждая его работать на себя, и довольствуется потреблением тех предметов, которые производит для него Раб.
Далее у Гегеля вступает в действие диалектика, так как господин впадает от раба в зависимость, поскольку он пользуется произведенными тем предметами, а сам их не создает. Раб же, научившись производить предметы для господина и почувствовав его зависимость от этого производства, может воспользоваться ситуацией и перевернуть отношения господства. На этом фрагменте из раннего Гегеля Маркс, его ученик, основал свое революционное учение.
Но если оставить в стороне диалектику, мы увидим в «Феноменологии духа» один важнейший элемент, подробно изученный — хотя и в особой, либеральной перспективе24 — философом-гегельянцем А. Кожевым (1902–1968). Это тема смерти как той категории, на сопоставлении с которой происходит фундаментальная сепарация социальных, социокультурных и, далее, политических типов. Когда Гегель говорит о поединке и о «победе» Господина над Рабом, он описывает не только исторический контекст формирования рабства (рабами чаще всего становились воины побежденного противника или захваченное в ходе военных действий население, оказавшееся неспособным себя защитить), но и глубинные механизмы развертывания особых антропологических типов. Борьба — это не борьба между Господином и Рабом, это борьба между Господином и смертью, вызов которой он принимает и от которой увиливает, в свою очередь, Раб.
ЧАРЛЬЗ МИЛЛС: ВЛАСТВУЮЩАЯ ЭЛИТА
Среди теорий элит следует упомянуть идеи американского социолога Чарльза Райта Миллса (1916–1962), который описал структуру американского общества как абсолютно недемократического режима, где безраздельно правит подавляющее меньшинство, передающее власть по наследству и умело манипулирующее общественным мнением, внушая массам иллюзию демократии. Миллс называет это меньшинство «power elite» — «властвующая элита»25.
Детальное исследование Миллсом правящих кругов США в области экономики, политики, СМИ, культуры, науки позволило ему описать структуру «властвующей элиты», в центре которой находятся всего несколько семейств потомственных банкиров и политиков, а вокруг концентрическими кругами располагаются зоны обслуживающего персонала — высокопоставленные менеджеры, журналисты, ученые, интеллектуалы, чиновники, поддерживающие это властное ядро, распространяющие социальные мифы, моделирующие потоки информации, управляющие образами общественного мнения и т. д.
В США идеи Миллса были признаны «экстремистскими», но с точки зрения социологической теории он, по сути, не сказал ничего нового — его концепции суть применение принципов Парето, Моски, Михельса к американскому обществу. Фактически главное достижение Миллса в том, что он дал точное и детальное социологическое описание политического класса, элиты или олигархической верхушки США, разоблачив тем самым многие «демократические» претензии. Ранее то же самое проделали Парето, Моска и Михельс применительно к европейской демократии начала ХХ века.
АЛЛОГЕННАЯ ЭЛИТА У Л. ГУМПЛОВИЧА
К этому же спектру социологии элит следует отнести неоднократно упоминавшиеся нами идеи Людвига Гумпловича, учившего о расовой борьбе26. В предыдущем разделе мы показали, что он имел в виду под расой этнос. Согласно Гумпловичу, стратификация власти в любом обществе отражает исторический факт этнических завоеваний, осуществленных предками правящего класса автохтонов, представляющих социальное большинство. Этот принцип получил название «принцип аллогенной элиты». Согласно этой теории, элита в любом обществе имеет иноэтническое происхождение. Активные победители формируют высший класс и присваивают себе власть, которую позже передают по наследству.
Завоеватели несут с собой, как правило, свой язык, свою мифологию, свой социокультурный тип, и следы этого можно увидеть даже спустя много поколений. Постепенно элита завоевателей все же смешивается с завоеванными массами, в результате чего формируется новый социокультурный тип.
Элита завоевателей основывает свою власть не просто на факте своей победы и превосходстве в силе, но и на отстраненности от внутриэтнических процессов в том обществе, которое они завоевали. Этнос, как мы видели, тяготеет к определенному балансу, повязан множеством отношений между фратриями, а также с окружающим миром. Пришельцы-завоеватели — особенно на первых порах — совершенно свободны от этих ограничений и способны принудить массы делать то, на что представители местной власти никогда не решились бы или что просто не пришло бы им в голову. Завоеватели легко способны осуществить религиозную реформу, начать строить новый тип государственности, приступить к серии завоевательных походов, ради чего потратить огромные материальные и человеческие ресурсы, не заботясь особенно о возможных потерях и реакции местного населения.
Дистанция аллогенной элиты по отношению к местным автохтонным массам раскрепощает их властную стихию, которая переверстывает под себя властные структуры.
В терминах К. Шмитта, «аллогенная элита» действует в режиме чрезвычайного положения27 и постоянно демонстрирует свой суверенитет, свое качество Господ перед лицом (точнее, спиной) покоренных врагов, превратившихся в подданных.
ДУАЛЬНОСТЬ В ТРЕХЧАСТНОЙ СИСТЕМЕ Ж. ДЮМЕЗИЛЯ
В работах Жоржа Дюмезиля28 исследуются древнейшие модели социального устройства индоевропейских обществ, которые сводятся к общей трехчастной модели, что строго соответствует трем выделенным нами социальным стратам власти. По Дюмезилю, это триада жрецы–воины–труженики. Каждой касте соответствуют свои боги, ритуалы, социальные кодексы, типы богослужений и жертвоприношений, этические модели. Жрецы и воины составляют элиту. Труженики — массу. И хотя властные структуры включают в себя все три страты трехчастной модели, можно увидеть серьезное различие между двумя высшими стратами (жрецы и воины) и низшей.
В истории Рима аллогенность элиты подчеркивается хрестоматийной историей с похищением сабинянок и последовавшими за этим событиями. Собственно, потомки Ромула описаны в истории как образцовые воины, носители диурнического начала. Их преимущества — сила, мужество, смелость. Их недостаток — отсутствие материальных благ и женщин. Они поклоняются богам светлого неба — Юпитеру Статору и Марсу.
Сабиняне, напротив, представляют собой автохтонов Италии, местное население. Они землепашцы и создатели материальных богатств. Их боги — боги плодородия, Квирин и богини-матери. У них в избытке продуктов, богатств и женщин. Налицо все признаки феминоидной культуры и режима ноктюрна.
Потомки Ромула хитростью похищают сабинянок, после чего начинается война между этими двумя социокультурными, этническими и психологическими группами. Показательно, что царю сабинян Титу Татию удается проникнуть на Палатинский холм, подкупив весталку Тарпею (представительницу мускулиноидного аскетичного женского жречества). В результате вмешательства жен римлян и дочерей сабинян враждующие стороны заключают мир и объединяются. Так возникает трехчастная модель римской государственности — властные структуры Рима. Во главе встают жрецы (flamen) и цари (rex), поклоняющиеся диурническим богам Юпитеру (скипетр) и Марсу (меч). Третья страта — землепашцы, ремесленники и торговцы со своим культом Квирина. Каждому богу соответствует своя группа жрецов: Юпитеру — понтифексы, Марсу — салии, Квирину — квириты.
Ту же трехчастную модель Дюмезиль вскрывает во всех индоевропейских обществах, и почти везде между двумя высшими стратами (элитой) и третьей стратой (массами) можно заметить различие либо в этнической составляющей (элиты — пришельцы, массы — автохтоны), либо — что важнее! — в культурном коде (элиты — диурн, массы — ноктюрн). В терминах Фробениуса можно выразить эту мысль иначе: элиты — носители теллурической пайдеумы, массы — хтонической.
Оппозицию между элитами и массами заметил еще Анри де Булэнвилье (1658–1722), описавший историю Франции как дуальную модель отношений германской элиты франков и автохтонов галлов29. Историк А. Пиганьоль30 исследует в этом же дуалистическом ключе всю культуру Средиземноморья, обнаруживая там повсюду дуальный код — героическую культуру пришельцев и миролюбивую трудовую культуру автохтонов. В германском мифе этому соответствуют воинственные асы и миролюбивые ваны, хранители богатств и знатоки магии (типично ноктюрнические черты).
ДИУРН И ГОСПОДСТВО
Во всех описанных выше теориях, так или иначе относящихся к социологии элит, в глаза бросается основной признак качественного определения принадлежности к элите. Показательна мысль Аристотеля в «Политике»31: «Господином называют не за знания, а за природные свойства». Эта принадлежность при всех различиях упомянутых версий сводится к выявлению особого типа людей, которых, по Гумилеву, можно назвать пассионариями, а в терминологии Дюрана — носителями мифа диурна.
В философии Гегеля это заметно нагляднее всего. Диурн есть имажинэр, посмотревший в лицо времени и смерти, принявший вызов и отказавшийся от того, чтобы эвфемизировать противника.
Отсюда основной символ диурна — меч, стрела, скипетр. Основные боги — царь Юпитер и воин Марс. Основные жесты — подъем, взлет, бой.
Иными словами, элита как тип представляет собой носителей героического начала, развертывающегося из доминанты постурального рефлекса и чаще всего выбирающего идеационные (по П. Сорокину) типы социокультурной реализации. Господин у Гегеля тот, кто рискует, то есть идет к смерти с широко открытыми глазами. Раб же не выдерживает этого столкновения, увиливает от него, переключает режим в пользу эвфемизма, смягчения, литоты, миниатюризации проблемы. И если даже Господин не побеждает смерть, он точно покоряет Раба, наступая ему на голову, бросая его помимо его воли в траекторию своей военной кампании против смерти, не обращая внимания на его протесты. Раб движется к смерти спиной. Господин — лицом.
Все это точно относится к элитам и массам. Элиты представляют собой законченный тип в той степени, в какой они сочетают волю к власти с готовностью вести прямой диалог со смертью. Это и есть их главное утверждение в социуме, а конкретные приемы (завоевание, политическая борьба, революции, интриги, династические перевороты, смены идеологических формаций и т. д.) имеют второстепенное значение. Элиты влекомы импульсом диурна и подчиняют этому импульсу свои социокультурные стратегии.
Массы в описании Парето и рабы у Гегеля и Ницше точно соответствуют режиму ноктюрна: в них преобладают смягчение, компромисс, осторожность, осмотрительность, но также и основательность и гармония. Массы устойчивы, элиты склонны рисковать всем.
ДЕГРАДАЦИЯ ЭЛИТ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ
Когда Парето и Моска говорят о причине смены элит, оба они довольно подробно описывают, каким образом правящие элиты утрачивают элитарные качества. Они замыкаются в себе, стремятся удержать клановые позиции на высших этажах любой ценой — даже ценой компромиссов и утраты влияния государства и общества во внешней среде. Они перестают чувствовать и осознавать свою социальную однородность, теряют солидарность с другими представителями правящей элиты, втягиваются в изматывающую конкуренцию с иными родами и кланами. В идеологической сфере они утрачивают ясность концепции, отчуждаются от комплекса тех идей — религиозных, политических или социальных, — под знаменем которых пришли к власти.
С позиций социологии глубин можно сказать, что эти явления стагнации и деградации элит тесно связаны с переключением режима воображения. От диурна имажинэр переходит к ноктюрну — вначале драматическому (тогда элиты начинают становиться все более склонными к эротизму, изящным искусствам, пластике, культуре), а затем и мистическому, когда они впадают в пассивную женственную меланхолию. (По Сорокину, можно сказать, что, деградируя, элиты переходят к идеалистическому, а затем и к чувственному типу.) Когда ситуация достигает критической стадии, система рушится, а старые элиты сметаются новыми — либо поднявшимися изнутри общества (контрэлита), либо завоевывающими это общество извне (оккупация).
Структуры ноктюрна несовместимы с реализацией элитных функций в обществе. Когда элиты перестают жить и действовать в стихии воли к власти, в режиме диурна, они утрачивают свои элитные свойства и фактически подписывают сами себе смертный приговор. Это, как правило, сопровождается крахом того общества и той политической модели, где они доминировали, хотя иногда новые элиты сохраняют и восстанавливают прежнюю политическую структуру, наполняя ее новой властной стихией и новой энергией.
ЛОГОС И ЭЛИТЫ
Практически все версии теории элит исходят из того, что в процессе движения к власти и осуществления власти логос играет второстепенную роль. Воля к власти у Ницше первичнее, чем логос. Господство есть жизненный инстинкт врожденных «господ», независимо от того, занимают ли они высшие страты в обществе или остаются контрэлитой. Тот же Ницше писал, что он предвидит время, «когда лучшие аристократы будут занимать в обществе низшие позиции»32.
Точно так же и в других теориях элиты логос считается дополнительным фактором, который не имеет отношения к сущности власти. Так, Парето подчеркивает, что свойства элитарного типа определяются не логическими, а инстинктивными качествами, которые он называл остатками (residui) и выстроенными на этих «остатках» вторичными конструкциями (деривациями).
В топике нашего изложения легко можно отнести эти «остатки» и «жизненные инстинкты» к области мифа, причем, как мы только что видели, речь идет о мифе диурна.
Однако сам логос рождается из мифа о диурне, и они тесно связаны между собой. Чтобы разобраться в теме первичности диурнического мифа и роли логоса в политике, можно снова обратиться к определению политики, данному в начале этого раздела: «Политика есть структура власти и стихия власти». То, на чем ставит акцент теория элит, относится в первую очередь к стихии власти. Стихия власти (воля к власти) относится к мифу, к сфере бессознательного, к героическому архетипу — причем в его дологическом фундаментальном качестве. Она-то и составляет внутреннюю энергию, превращающую человека в господина. Это диурн как миф.
А вот структуры власти, развернутые вдоль вертикальной оси господства, относятся к логосу, так как фиксируют властные отношения в институтах, социальных системах, нормативных правовых актах или в обычаях и традициях. Стихия власти в чистом виде проявляется лишь в форме диктатуры (по Шмитту, в суверенной диктатуре33) или тирании. Кроме того, движимая волей к власти, контрэлита в определенных случаях может для свержения правящей элиты и ее замещения выдвинуть политические, религиозные, идеологические или династические принципы, предполагающие утверждение властных структур, альтернативных существующим. Но на следующем этапе и новые элиты, если им удастся опрокинуть старые, снова фиксируют идеи, под знаменем которых они захватили власть, в новых властных структурах, выстроенных в соответствии с логосом и закрепляющих власть и властные отношения в моделях, до определенной степени отчужденных и автономных от непосредственной стихии власти (в ее мифологическом и чисто диурническом состоянии).
Таким образом, можно обнаружить определенные трения между логосом власти (воплощенным во властных структурах) и мифом власти (проявляющимся через диурн, через власть как стихию).
Контрольные вопросы
1. В чем состоит сущность теории элит В. Парето?
2. Что такое ротация элит?
3. Как соотносятся элиты с логосом?
ГЛАВА 8.3
ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СОЦИОЛОГИЕЙ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТОЛОГИЕЙ
Социологический взгляд на политику существенно отличается от политологического. При анализе того или иного политического явления политолог вынужден основное внимание уделять тем политическим лозунгам, программам, идеям, заявлениям, которые выдвигают те или иные силы, тщательно исследовать содержание идеологий, следить за изменениями в правовых и административных нормативах, отмечать эволюцию политических институтов и т. д.
Социолог может отстраниться от всего этого и выделить в политике лишь те аспекты, которые скрываются за перипетиями политической динамики и борьбы идей, но составляют социологическую сущность политических процессов. Социолог выделяет структуры власти, фокусирует свое внимание на оси, вокруг которой ведется динамичная политическая жизнь. Поэтому теория элит, которая является одной из форм политологического анализа, в социологии приобретает центральное значение.
Теория элит — это социологическая теория политики, выделяющая в качестве основного критерия структурную константу властной вертикали общества, властную стратификацию, и оперирующая с ней при анализе самых различных типов общества — как архаических, так и современных.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПО АРИСТОТЕЛЮ
Наряду с теорией элит существует также социологическая теория политических режимов, которая восходит к Аристотелю и его классификации типов власти. Питирим Сорокин в своем основном труде «Социальная и культурная динамика»34 обратил внимание на то, что идея политических моделей, сформулированная Аристотелем, вплоть до настоящего времени нисколько не утратила своей таксономической актуальности и вполне может быть применена к социологическому анализу всех известных нам политических систем. Если понимать Аристотеля буквально, то сегодня мы не встретим ни тиранов, ни аристократических режимов, какими они были в греческих полисах. Но как социологические типы все они существуют и по сей день, хотя подчас называются новыми именами и вуалируют свою простую социологическую структуру сложнейшими политико-идеологическими и экономическими деталями.
Так, П. Сорокин напоминает о шести типах политического устройства, выделенных Аристотелем в его «Политике»35. Эти шесть типов Аристотель делит на две части: три положительные и три отрицательные. Они делятся по признаку количества носителей власти в каждой из систем.
Три положительные формы таковы:
1) монархия (власть одного лучшего);
2) аристократия (власть нескольких лучших);
3) полития (власть многих политически полноценных граждан, имеющих «тяжелое вооружение»).
Три отрицательные выглядят таким образом:
1) тирания (жестокое правление правителя-индивидуалиста, демагога);
2) олигархия (власть нескольких людей, родов, но далеко не лучших и чаще всего с опорой на деньги);
3) демократия (власть городских окраин, населения, черни, сброда, голодранцев).
Совершенно очевидно, что со структурной точки зрения это не шесть самостоятельных типов политической организации общества, а всего три, но взятые в положительной (идеальной) и отрицательной (уничижительной) версиях.
Монархия как положительная модель правления превращается в тиранию, если монарх начинает использовать свою власть неподобающим образом. Аристократия становится олигархией, если правящее меньшинство утрачивает свои позитивные качества, делающие его лучшим, и правит посредством интриг, склок и коррупции. Полития деградирует до демократии (для Аристотеля она была худшей из систем), если из множества устраняется качественный признак полноценной принадлежности к полису, его традициям, обрывается укорененность в роде, где каждый род имеет свою историю, предания, мифологических первопредков и т. д.
Таким образом, аристотелевская классификация может быть сведена всего к трем типам:
1) монархия (тирания);
2) аристократия (олигархия);
3) полития (демократия).
С риторической точки зрения монархия есть эвфемизм тирании, а тирания — дисфемизм монархии. Аристократия — эвфемизм олигархии, а олигархия — дисфемизм аристократии. Полития — эвфемизм демократии, а демократия — дисфемизм политии. В результате получаем три типа политического устройства, которые логически представляют одно и то же, но риторически могут быть описаны как эвфемистически, так и дисфемистически. По сути, мы получили карту властной структуры, в рамках которой проходят все основные процессы социокультурной динамики власти.
Социология Сорокина строится на подчеркивании принципиальной ограниченности соцокультурного набора, и, следовательно, постулируется необходимая смена политических систем в их принципиальных формах.
Так можно выстроить следующую цепочку:
монархия (тирания)–аристократия (олигархия)–полития (демократия).
Данная модель предполагает некоторую логическую последовательность, которая может снова приводить к монархии (тирании), а может развертываться по иному коду. Сам Аристотель считал, что демократия чревата тиранией, то есть в целом возвратом к первому члену цепочки.
При этом можно рассматривать сложные политические системы как модели, в которых элементы этих политических структур сосуществуют синхронически. В русской истории мы видим именно такой случай. Монархическая система правления (царь) сочеталась на среднем уровне с аристократией (бояре) и институтами земского самоуправления (губные старосты, общины, мир). При всех трениях этих политических систем между собой им никогда вплоть до 1917 года и локальных народных восстаний политии (демократии) не удавалось претендовать на верховную власть в масштабах всего государства, да и в 1917 году собственно советская система, где все решали выборные органы народного представительства, долго не продержалась, уступив место диктатуре пролетариата. В начале 90-х годов ХХ века под видом «демократии» установилась олигархия крупной буржуазии и коррумпированных позднесоветских чиновников. При Путине же номинально демократическая система вернулась к монархической модели.
С точки зрения теории элит в любом обществе существует правление меньшинства, то есть аристократии (отсюда «железный закон олигархии» Р. Михельса), при этом в некоторых случаях она выступает открыто, в других прикрывается монархией или политией (демократией). В любом случае социология политики должна учитывать и диахронический, и синхронический подход к этим политическим моделям: они могут или сменять друг друга, или сосуществовать. Но даже при смене одной модели ее альтернативой в структуре общества сохраняются потенциальные ячейки для тех форм политического правления, которые в данный момент не действительны, а лишь потенциальны. Они как бы стоят «под паром», но в определенный момент могут быть снова активированы.
Можно представить это на следующей схеме.

Схема 30. Синхронические и диахронические структуры политического
устройства общества
На этой схеме черным закрашены сектора, соответствующие властным стратам, которым номинально принадлежит власть в конкретной политической системе. Незакрашенные сектора представляют собой потенциальные структурные ячейки власти, которые либо не заняты, либо заняты и осуществляют реальную власть (де-факто), но номинально (де-юре) в области права это не признается.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПРОСТРАНСТВО
Аристотель связывает типы политического правления не только со спецификой исторической ситуации, но и с объемом территории, занимаемой обществом, и количеством его граждан. Эта связь политической формы с пространством позволяет увидеть в Аристотеле первого геополитика, так как одно из определений геополитики гласит, что это наука о связи государства с пространством. Геополитика изучает влияние структуры пространства на политические процессы, и первые обобщения подобных связей мы встречаем именно у Аристотеля.
Так, по мнению Аристотеля, между тремя типами политического правления и объемом территории существует — в идеальном случае — логическая взаимосвязь. Монархия — оптимальная форма правления для огромных территорий. Даже само происхождение царской власти Аристотель связывает с завоеваниями дополнительных территорий, расширением объема государства. «Большое пространство» (по выражению Карла Шмитта) предполагает централизацию, единоличное правление в центре. В противном случае оно грозит распасться. Ученик Аристотеля Александр Великий использовал этот урок в деле создания мировой империи.
Малые политические образования — в частности, греческие полисы, города-государства — оптимально управляются с помощью политии, то есть на основе консенсуса тех граждан, которые являются полноценными участниками социальных и экономических процессов (Аристотель определял их как «носящих тяжелое вооружение»). В русских городах-государствах (Киеве, Новгороде, Владимире-Волынском, Пскове и др.) городские вече (русская форма политии) имели большое значение даже после создания централизованного государства во главе с великим князем (монархом).
В государствах промежуточного (среднего) объема допустимо аристократическое правление.
Таким образом, можно выявить модель связи политических систем с масштабом территорий.
|
Большое пространство (империя) |
Среднее пространство (государство) |
Малое пространство (полис) |
|
Монархия/тирания |
Аристократия/олигархия |
Полития/демократия |
Схема 31. Соотношение политических систем и территорий
Выделенные Аристотелем закономерности сохраняют свое значение вплоть до сегодняшнего дня и помогают истолковать многие моменты политической истории разных стран.
СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ В РУССКОЙ ИСТОРИИ
В русской политической истории все вышеописанные соответствия имеют наглядные подтверждения.
Большой объем территории русского государства в определенной степени ответственен за то, что полития (демократия) ни разу в истории не становилась всеобщим государственным режимом власти, хотя на раннем этапе русской политической истории вечевой институт, а позже спонтанные собрания городских концов (посадских людей) в критических ситуациях играли достаточно важную роль. Пример политии мы видим и в организации народного ополчения в событиях конца Смутного времени 1611–1612 годов. К этому же политическому типу относятся и земские соборы, и ранний период Советов в 1917–1918 годах. Но ни разу полития не стала доминирующей формой политической власти в России. Демократия формально утверждалась на короткий период с февраля 1917 по январь 1918 года (разгон Учредительного собрания) и с 1991 года по настоящее время в Российской Федерации, хотя содержательная сторона политического правления в этот период с социологической точки зрения всегда представляла собой соперничество монархического устройства с олигархическим.
Колебания между монархией и аристократией (олигархией) составляют главный код всей политической истории России. Эти тенденции — монархия vs олигархия — не только чередовались со сменой правящих фигур на протяжении всей истории русской государственности, но подчас определяли разные этапы правления одного и того же царя (президента, генерального секретаря и т. д.). А так как выбор осуществлялся только между двумя политическими формами, то вся динамика состояла в их чередовании.
Прекрасная иллюстрация этой закономерности в период второй половины XV — первой половины XVI века (от Ивана III до Ивана IV) приведена в книге современного российского историка И.Я. Фроянова «Драма русской истории»36, где он развернуто показывает динамичную дуэль двух дворцовых партий, связанных с альтернативными религиозными, социальными, геополитическими и внешнеполитическими проектами, которые боролись между собой за влияние на царей в этот период.
Фроянов показывает, что Московское царство после взятия турками Константинополя (1452) и распада Золотой Орды стояло перед выбором политической модели, соответствующей новым историческим условиям. Одним из вариантов была священная монархия в сочетании с идеей Москвы — Третьего Рима и верховенством русского православия — «святорусский проект», по Фроянову. В церковных кругах эту идею отстаивали последователи Иосифа Волоцкого (1439/1440–1515) и архиепископа Новгородского Геннадия (ок. 1410–1505) — иосифляне.
Альтернативный вариант политической системы, более похожий на феодальную систему европейских государств того времени, и в первую очередь на Польско-Литовское королевство, продвигали представители видных боярских семей — дьяк Федор Курицын (? — ок. 1504), позже Вассиан Патрикеев (ок. 1470–1532) и другие, — религиозные круги, увлекшиеся «ересью жидовствующих», а также монахи-«нестяжатели», последователи Нила Сорского (1433–1508), и такие церковные деятели, как преподобный Максим Грек (Триволис) (ок. 1475–1556).
Сложнейший клубок столетних интриг вокруг престолонаследия, военных походов, боярских и дворянских распрей, религиозных и сектантских движений в политическом смысле сводился, как убедительно показывает Фроянов, к фундаментальной дилемме: монархия или аристократия? Так, Фроянов демонстрирует, что ранний период царствования Грозного — эпоха Избранной Рады, расцвета влияния кн. А. Курбского (1528–1583), боярина Адашева (?–1560) и попа Сильвестра (? — ок.1566) — проходил преимущественно под знаком «польско-литовской модели». В эпоху опричнины возобладали чисто монархические тенденции.
Нетрудно продлить эту же логику и далее. Смутное время — пик олигархии вплоть до Лжедмитриев и оккупации Руси поляками. Выборы Романовых открывают длительный период монархии. После раскола — очередная смута, и снова усиливаются позиции аристократических боярских родов. Петр Великий устанавливает жесткое монархическое правление (на новой идеологической основе «модернизационной тирании»). За Петром следуют периоды подъема дворянства, которые постепенно сходят на нет в период Екатерины Великой. Павел продолжает монархическую тенденцию, но погибает от рук заговорщиков-аристократов, которые приводят к власти Александра I. Первая половина царствования Александра I более или менее аристократична. Вторая монархична. Николай I укрепляет монархический централизм. Александр II и Александр III балансируют между монархизмом и аристократией. При Николае II устанавливается олигархия. Российская империя падает.
Ленин, революционный вождь, открывает путь Сталину как носителю монархического начала в коммунистическом обличье. С Хрущевым усиливаются «аристократические» тенденции (растет власть партноменклатуры). Брежнев уравновешивает это смещением в сторону «монархии» с широким участием членов Политбюро в принятии важнейших решений (аристократия). С Горбачевым начинаются новая смута и развал государственности. Конец СССР.
Демократическая монархия Ельцина быстро превращается в олигархию, которая доминирует в России в 1990-е годы. Приход Путина восстанавливает монархические начала управления. При Медведеве количество центров принятия решений увеличивается и снова начинают складываться признаки олигархии.
Тот же метод можно применить и в ранней русской истории. Политии городов-государств (Новгород, Псков и т. д.) сменяются после призвания Рюрика монархией. Борьба великих князей с удельными князьями составляет основу политической жизни всей Киевской Руси — вплоть до удельной раздробленности, когда монархическое единство уступает место появлению многих территориальных центров власти, не зависимых друг от друга. Это противостояние продолжается и под Ордой, где владимиро-суздальские, а позже московские князья выступают чаще всего как носители монархической идеи против альтернативных политических центров — Рязани, Новгорода, Пскова и т. д.
Эти закономерности удобно рассматривать именно с позиций социологии политики, так как чисто политологический анализ заставит обращать пристальное внимание на идеологическое и политическое оформление каждого из режимов, правящих фигур или партий, а историческое изложение затмит социологические закономерности множеством деталей. Поэтому социология политики представляет собой уникальный метод, позволяющий структурировать огромное количество фактов и сводить их к непротиворечивой и ясной картине.
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ ВЛАСТЬ: ЛЕГАЛЬНОСТЬ И ЛЕГИТИМНОСТЬ
Карл Шмитт делил власть на две категории — potestas directa (прямая власть) и potestas indirecta (косвенная власть)37. В каждом политическом режиме прямая власть осуществляется тем сектором, который изображен закрашенным на нашей схеме из трех треугольников. Но другие — незакрашенные — сектора того же общества вполне могут быть источниками и носителями другого типа власти — косвенной власти (potestas indirecta) — вопреки официальной политической системе. Это заставляет политологов (в частности, того же Шмитта) сосредоточивать свое внимание на таких понятиях, как легальность и легитимность.
Легальность — это формальное описание политической системы и ее правовое обоснование (lex — закон). То есть с точки зрения легальности общество в политическом смысле может быть только либо монархией (тиранией), либо аристократией (олигархией), либо политией (демократией). Хотя в каждом случае и другим властным стратам могут быть легально отведены сферы соучастия во власти. Так, например, конституционная монархия подразумевает ограничение полномочий монарха парламентом.
Легитимность же есть оправданность того или иного типа правления с точки зрения соответствия историческим вызовам и суммарной позиции всех страт общества с точки зрения большинства. Несмотря на то что термин «легитимность» образован от того же корня «lex», «закон», речь здесь идет совсем о другом законе — о неформальном (неписаном) законе политической адекватности власти перед лицом насущных проблем.
Легитимность или ее отсутствие ничего не меняют в легальной структуре общества, но вместе с тем представляют собой социальную апробацию действий властей со стороны общества в целом. Сама эвфемизация или дисфемизация типов власти имеет отношение именно к этой неформальной оценке, то есть к легитимности. Монархия легитимна, тирания — нет, но и та и другая модель может быть одинаковой с легальной точки зрения. И то и то может называться монархией или даже президентской республикой или социалистическим государством, но легитимностью будет обладать только та модель единоличного политического управления государством, которая является адекватной по мнению большинства и соответствует историческим вызовам. В противном случае она будет считаться тиранией и восприниматься как таковая. То же самое и с аристократией и олигархией. Признание легитимности правящего меньшинства делает это меньшинство аристократией, а отсутствие ее — олигархией. Полноценное управление широкими массами в управлении обществом есть полития. Превращение широкого народного управления в спектакль, подделку и циничную манипуляцию — демократия (в аристотелевском понимании термина).
СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ И НЕДОВЕРИЕ
Пользуясь разделением понятий «легальность» и «легитимность», легко увидеть различие между социологией политики и политологией, о котором мы уже упоминали. Социология лишь отчасти доверяет политическим декларациям режима, его легальным основаниям. Социология стремится более внимательно и объективно исследовать влияние различных властных страт, включая те, которые номинально не имеют властных полномочий. Иными словами, социология обязательно изучает вместе с potestas directa и potestas indirecta, вместе с легальными формами политической системы механизмы и процессы ее легитимации.
Поэтому социология политики сосредоточивает свое внимание на власти и ее оси, а теория элит становится наиболее оперативной моделью именно социологического анализа. Теория элит, как ее формулировали Парето, Моска, Михельс или Ч.Р. Миллс, настаивает на том, что в любом обществе правящей группой является элита, то есть либо фигура монарха-тирана, либо группа аристократов-олигархов. Просто в одних случаях это положение дел признается формально и легально, то есть элита обладает «прямой властью», а в других — то же самое происходит под прикрытием политии-демократии, то есть в конечном счете нелегально и через осуществление «косвенной власти». Так, Парето критиковал буржуазную демократию Италии, которую он называл «плутодемократией», то есть правлением «плутократов» (от «Плутос» — бог богатства, сокровищ, материальных благ), богатых олигархов, льстящих народным массам, но всегда принимающих решения самостоятельно и в своих интересах и не ставящих эти массы и их мнение ни в грош. При этом откровенный вождизм и неоаристократический элитизм итальянского фашизма вызывали его одобрение, и Муссолини по совокупности заслуг сделал Парето почетным сенатором фашистской Италии.
Еще более разоблачительной была социология политики Ч.Р. Миллса, который фиксацией своего внимания на «властвующей элите» США продемонстрировал, что и она есть не что иное, как «плутодемократия», замкнутая олигархическая группа, использующая демократическое прикрытие в своих собственных узкоклановых интересах. Иными словами, по Ч.Р. Миллсу выходит, что американская политическая система есть фашизм, не признающий свою элитистскую природу и предпочитающий действовать через косвенную власть — за пределами легальности.
КОНСПИРОЛОГИЯ КАК НАИВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Исследование косвенной власти или социологических аспектов никак не формализованной и поэтому относительно нелегальной элиты породило на периферии американского общества яркое явление конспирологии38, которую можно определять как «маргинальную социологию» или «народную социологию», где вполне обоснованные подозрения о расхождении между собой легальности и легитимности, внешнего фасада политической системы и ее истинного властного содержания породили множество гротескных гипотез, абсурдных теорий и экстравагантных легенд. Часть из них нацелена на изучение неправительственных организаций, куда входят крупнейшие представители американской и мировой элиты. Это в первую очередь Council on Foreign Relations (Совет по внешней политике), влиятельнейшая неправительственная организация США, формирующая геополитические и внешнеполитические взгляды американской элиты на надпартийной основе, — в эту организацию входят представители и демократической, и республиканской партий США, крупнейшие банкиры, интеллектуалы, медиа-магнаты, чиновники и т. д. К американской CFR примыкает ее международный аналог, созданный теми же членами CFR, — Trilateral commission (Трехсторонняя комиссия), куда помимо американской элиты входит европейская и японская. Другой аналогичной, но самостоятельной структурой является Бильдербергский клуб, где регулярно собираются представители высшего класса развитых обществ. Каждая встреча членов Бильдербергского клуба или Трехсторонней комиссии окутана тайной, журналистов туда не допускают, что только подстегивает фантазии конспирологов. Давосский форум в Швейцарии на первых порах также был в центре внимания этих кругов.
Кроме более или менее рациональных и обоснованных теорий «мирового заговора» (что означает наивные попытки провести социологическое исследование «косвенной власти» без осуществления полноценной научной работы по сбору и систематизации данных, логических сопоставлений, классификации фактов, установления между ними каузальных связей и т. д.), так как эти неформальные неправительственные организации действительно существуют и оказывают на политическую жизнь США и мировое сообщество значительное влияние, существует огромный спектр галлюцинативных теорий «тайной элиты», где объектами внимания становятся инопланетяне, летающие тарелки, ящеры, подземные человечки, снежные люди, Иллюминаты и т. д. Сюжетов теорий заговора хватило создателям американского сериала «The X-files» («Секретные материалы») на несколько лет непрерывных еженедельных трансляций. Таким образом, бурная фантазия и структуры воображения в форме «народной социологии» (конспирологии) дали обильный материал для работы научных социологов, изучающих теперь не только косвенную власть, но и бесчисленные версии описаний этой косвенной власти в общественном сознании широких народных масс, увлеченных «теорией заговора». В Сорбонне есть социологический центр «Politica Hermetica» под руководством профессора социологии Эмиля Пуля (Emile Poulat) и историка Жана-Пьера Лорана (Jean Pierre Laurant), который фундаментально и обстоятельно исследует «теорию заговоров» как социологическое явление.
Контрольные вопросы
1. Назовите 6 типов политических систем по Аристотелю. Сгруппируйте их в пары. Поясните, почему это возможно.
2. Чем отличается легальность от легитимности?
3. Почему конспирологию можно назвать «наивной» социологией?
ГЛАВА 8.4
СТРУКТУРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ СИНТАГМЕ
Теперь рассмотрим, как общая модель властной стратификации трансформируется в рамках исторической синтагмы по оси Премодерн–Модерн–Постмодерн.
КАСТОВАЯ СИСТЕМА
В парадигме Премодерна базовой моделью политики является кастовая система. Касты представляют собой властные страты, возведенные в статус онтологической теории. Иными словами, кастовая система закрепляет за каждой социальной стратой особую форму отношений со структурой мира. Образцом такой кастовой системы может служить индийское общество, остающееся неизменным в основных своих параметрах в течение более чем 4000 лет.
В изучении властной стратификации общества индуистскую систему каст (по-индийски варн) брали за образец такие авторы, как социолог Луи Дюмон39 и философ Рене Генон40.
Смысл кастовой системы может быть выражен через термин «онтократия»41, власть через бытие (или бытие через власть). Смысл кастовой модели состоит в том, что социальная дифференциация общества полностью отражает структуру бытия, где есть высшие и низшие слои. В индуизме это поясняется через учение о трех гунах — свойствах мира.
Вселенная состоит, согласно этой теории, из трех гун — саттвы, раджаса и тамаса. Саттва символизируется чистым холодным светом; раджас — горячим огнем; тамас — тьмой. Между этими гунами существует ясная и однозначная иерархия: саттва — вверху; раджас — посередине; тамас — внизу. Саттва символизируется белым цветом, раджас — красным, тамас — черным. Вселенная есть вертикальная структура, в которой наличествует иерархия цветов и гун.
Каждой гуне соответствует варна (каста). Брахманы, жрецы, созданы из чистого света (саттвы). Кшатрии — из чистого огня (раджаса). Вайшьи (труженики, домохозяева) состоят из смеси раджаса и тамаса. А рабы, шудры, — из чистой тьмы (тамаса). Признаки варны не просто даются членам социума извне, но соответствуют, по представлению индусов, качеству души (дживатма), то есть онтологическому статусу. В касте брахмана рождаются души саттвы, в касте кшатриев — души раджаса, в касте вайшьев — души, смешанные из раджаса и тамаса, в касте шудр — души тамаса. Социальное отражает вселенское, онтологическое, то есть структуру бытия как такового.
Схема 32. Соответствия каст (варн) и гун в индуизме
Индусы уверены, что всякий человек наделен кастой. Если родители младенца оказываются неизвестными, то существует специальный обряд по определению касты найденыша или подкидыша. Один из элементов этого обряда — демонстрация младенцу обрядовой погремушки. Если младенец смотрит на погремушку задумчиво и безразлично — это брахман. Если пытается ее схватить, отобрать, впадая в раж, — кшатрий. Если слегка пугается и настораживается — вайшья. Если плачет и боится — шудра.
При этом кастовый строй сопряжен, как мы уже говорили, с властной структурой, а не с властной стихией. Брахманы не решают и не правят, они компетентны в вопросах мироздания. И тем не менее их статус в обществе считается наивысшим — в том числе и на оси власти. Однако эта власть особая и соотносится с макрокосмическими явлениями и закономерностями — с тем, что лежит за пределами повседневной организации социума.
Кшатрии, чья душа является более страстной, активной и экспансивной (огонь считается горизонтальной стихией, в отличие от света — стихии вертикальной), сопряжен с властью как с конкретной социальной сферой. Кшатрии формировали высшее сословие управленцев в индийском обществе. Первый из кшатриев был королем, царем.
Вайшьи занимались материальной сферой и составляли подавляющее большинство индийского общества. По сути, это те же кшатрии, только реализующие сценарий господства и установления порядка в материальной сфере.
И наконец, шудры, пролетарии, рабы, маргиналы, считались низшей кастой, в которой нет ничего качественного. Шудры были подсобной рабочей силой у вайшьев, но сами ничего не производили, а лишь участвовали в производстве наравне с животными и инструментами труда. В индийском обществе им не отводилось никакого особого места, хотя они имели свои ритуалы и обряды, как правило, связанные либо с автохтонными культами, не вошедшими в систему индуизма (и без того чрезвычайно гибкую), либо с обрядами неиндусского типа, если речь шла о рабах и потомках рабов, взятых в плен в борьбе индусов с окружающими народами, такие тоже автоматически заносились в касту шудр.
Кастовая модель онтократии, основанная на полной гомологии мифологической Вселенной и мифологического социума, может считаться нормативной моделью общества даже в тех случаях, когда собственно онтократия отрицается. Структура построения властной вертикали в обществе — в первую очередь на уровне мифа (знаменателя) — основана на подразумевании того, что на вершине пирамиды власти находятся существа с более качественной природой, нежели те, кто находится ниже. Но в онтократической системе каст (варн) это утверждается эксплицитно, а в других системах — имплицитно.
СОСЛОВИЯ
Другой моделью властной стратификации общества является модель сословий (по-французски les etats, по-немецки die Staende). Сословия в отличие от каст не предполагают фундаментальной связи носителя властного статуса с онтологическими пластами (гунами) или, по меньшей мере, не относятся к уравнению «социальная страта = природа души» как к фатальному и неизменному. В основе сословной принадлежности лежит исторический жест, который осуществили либо сам носитель высшего статуса, либо его прямые предки. Сословие может быть заслужено путем особых действий, и эта заслуга становится фактором обоснования принадлежности к властной структуре.
Основной принцип сословия — в отличие от касты — меритократический, то есть основанный на личных заслугах (meritus на латыни) конкретного персонажа, хотя эта заслуга может распространяться и на его потомков. Сословная система представляет собой смешанную модель, где принцип меритократии как основа сочетается с принципом онтократии как с вторичным признаком, что может постепенно преобразоваться в основной признак. Если меритократический жест основателя рода является принципиальным на первых порах, то позднее вступает в силу подспудная (подразумеваемая) онтократия, толкующая наследников меритократического жеста как сопричастных высшей природе — так как до определенного исторического момента сам жест понимается не как индивидуальное свойство, а как обнаружение принадлежности к высшей природе.
В русской истории эта грань между меритократией в чистом виде и меритократией с элементами онтократии прослеживается в дуализме боярства и дворянства. Боярами считались прямые потомки Рюрика и его дружинников, то есть рода, причастные к созданию самого государства Русь. Этот жест создания государства и его защиты считался высшей заслугой, то есть героическим деянием, обеспечивающим доступ к власти. В боярстве меритократический принцип принадлежности к высшим властным стратам постепенно терялся из виду, и новые меритократы, дворяне, приходили ему на смену, осуществляя новые подвиги по защите и укреплению русской государственности. Боярство постепенно утрачивало свою меритократическую природу и становилось кастовым (онтократическим), тогда как дворяне как сословие оживляли эту политическую модель и напоминали о том, что лежало в основе сословного (а не кастового) строя.
КЛАССЫ
Классы представляют собой форму социального и политического неравенства, основанного на материальном признаке, обладании товарами, деньгами или средствами производства.
Дифференциация по имущественному признаку существовала всегда, но построение политической системы, основанной на материальном факторе как главном политическом критерии, представляет собой явление исключительно Нового времени.
Следует различать два возможных понимания классов: социологическое и политическое. В социологии (за исключением марксизма) под классами понимается то же самое, что и под стратами, то есть выделенные общественные группы, занимающие высшее, среднее или низшее положение относительно четырех основных осей социологического анализа — власти, денег, образования, престижа. Распределение людей и групп по классам означает социальную стратификацию. В этом социологическом понимании класс включает в себя не только отношение к власти, но и отношение к деньгам, образованию и уровню престижа. Применяя такой социологический подход, мы можем описывать классовую структуру любого общества — архаического, современного, капиталистического или социалистического.
Политическое понимание класса, в целом общее для либерализма и для марксизма (только с обратным знаком), применимо только ко вполне определенному обществу, где в основе политической дифференциации лежит экономический признак богатства и благосостояния. Классовое общество в политологическом смысле есть общество, где номинально отменены сословные и кастовые критерии, где все члены общества равны по стартовому статусу (принцип «равенства возможностей») и где каждый член общества может (теоретически) подняться по властной оси до любой позиции на основе успешности своей экономической деятельности. В классовом обществе политическая ось власти зависит напрямую только от передвижения по другой социологической оси — оси богатства.
Этим классовое общество отличается от сословного (где политический статус часто закреплен по родовому признаку — аристократия, дворянство, ноблесс) или кастового (где это закрепление еще более строго и не допускает даже исключительных меритократических возвышений).
Классовое общество, таким образом, связано с периодом буржуазных революций и низвержения феодальных, средневековых и традиционных обществ с сословной структурой.
Марксисты по-своему трактуют понятие «класс». Для них, так же как и для либералов, класс есть производная от экономической оси, но так как марксизм интерпретирует всю политику исходя из экономического базиса (баланс производительных сил и производственных отношений), то он находит классовые отношения и в древнейших обществах, полагая, что именно имущественное неравенство и неравенство в отношениях к собственности на средства производства порождают и касты, и сословия. То есть марксисты экстраполируют классовый характер буржуазных обществ (с чем согласны практически все политологи) на общества добуржуазные, где отмечаются минимальные признаки социального и политического неравенства. Кроме того, марксисты считают, что класс эксплуатируемых должен осуществить политическую революцию, опрокинуть власть эксплуататоров и построить новое бесклассовое общество, основанное на полном имущественном и политическом равенстве.
В политологии выделяют только два класса — богатых и бедных, буржуазию и пролетариат. Принадлежность к тому или другому связана с отношением к материальному богатству и собственности на средства производство. В остальном классовое общество максимально открыто, и, согласно буржуазной теории, рабочий при определенных обстоятельствах вполне может перейти в класс буржуазии, а разорившийся буржуа — пополнить ряды пролетариата. Марксисты оспаривают этот тезис, утверждая, что буржуазия создает такие социально-политические и экономические условия, которые никогда не позволят пролетариату изменить свое положение эксплуатируемых. С этим связана знаменитая идея «присвоения буржуазией прибавочной стоимости», лежащая в основе марксизма.
БЕСКЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО
Бесклассовое (в политическом смысле) общество является конструкцией коммунистической идеологии и предполагает победу пролетарской революции, построение социализма и коммунизма. Классы отменяются уже при социализме, в котором сохраняются определенные формы политического и управленческого неравенства, в то время как материальное благосостояние почти всех членов общества уравнивается. При переходе к коммунизму исчезают последние следы политической, социальной и экономической дифференциации и общество становится бесклассовым в полном смысле. При коммунизме отмирают и классы в политическом смысле, и страты как более общие формы социальной иерархии.
Другую версию бесклассового общества предлагают некоторые леволиберальные теории. Здесь речь идет не о социалистической революции и диктатуре пролетариата, а о постепенном обогащении и экономическом развитии всего общества, увеличении размеров среднего класса вплоть до вовлечения в него всего населения. С этой точки зрения в какой-то момент все члены общества разбогатеют достаточно для того, чтобы считаться буржуазией, и возникнет модель относительного материального равенства. К этому добавляется идея технической модернизации и информатизации производства, что освободит людей от тяжелого физического труда. И наконец, некоторые теоретики такого положения дел утверждают, что крупная буржуазия, чтобы избежать для себя угрозы со стороны менее богатых — мелкобуржуазных — кругов, сама пойдет на перераспределение имущества в пользу большинства в интересах сохранения и развития всей буржуазной системы в целом.
Попытка построить бесклассовое общество была предпринята в социалистических странах, и на определенный период времени она увенчалась успехом — в СССР, Китае, Вьетнаме, Северной Корее, на Кубе, в странах Восточной Европы и некоторых африканских странах. Некоторого приближения к материальному равенству действительно удалось достичь. Но другие формы социальной стратификации по вертикальным осям сохранялись.
В 80–90-е годы ХХ века этот эксперимент оказался на грани полного провала, и подавляющее большинство бывших социалистических стран (СССР, страны Варшавского договора, Китай и др.) вернулись к классовой модели (то есть к узаконенному материальному неравенству). Исключение составляют только Северная Корея, Куба и Вьетнам, которые продолжают настаивать на бесклассовом обществе.
В любом случае бесклассовое общество, как правило, помещается в будущее и соответствует Постмодерну.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ В ИСТОРИИ
Теперь поместим разобранные нами формы политических структур власти на оси исторической синтагмы. Картина будет следующая.
|
Премодерн |
Модерн |
Постмодерн |
|
|
Касты (онтократия) |
Сословия (меритократия) |
Классы (плутократия) |
Бесклассовое общество |
Схема 33. Трансформации социальной стратификации в рамках
исторической синтагмы
В структуре властной стратификации можно наметить определенные соответствия между составляющими этих иерархий.
|
Рабовладение |
Феодализм |
Демократии |
Социализм, левый либерализм |
|
Касты |
Сословия |
Классы |
Бесклассовое общество |
|
Жрецы |
Клир |
||
|
Воины |
Нобли (дворяне) |
||
|
Свободные труженики |
Ремесленники, торговцы |
Буржуа |
Граждане мира, человечество |
|
Рабы |
Серфы (крестьяне) |
Пролетариат |
Схема 34. Трансформации социальной стратификации от каст
к мировому гражданству
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ИСТОРИИ
Иногда мы видим попытки систематизировать политические системы в рамках исторической синтагмы. Так, марксизм говорит о следующей последовательности политэкономических формаций.
|
Первобытно-общинный строй |
Рабо- |
Феодализм |
Демократия, капитализм |
Социализм |
Комму- |
Схема 35. Смена исторических формаций согласно марксистской теории
Либеральные теории отбрасывают социализм и коммунизм, но в целом принимают остальные типы политических систем и последовательность их смены.
|
Первобытно-общинный строй |
Рабо- |
Феодализм |
Демократия, капитализм |
Глобализм (мировое правительство) |
Схема 36. Смена исторических типов в либеральной теории
Однако обе схемы представляют собой упрощенную и социологически неубедительную редукцию. Во-первых, далеко не все общества проходят фазы развития второй цепочки, не говоря уже о первой. То есть в наше время мы встречаем первобытно-общинные системы, которые никак не собираются превращаться в рабовладельческие. Рабовладение во многих обществах было локальным и не фундаментальным феноменом — то есть количество рабов было относительно небольшим, что не позволяет выделить рабовладение в качестве основного социологического признака такого общества. Институт рабства Северной и Южной Америки в XVII–XIX веках при всем его размахе никак не делает из этих обществ рабовладельческие — это скорее демократические или олигархические общества с элементами рабовладения.
Демократия (полития) существовала как устойчивое политическое явление в Древней Греции, среди славян (вече) и германцев (тинг). При этом она соседствовала с рабством и предшествовала феодализму, а не следовала за ним. Далее, в русской истории — вопреки стараниям историков-марксистов — не удалось обнаружить ни полноценного феодального общества, ни капитализма, зато социализм — какой-никакой — был построен и достаточно просуществовал в течение 70 лет. Еще меньше критериям капитализма и буржуазной демократии соответствовали китайское, корейское или вьетнамское общества, где также был построен социализм и где он сохраняется до сих пор.
Все это свидетельствует, что никакой однозначной последовательности смены политических систем нет — демократия, рабовладение, олигархия, феодализм и даже социализм вполне могут следовать друг за другом в разном порядке и даже сосуществовать друг с другом в одном и том же обществе в одно и то же время. Построить однозначную диахроническую последовательность смены политических режимов невозможно.
Поэтому политическую синтагму в социологии следует реконструировать очень осторожно и обосновывать с помощью оси власти, а не формы политических систем.
МИНИМАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО
Следует особо остановиться на моделях политики в философских и социологических конструкциях Постмодерна. Эти конструкции, как видно из вышеприведенных схем, обращены так или иначе к отмене или по меньшей мере смягчению социологической вертикали. В этом состоит политический вектор исторической синтагмы по оси Премодерн–Модерн–Постмодерн. Этот вектор простирается от признания полной легитимности вертикали власти — через ее релятивизацию — вплоть до стремления ее отменить вообще. Можно сказать, что меняется этическая оценка власти: в Премодерне власть (и ее вертикаль) есть благо; в Модерне власть (и ее вертикаль) терпима, но должна быть ограничена или она есть зло, требующее максимального рассредоточения; и в Постмодерне власть (и ее вертикаль) должна быть упразднена как социальное явление.
Отсюда известный принцип разделения властей как характерная черта политики Нового времени и демократических режимов. Идея разделения властей и их взаимного ограничения означает стремление минимализировать власть, расщепить ее, рассеять ее субъектов, ограничить возможность властвования, сосредоточенную в одной инстанции. В этом состоит суть идеи создания трех ветвей власти — исполнительной, законодательной и судебной — в демократическом обществе. За этим стоит порицание власти как таковой, и классовое разделение общества на буржуазию и пролетариат мыслится как минимализация властных иерархий вплоть до отмены любых сословных льгот и построения общества «равных возможностей». Здесь снова главенствует идея морального порицания властной иерархии, которая принимается только через процедуру эвфемизма, то есть через обращение к «равным возможностям».
ПОЛИТИКА В ПОСТМОДЕРНЕ УПРАЗДНЯЕТСЯ
В Постмодерне эти тенденции достигают кульминации, и возникает модель полного распыления власти — разделения ее уже не на три инстанции, но на столько же инстанций, сколько есть в обществе индивидуумов. Постмодерн предполагает упразднение властной вертикали как таковой, создание тотальной демократии, образцом которой может быть либо коммунистическая утопия, либо общество перманентного референдума в современном либерализме. Это означает, с одной стороны, упразднение политики как таковой и, соответственно, упразднение власти. А с другой — перенос центра политического решения, если существование политики все же признается, на максимально низкий уровень. При этом индивидуальный уровень каждого отдельного человека не является здесь пределом.
Постмодернистские философы, в частности Делёз, говорят о «микрополитике желаний», то есть о наличии собственной «политической программы» у отдельных фрагментов индивидуума — у импульсов, шевелений, поползновений, телесных и психических влечений. Каждое желание в Постмодерне может выстраивать свою политику. Так, рука вместе с ухом и глазом может создать свою партию, которая примет участие во «всенародном референдуме» органов чувств, для того чтобы решить, что щупать, что слушать и что смотреть (например, какой канал ТВ или какой предмет).
Постмодерн настаивает на конце политики, на деполитизации общества, на отмене всех форм властных дифференциаций по стратам. И хотя на практике до этого еще довольно далеко, в качестве социокультурного норматива такой подход, подрывающий саму основу политики как совокупности социальных стратегий, строящихся вокруг социологической вертикали власти, становится все более и более распространенным, если не сказать общеобязательным.
Схема трансформаций властных иерархий отчетливо показывает нам, в каком направлении движутся политика и ее понимание при переходе от Премодерна к Постмодерну: общий вектор направлен на слом властной вертикали, на сглаживание социальной дистанции между элитой и массой вплоть до ее (номинальной) ликвидации.
В либеральной теории политика в Постмодерне, после конца истории, полностью исчезает и заменяется экономикой. Отсюда либеральный тезис: «Экономика — это судьба».
Контрольные вопросы
1. Как происходит трансформация структуры социальной стратификации по цепочке Премодерн–Модерн–Постмодерн?
2. С чем связана минимализация Политического?
3. Какова роль политики в Постмодерне?
ГЛАВА 8.5
ПОЛИТИКА И РЕЖИМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
ЦАРСТВО В ИНИЦИАЦИИ
Политика, как ее понимает социология, связана в первую очередь с властью. Власть же, как мы уже показали, есть выражение развертывания диурнического (героического) начала. Поэтому ось власти и связанные с ней институты тесно сопряжены с другими сторонами мифа диурна. Власть есть продукт диурна и, следовательно, разделяет с этим режимом бессознательного его основные свойства.
Так, власть теснейшим образом связана с индивидуацией. Движение по вертикали власти к ее вершине, где номинально находится фигура монарха, царя, есть социальное (и политическое) выражение перевода коллективного бессознательного на уровень сознания. Отсюда отождествление сознания и царских функций в обществе. Человек по определению есть человек царствующий, homo regius, в своем архетипе (взятом по оси диурна). Поэтому инициатические обряды сплошь и рядом пронизаны символами господства. Алхимическая традиция, которую подробно изучал Юнг, все инициатические операции описывает с помощью фигуры «нашего короля» (notre roi — фр.), чьи приключения — смерть, очищение, возрождение и триумфальное воцарение — обозначают стадии изготовления философского камня (и соответствующие этапы инициации).
Венчание на царство есть обряд, архетипизирующий перевод бессознательного в сознание, то есть свершившуюся индивидуацию, где корона или царский венец (круг, головной убор, изготовленный из драгоценных металлов, символизирующих солнце, свет) представляет само сознание.
Брачный обряд в разных обществах, и в первую очередь в христианстве, уподобляет молодоженов царю и царице и также называется венчанием, так как в таинстве брака и способности производить новых людей проявляется царское, высшее достоинство каждого человеческого существа, нормативно следующего по пути индивидуации и, соответственно, по пути царства.
ВОЙНА И ИНИЦИАЦИЯ
Другой отличительной чертой инициации является воинский символизм. Инициация и индивидуация — это всегда война со смертью, с чудовищами, с противниками. В диайрезисе состоит другая сторона диурна, символизируемая мечом, рубящим, колющим, режущим оружием. Война, защита и разделение всех на пару «друг–враг» (по К. Шмитту) также есть та сфера, где политика неразрывно сплавлена с инициацией.
Здесь следует пояснить одну деталь. В равной степени неточно будет говорить и о том, что инициация и индивидуация используют в своих обрядах, символах и процедурах образы физической битвы и что война и занятие воинскими искусствами являются в свою очередь экстериоризацией инициатических ритуалов. И инициация, и война (в ее политическом выражении) суть проявления одного и того же нераздельного мифологического архетипа, который гомологично развертывается на всех уровнях одновременно. Он учреждает инициацию и боевые искусства одним и тем же жестом, не устанавливая между ними никакого приоритета или генетической первичности. Поэтому Гераклит сказал: «Вражда — отец вещей». Именно отец, так как мифы диурна — это мифы сугубо отеческие.
ЖРЕЦЫ И СВЕТ В ПОЛИТИКЕ
Будучи неотъемлемой частью властной вертикали в традиционном обществе, жречество ставит акцент на образовании как на особом секторе социума, в котором осуществляется трансляция культурного кода, пайдеумы. Эта трансляция обеспечивает преемственность социальной структуры не только в религиозном, но и в политическом смысле. Однако власть и политика жрецов относились к иному уровню, нежели власть и политика воинов. Жрецы в структурах бессознательного заведовали той областью, которая находится выше стрелы власти, над ее наконечником. Эта область чистого света считалась источником традиции, ее небесным началом, опускающимся — как золотой дождь — на землю людей.
Бессознательное в визуализации света конституирует свою вертикальную антитезу. Как в самом бессознательном все изначально темно, так в сознании — в небесной лазури — все изначально и неизменно светло.
В обряде венчания на царство или в его аналогах, как правило, центральную роль играли жрецы — они-то и водружали на голову царя венец, корону. Корона, венец означают момент достижения неба, что и фиксирует жрец в ритуале. Точно такую же функцию он выполняет и при бракосочетании. Жрец, заведующий знанием (всегда небесного происхождения), подтверждает то, что стрела диурнического начала, брошенная в небо, достигла своей цели.

Схема 37. Властная вертикаль и жреческий свет
МОЛНИЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ
Одним из важнейших символов диурна является молния. Она представляет собой аналог стрелы, но в отличие от стрелы, брошенной в небо (предположительно снизу), рассматривается как вспышка, мгновенно освещающая всю структуру. Именно молния устанавливает верх и низ, разделяет их, создает напряжение между небом и землей. При этом молния вспыхивает мгновенно, сразу. Мифы разных народов описывают молнию как оружие небесного божества, направленное на его хтонического противника, который во время грозы прячется от ударов в норах земли, в водах, под корнями деревьев и т. д.
Молния — это образ политической системы диурна, одновременно оружие (воинов), скипетр высшей власти (царей) и сгусток пронзительного света (жрецы). Политическая структура как развертывание диурнической вертикали мыслится мгновенно. Диурн бьется со временем, и политическая вертикаль социума есть одновременно и продукт этой битвы, и ее инструмент. Отсюда вытекает синхронизм политических структур, которые в режиме диурна мыслятся не эволюционно складывающимися, но возникающими мгновенно и существующими вне времени.
ЛОГОС В ПОЛИТИКЕ
Как мы неоднократно видели, логос является продуктом диурнического мифа, его кристаллизацией. Неслучайно у Гераклита символом логоса выступает молния. Логос синхроничен и поэтому молниеносен. В политике логос находит свое воплощение в структурировании фиксированных образцов правления, в правовых актах, эти образцы закрепляющих и систематизирующих, в рационализации политических и властных отношений, в конституировании политических институтов на рациональной основе.
Как и в других вопросах развертывания социальных структур, мы имеем дело с двумя последовательными операциями. Миф диурна поднимается из бессознательного в сторону сознания (и тем самым конституирует само это сознание), молния порождает своим фактом и того, кто ее мечет, и того, в кого ее мечут), проявляет себя. Это конституирует вертикальную ось политической власти, питающейся энергией диурна, энергией мифа. Власть — это всегда миф в своих истоках, и питается она энергией мифа, а еще конкретнее — героического мифа. В самом этом явлении, в генезисе политики пока еще нет ничего логического. Но, будучи развернутым, миф диурна как властная вертикаль порождает на втором этапе логос как фиксацию той небесной инстанции, к которой причащается венчаемый на царство герой. Небо конституируется диурном и лишь затем сужается до своего субститута — логоса. В небе на первом этапе еще слишком много героической энергии, слишком много дикого света. Пока импульс диурна изначален и молния сверкает, логоса нет, действует чистая стихия власти. Но когда молнии больше нет (гроза прекратилась), слепок молнии берется за основу политической системы, становится мерой вещей. Это и есть политический логос, фиксирующий в традиции то, что в чистой стихии диурна живет в опыте.
Молния — это антропологический траект, развернутый в пространстве власти. Политический логос — это конституированный траектом субъект, не сам диурн, но его конструкт, сотворенный свет, искусственный огонь.
Зазор между чистым диурном и логосом в политике является важнейшим элементом для понимания развертывания политических процессов в любом обществе.
ДИУРН, ЛОГОС И ЭЛИТЫ
В терминах «теории элит» этот зазор можно описать следующим образом. Элита — это политическое воплощение диурна. Ее движение к вершине общества — к страте господ — есть фундаментальный жест развертывания героического мифа. Это движение не обусловлено ничем иным, кроме как самим режимом бессознательного, который в какой-то момент начинает доминировать (причины этого переключения мы обсуждать не будем — они могут быть разными). Элита — это молния.
Правящая элита — это элита, которая реализовала внутренний импульс и добилась результатов в инициатическом (индивидуация) и политическом (захват власти) аспектах. Борьба со смертью лицом к лицу вознесла героев на вершину. Следующим шагом является только погружение в стихию небес, вот почему перед смертью многие русские князья принимали монашество — чтобы отойти на тот свет в жреческом, религиозном статусе. Истинный диурн, достигнув власти, думает не столько о том, как ее удержать, сколько о том, как ее расширить и возвысить — завоевав новые земли, залить мир светом славы и т. д. В этом пока нет никакого логоса — чисто героический миф.
Логос появляется тогда, когда правящая элита начинает утрачивать живое присутствие диурна. Режим молниеносной экспансии и бешеной энергии господства уступает место рутинному правлению. Правда, история показывает, что долгими периоды мира не бывают, и, почувствовав у данной правящей элиты охлаждение пассионарного накала, тут же поднимаются новые носители «бешеного диурна» — либо из других стран, либо из других слоев собственного общества (контрэлита). Политический логос призван зафиксировать состояние правящей элиты, с одной стороны, а с другой — ввести устойчивые правила преемственности или ротации элит. Политический логос основан на диурне и вырабатывается носителями диурна. Отсюда его диурнические черты. Но при этом он не есть весь диурн, не есть сам диурн, это скорее повествование о диурне, памятник ему. Поэтому в определенных ситуациях политический логос может входить в противоречие со стихией диурна. Практически то же самое мы видели, разбирая отличие стихии власти от структуры власти. Стихия власти есть диурн в чистом виде. Структуры власти есть политический логос.
В нормальном случае вертикальная структура политики оживляется властной стихией. Но в некоторых ситуациях между логосом власти и стихией диурна возникают противоречия. Если они заходят слишком далеко, это может повлечь за собой насильственное свержение правящих элит новыми вопреки нормам политического логоса (переворот, революция), а дальше — после периода аномии (беззакония) — либо восстановить нормальное функционирование логоса, каким оно было прежде, либо развернуть иные властные структуры, опираясь на свою героическую энергию. Это Парето называет ротацией элит.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛОГОС И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
В некоторых случаях можно представить себе ситуацию, когда политический логос захочет главенствовать безраздельно и не зависеть от пульсации героического режима. Именно это происходит в политической жизни обществ Нового времени, когда у философов, ученых и самих политиков возникает идея полностью заменить властными структурами властную стихию.
С этим связан проект политической демократии Нового времени, основанный на предельной рационализации политики. В демократии теоретически вместо власти людей над людьми (то есть элиты над массами) предполагается власть закона над всеми членами общества. Властная структура и политический логос остаются и несут на себе отпечаток режима диурна — различия, силлогические отношения, правовые положения, систему наказаний и запретов, репрессивный аппарат и т. д. Но властная стихия, воля к власти, импульс господства порицаются, отрицаются, выносятся за скобки. Общество строится не на героическом мифе, а на одной из его производных, противопоставленной остальным и своему истоку, — на логосе, рассудке, доминации отделенных от стихии законов.
Эта модель получила название «правовое государство», или «номократия» у К. Шмитта42. Под эгидой «власти всех» (демократии) осуществляется власть отчужденного от всех логоса, воплощенного в праве, законе, Конституции, системе нормативных актов.
Такая политическая система интересна тем, что в ней остаются следы последней по счету политической элиты, пришедшей на центральные позиции благодаря своему героическому подъему, но созданные ею правовые модели начинают рассматриваться в дальнейшем как самоценность. Отсюда идея неприкосновенности Конституций (которые на практике в отдельных странах, и даже в таких образцово-демократических, как Франция, регулярно переписываются). Если продлить эту тенденцию дальше, в сторону «абсолютной номократии», мы получим механическую политику, которая от логоса перейдет к механическому управлению людьми как объектами, то есть к развоплощенной логике, а затем и к складской логистике.
ВОЗМОЖНА ЛИ ПОЛИТИКА БЕЗ ПОЛИТИКИ?
В политической теории проект правового государства является общепринятой моделью и рассматривается всерьез как нечто вполне реалистичное и отчасти воплощенное в политическую практику в странах западной либеральной демократии. С точки зрения социологии политики и теории элит в реализуемости такой модели вполне можно усомниться, так как она предполагает наличие общества без властной вертикали с параллельной маргинализацией, криминализацией и даже ликвидацией диурнического начала, которое и лежит в основе политики. Может ли существовать политика без политики? Кто будет властвовать в обществе, где власть упразднена? Эти вопросы вполне легитимны, и на них можно дать два теоретически непротиворечивых ответа.
«ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ»
Первый состоит в том, что правовое государство есть бессодержательная пропагандистская абстракция, которая призвана скрыть реальную стратификацию общества, замаскировать центры управления правящей элиты, покрыть завесой тайны ее структуры и методы властвования. Такой вывод с неизбежностью следует из теории элит — от Парето до Ч.Р. Миллса. В конспирологии, о которой мы говорили, этот сюжет эксплуатируется самым массовым образом. «Нам говорят, что правим мы, граждане; если мы видим, что мы не правим, значит, кто-то правит за нас и скрывает это», — нехитро мыслят сторонники «теории заговора». «Значит, — заключают они, — существует тайная власть». Дальше в дело вступает фантазия: от самой легкой (нами правят неправительственные организации и финансовые транснациональные монополии) до самой буйной (нами правят «злобные подземные жители» — Ричард Шейвер (1907–1975) или «ящеры в человеческом обличье» — Дэвид Айк43).
За гротеском конспирологии стоит вполне нормальный социологический подход, только экстравагантно и наивно выраженный и небрежно и слишком поспешно оформленный.
ПОСТПОЛИТИКА
Второй ответ состоит в том, что в явлении номократии мы сталкиваемся с одним из проявлений общего вектора развития исторической синтагмы Премодерн–Модерн–Постмодерн, где осуществляется цикл:
• рождение логоса из мифоса;
• противопоставление логоса мифосу;
• борьба логоса против мифоса;
• борьба логики как схематичного продукта логоса с тем, что внутри логоса недостаточно логично;
• переход от логики к логистике.
Эту же тенденцию можно описать как деполитизацию политического и даже десоциализацию социального. В антропологической перспективе это означает расчеловечивание человеческого и переход к «постантропологии»44.
Если признать этот процесс как действительно имеющий место, то надо свести все параллельные явления в обществе, философии, культуре, антропологии и т. д. к единой матрице. Как проект такая матрица существует и получает обобщение в Постмодерне. Вопрос, до какой степени это может быть воплощено на практике, остается открытым.
Чтобы продолжить разбор этой второй гипотезы, обратимся к тому, как в политике реализуют себя две другие группы мифов — то есть режим ноктюрна.
НОКТЮРН КАК АПОЛИТЕЙЯ
Политическая ось развертывается строго и исключительно диурном. Причем ноктюрн и его мифы в этом развертывании оказываются на противоположной стороне. Если день — явление политическое, то ночь — аполитичное. Режим ноктюрна есть не-политика. Политика оперирует с ноктюрном, но не напрямую, а ограничивая его извне. Политика учреждает те границы, в рамках которых ноктюрн может легитимно присутствовать, но не более того. Напрямую в политику он не допускается. Власть — это прерогатива дня.
Но так как режим ноктюрна в некоторых сегментах общества — в хтонических культурах этносов (тяготеющих к ноктюрну), в низших стратах общества, у женщин и детей, в некоторых религиозных системах и т. д. — преобладает, то политическая вертикаль выстраивает с ними особую систему отношений — в данном случае чисто ограничительных. Если социум, как мы показали раньше, подвергает ноктюрн экзорцизму, то политика напрямую с ним не взаимодействует, устанавливая ограничительные нормативы извне.
ВСПЛЫТИЕ НОКТЮРНА В ПОСТМОДЕРНЕ
Если рассмотреть судьбу диурна на всем протяжении исторической синтагмы — от молнии властной вертикали до логики правового государства и логистики «гражданского общества», мы увидим, что ноктюрн также менял свое качество, хотя всегда оставался в сугубо подчиненном положении. Диурн-молния разит ноктюрн, учреждает его внизу той вертикали, которую он выстраивает своим проявлением. Как молния взывала к наличию того, кто ее мечет, так она и определяет цель этого метания. Целью является ноктюрн, осмысленный политически как аполитейя. На его подавлении и строится политика.
Это обстоятельство в целом сохраняется неизменным во всех версиях политических моделей: монархии, аристократии и демократии — в равной мере диурнические и мускулиноидные системы, основанные на вертикальной оси. Выделение логоса из диурна, далее — логики из логоса, и так вплоть до механизмов номократии, протекает в рамках диурнического властно-репрессивного подхода. От прямой власти (как стихии) осуществляется переход к рациональности и механике жестких законов — все эти регистры в равной мере противоречат ноктюрническому режиму эвфемизма и его риторическим фигурам.
Однако с конца XIX века в буржуазно-демократических обществах мы видим первые попытки включить в политику элементы ноктюрна. Речь идет о суфражизме и борьбе женщин за политическое равноправие и избирательные права. И в древнем мире, как описывал Аристотель, в греческих полисах были примеры участия женщин в политике (например, у лакедемонян)45. Кроме того, существуют исследования древнейших обществ, где доминировал матриархат, о чем сохранились предания в цикле легенд об амазонках — эту тему подробно изучал историк И. Бахофен (1815–1887)46. Однако в подавляющем большинстве античных обществ, включая демократии (политии), женщины в политику не допускались.
В XIX веке — параллельно суфражизму и раннему феминизму — складываются политические теории, жестко противопоставленные власти во всех ее аспектах и предполагающие в перспективе полный отказ от властной стратификации (анархизм, коммунизм, левый либерализм). В конце ХХ — начале XXI века эти тенденции еще более усилились, и в политической сфере стали впервые появляться чисто ноктюрнические мотивы — экологические движения, движения за права человека, сексуальных меньшинств, животных и т. д. К этому же относятся и нормы политкорректности, настаивающие на использовании сплошных эвфемизмов в политической лексике: вместо слов «негр» или «черный» надо говорить «афроамериканец» или «афроевропеец»; вместо слова «урод» — «человек альтернативной внешности»; вместо слов «бедный» — «малообеспеченный»; вместо слова «правитель» — «политический менеджер» и т. д.
Это показывает, что, находясь на периферии политического и выступая в качестве приоритетного объекта подавления, вытеснения, репрессии, ограничения и цензуры, в течение практически всей политической истории ноктюрн проникал в политику по мере того, как диурн проходил цикл своих метаморфоз:
молния логос
логика
логистика.
Всплытие ноктюрна в области политического есть прямой результат деполитизиции общества, распыление логоса. Причем совершенно очевидно, что появление феминоидных ноктюрнических тенденций в политике не порождает новых политических форм, но лишь разрушает старые. Это не новый виток политики, но конец политики и замещение ее аполитейей.
Контрольные вопросы
1. Как соотносятся между собой политические системы и режимы воображения?
2. Правовое государство относится к сфере логоса или мифоса? Обоснуйте ответ.
3. Что такое постполитика?
РЕЗЮМЕ
Суммируем выводы данного раздела.
1. Политика есть организация общества вокруг властной вертикали. Политика есть то, что относится к власти. Социология политики понимает политику иначе, нежели политология или философия. Социология выделяет в политике неизменные социальные структуры, подчас скрытые под меняющимися политическими декларациями и идеологическими программами.
2. Во власти можно выделить две составляющие: властные структуры и властную стихию. Диалектика этих двух начал составляет суть динамики политических процессов.
3. Существует ограниченное число политических систем. Аристотель выделяет шесть, которые можно сгруппировать по парам: монархия (тирания) — аристократия (олигархия) — полития (демократия). Практически все политические режимы истории укладываются в эти формы или представляют собой их сочетание.
4. Власть в любом обществе стратифицирована по вертикали элита–массы. В элите традиционных обществ можно выделить жрецов и воинов, в массе — тружеников и рабов.
5. В исторической синтагме Премодерн–Модерн–Постмодерн кастовый строй меняется на сословный, далее — на классовый, а в перспективе предполагается бесклассовое общество. Эти процессы с определенными оговорками относятся и к западноевропейскому обществу. В других обществах властная стратификация является более сложной.
6. В Постмодерне предполагается отказ от властной вертикали.
7. Власть рождается из развертывания режима диурна в виде молнии. Далее диурн порождает политический логос как свою схему. Рационализация политического логоса порождает рационалистические политические структуры, основанные на логике. Далее приходит черед замены власти элиты как носительницы рационализированной власти на номократию — власть законов (логики) и, наконец, период логистики (как отождествления политики с экономикой).
8. На каждом следующем этапе происходит умаление власти как стихии (миф) в пользу фиксации власти как структуры.
9. Режим ноктюрна, являясь приоритетным объектом репрессии и подавления в политических системах традиционного общества, начинает подниматься в политику при переходе к Постмодерну, что означает конец политики.
1 Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 1.
2 Шмитт К. Политический романтизм. М., 2006.
3 Шмитт К. Диктатура от истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. СПб., 2005.
4 Там же.
5 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1980.
6 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Указ. соч.
7 Дюмон Л. Homo Hierarchicus. СПб., 2001.
8 Генон Р. Духовное владычество и мирская власть // Волшебная Гора. 1997–1998. № 6–7.
9 Guenon R. La Grande Triade. Paris, 1995.
10 Гумилев Л. От Руси до России. Очерки этнической истории. СПб., 1992.
11 Блок М. Короли-чудотворцы. М., 1998.
12 Гумилев Л. В поисках вымышленного царства. М., 2004; Эвола Ю. Мистерия Грааля // Конец Света. М., 1998.
13 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Указ. соч.
14 Генон Р. Царь мира. Коломна, 1993.
15 Сорокин П. Социальная и культурная динамика. М., 2006.
16 Парето В. Компендиум по общей социологии. М., 2008.
17 Об этом мы говорили в разделе 6, глава 6.6.
18 Mosca G. Elementi di scienza politica. Rome, 1895.
19 Michels R. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchic Tendencies of Modern Democracy. Hearst’s International Library Co., 1915.
20 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., 2005.
21 Фрагменты ранних греческих философов. М.: Наука, 1989.
22 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Сочинения. М., 1959. Т. IV.
23 Там же.
24 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003.
25 Миллс Ч.Р. Властвующая элита: Пер. с англ. М.: Иностранная литература, 1959.
26 Gumplowicz L. Deer Rassenkampf: Sociologische Untersuchungen. Innsbruck, 1883.
27 Шмитт К. Диктатура от истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. СПб., 2005.
28 Dumezil G. Les Dieux des Indo-europeens. Paris, 1952.
29 Boulainvilliers H. de. Histoire de l’anciein gouvernement de la France. La Haye; Amst., 1727. T. 1–3.
30 Piganiol A. Essai sur les origines de Rome. Paris, 1917.
31 Аристотель. Политика // Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1.
32 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2.
33 Шмитт К. Диктатура. Указ. соч.
34 Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Указ. соч.
35 Аристотель. Политика. Указ. соч. «Монархическое начало предполагает для своего осуществления такую народную массу, которая по своей природе призвана к тому, чтобы отдать управление государством представителю какого-либо рода, возвышающемуся над нею своей добродетелью. Аристократическое начало предполагает также народную массу, которая способна, не поступаясь своим достоинством свободнорожденных людей, отдать правление государством людям, призванным к тому благодаря их добродетели. Наконец, при осуществлении начала политии народная масса, будучи в состоянии и подчиняться, и властвовать на основании закона, распределяет должности среди состоятельных людей в соответствии с их заслугами». Кн. 3.
36 Фроянов И.Я. Драма русской истории. СПб., 2007.
37 Шмитт К. Понятие политического. Указ. соч.
38 Дугин А. Конспирология. М., 2005.
39 Дюмон Л. Homo Hierarchicus. Указ. соч.
40 Генон Р. Духовное владычество и мирская власть // Волшебная Гора. 1997–1998. № 6–7.
41 Дугин А. Философия. Политики. М., 2004; Он же. Пути Абсолюта // Абсолютная Родина. М., 1999.
42 Шмитт К. Политическая теология. М., 2000.
43 Barkun M. A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America. Los Angeles, 2003.
44 Дугин А. Постфилософия. Указ. соч.
45 Аристотель. Политика. Указ. соч.
46 Bachofen J.J. Mutterrecht und Urreligion. Stuttgart, 1927.
Саттва (белый)
Брахманы (жрецы)
Раджас (красный)
Кшатрии (воины)
Тамас (черный)
Вайшьи (труженики)
РАЗДЕЛ 9
СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ
ГЛАВА 9.1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИИ. САКРАЛЬНОЕ И ПРОФАННОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИИ В СОЦИОЛОГИИ
Дефиниция религии в социологии, и особенно в структурной социологии, не является само собой разумеющейся, так как требует настолько масштабного обобщения, чтобы явления религии или ее аналогов могли быть обнаружены во все типах исследуемых обществ — как в парадигме Премодерна, так и парадигмах Модерна и Постмодерна. Определения религии в разных дисциплинах — у антропологов, этнологов, политологов, философов — подчас существенно разнятся, так как зависят от перспективы той или иной науки.
В социологии (по крайней мере, в структурной социологии) под религией следует понимать совокупность структур, воззрений, институтов, обрядов и учений, относящихся к области, расположенной за имманентной границей социума. В этом определении ключевым является установление «имманентной границы социума», которая в зависимости от рассматриваемого типа общества может иметь различные конфигурацию, форму, объем и содержание. Но в любом случае сама такая граница присутствует практически всегда и в любом обществе и принадлежит к фундаментальным характеристикам общества как такового.
«ЗДЕСЬ» И «ТАМ»: ИММАНЕНТНОСТЬ ГРАНИЦЫ
В самом широком смысле социальная топология предполагает наличие здесь (hic — на латыни) и там (ibi — на латыни), близкого и далекого. Это является фундаментальным дифференциалом качественного пространства, присутствующим в любых обществах — от самых архаичных до самых современных. «Имманентная граница» отделяет здесь от там. Важно, что в этом сочетании есть термин имманентное, что означает в философии присутствующее, наличествующее внутри», «находящееся по эту сторону». «Имманентность» границы связана с тем, что социальность в своем фундаментальном и структурном аспекте является «тотальным явлением» (Мосс), а следовательно, предопределяет не только то, что находится внутри общества, но и то, что лежит вовне его. Мирча Элиаде, крупнейший историк религии, выразил это в формуле «la natura e culturalmente condizzionata» («природа обусловлена культурой» — итал.)1. В данном контексте вполне можно было бы заменить слово «культура» словом «общество», «социум». Тогда эта формула будет выглядеть следующим образом: «природа обусловлена социумом» или «природа есть явление социальное».
СОЦИАЛЬНОСТЬ ПРИРОДЫ
В архаических обществах это обстоятельство очевидно, так как между обществом и природой здесь установлена строгая гомология. Особенно отчетливо это видно в тотемических таксономиях — когда систематизация и классификация предметов, явлений, действий, относящихся к культуре (социуму), осуществляется на основании признаков природных существ — зверей, растений, светил, сторон света, сезонных явлений и т. д. Верно и обратное: на мир природы переносятся социальные закономерности, и природные явления, звери, растения и т. д. мыслятся как своеобразные аналоги того, что происходит в человеческом обществе.
В более развитых и рационалистических обществах характер гомологии общество-природа смещается в сторону общества, и представления о природе становятся все более зависимыми от процессов, развертывающихся в обществе. В Новое время социум начинает жестко противопоставлять себя природе, складывается дуальная модель культура–природа (или общество–природа). Но и в этом случае природа мыслится как социальный конструкт, создаваемый отныне другими средствами — средствами рациональной философии и эмпирической науки. Симметрия меняется на асимметрию, но от этого культурный (социальный) характер природы не отменяется, а лишь переходит в область рационалистических конструкций — в то, что М. Хайдеггер называл «картиной мира»2.
Итак, граница, о которой идет речь, является имманентной, потому что лежит внутри общей гомологии культура–природа. Но в этом ансамбле она может располагаться на различных позициях, включать в себя различные типы явлений и категории предметов.
САКРАЛЬНОЕ И ПРОФАННОЕ: РАЗГРАНИЧЕНИЕ СФЕР
Область религии начинается в зоне, относящейся к «там», то есть за пределом имманентной границы, отделяющей «там» от «здесь» (точнее, «здесь» от «там»). В понятие «здесь» включается то, что в социологии принято называть профанным3, а в понятие там — сакральным. Пара «сакральное («там»)–профанное, профаническое» («здесь») составляет социальную структуру религии. Религия — это все относящееся к сакральному, к «там».
Концепт сакрального (священного, das Heilige) впервые отчетливо сформулировал Р. Отто4, подчеркнув первичность этого понятия по отношению к таким фундаментальным темам развитых религий, как добро и зло, творение, завет, космогония, эсхатология и т. д. Сакральное в его изначальном значении еще не разделяется на логические и моральные дискурсивные цепи или пары противоположностей. Сакральное несет в себе ужас и блаженство, потрясает, пугает, восхищает, отталкивает и притягивает, переворачивает человека экзистенциально и онтологически, качественно меняет его. Отто говорил о «misterium tremendum», о «таинстве, внушающем ужас».
Эту линию подхватил Э. Дюркгейм в своей поздней работе об «элементарных формах религиозной жизни»5, развивший представление о сакральном как о фундаментальной социологической категории, формирующей основные институты архаических обществ. В обществе Модерна, по Дюркгейму, аналогичные функции выполняют идеологии.
Согласно Дюркгейму, религия представляет собой фундаментальный социальный институт, построенный вокруг понятия священного. Будучи отделенным от сферы профанного, он тем не менее устанавливает порядок и в сфере профанного — институты, структуры и обычаи профанного имеют корни в священном. То, что там, предопределяет то, что здесь.
При этом Дюркгейм противопоставляет религию и магию, считая, что религия есть строго организованная система, имеющая коллективную природу и постоянный круг участников, выполняющих те или иные функции, а магия может практиковаться на индивидуальной основе и не структурирована в институт.
РЕЛИГИЯ И МАГИЯ
Историк религий Мирча Элиаде, занимавшийся исследованием как развитых религий (индуизм, христианство), так и архаических культов, пересмотрел определение Дюркгейма религии и магии, показав, что деление мира на зону «сакрального» и «профанного» свойственно всем типам религиозных практик и всем формам магии6. В некоторых архаических племенах невозможно отличить собственно религию от магии, элементы одной переходят в другую плавно и постепенно. Магия, как и религия, обращается к сакральному, хотя иными путями и иными средствами.
Подход Элиаде является в современной социологии общепринятым, и, выделяя различия между религией и магией, в их истоках следует видеть общий корень, единую структурную функцию — обращение к области «сакрального», к «там», лежащему за пределом «онтологической границы». Позже мы рассмотрим, в чем состоят различия между собственно религией и магией, но в самом общем смысле, в их корнях, следует их отождествить.
ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ «ТАМ»?
Имманентная граница, о которой идет речь при фундаментальном определении религии в социологическом контексте, очерчивает размерность, которую можно назвать средней, «правильной», профанной. Внутри имманентных границ лежит привычное, обыденное, близкое, понятное, четко организованное, постоянно повторяющееся. Масштаб профанного всегда соотносим с рядовым членом социума. В зависимости от того, какое общество мы рассматриваем, эти границы и эти масштабы могут принимать самую причудливую и разнообразную форму — то, что в одних обществах считается привычным и рутинным, в других мыслится как чудо или вообще отрицается, — но суть границы остается неизменной: внутри нее находится социальное «здесь», доступное, довольно дружественное и всегда сопоставимое во всех смыслах с обыденной жизнью. Русское слово «мир» — община, понятая одновременно и как организованный космос, и как мирное, ненасильственное бытие группы индивидуумов (оба понятия входили в изначальную семантику слова «мир» еще до позднейшего разделения правописания на «миръ» и «мiръ»7), — прекрасно соответствует этой социальной зоне «здесь». От слова «мир» образованы понятия «мирское», «обмирщвление» и т. д., то есть прямые русские аналоги термина «профанное».
За пределами социального «здесь» («профанное») начинается «там», то есть зона религии — религиозных воззрений, практик, обрядов, предписаний, институтов и религиозного опыта. «Там» мыслится всегда двояко, так как масштабировать размерность «профанного» можно в сторону очень «далекого» (большого, неизвестного) и в сторону очень «глубокого» (тайного, скрытого). «Там» раскладывается на «там вовне» и «там внутри». Обратите внимание — не «здесь внутри» (внутри имманентной границы), но именно «там внутри».
САКРАЛЬНОЕ КАК «ДАЛЬНЕЕ» И «ВЕЛИКОЕ»
Можно описать эту ситуацию следующим образом: «здесь» — это мезозона, сопоставимая по размерности с обыденным опытом. За ее внешними пределами — в «дальнем» — лежит макрозона, большой далекий мир. В нем предполагается гиперболическая структура. «Дальнее» влечет за собой «очень большое» — это зона гигантов, великанов, огромных существ, богов и демонов. «Дальнее» предполагает «большое», «гигантское». Поэтому религия оперирует с этой «очень большой размерностью», которая является одним из фундаментальных свойств «сакрального». До сих пор, когда мы произносим слово «великое» («великое свершение», «великий человек» и т. д.), мы имеем в виду именно «сакральное».
Переход за пределы имманентной границы в сторону «далекого» составляет половину содержания религии. К области «большого», «великого» относятся мифы о происхождении мира и о его конце, истоки обычаев и обрядов, которые были заложены «богами», «героями», «духами», то есть обитателями того, что находится «там», за границей «здесь». Даже в современной модели мироздания на далеком горизонте научно понятого космоса мы видим объекты, поражающие воображение своими масштабами, — галактики, гигантские звезды, черные дыры, огромные расстояния и т. д., что отражает древнейшие структуры воображения, облеченные в современные позитивистские сциентистские формы.
К категории «там» могут относиться и отдельные элементы или стихии природы: звери, камни, травы, пейзажи, ландшафты и стихии, — которые также по этой закономерности будут наделяться сакральным значением, становиться «местами силы». В целом «культурно (социально) предопределенная природа», за пределами профанного «здесь», изначально относилась к ведению религии.
«ТАМ» И «ДРУГОЕ ЗДЕСЬ»
Очень важно заметить, что при всей своей имманентности «там» все же качественно отличается от «здесь». Это качественное отличие лежит в основе моделей мира, с которыми оперируют архаические общества и которые можно обнаружить в обществах современных.
Возьмем для примера поселение племени, сохранившего архаические черты. Сама территория племени, как правило, располагается на открытом пространстве, где находятся жилища (хижины, вигвамы, шалаши и т. д.). Это мезозона, «здесь». Большинство конструкций и предметов мезозоны имеют размерность, сопоставимую с размерами человеческого тела. Самые большие предметы и конструкции имеют высоту не более трех-четырех «человек», поставленных вертикально, один на другого. Самые маленькие предметы мезозоны достаточно велики, чтобы разглядеть их человеческим глазом и держать пальцами руки.
То же самое касается и психологической и социальной сфер. События мезозоны имеют человеческий масштаб — действия привычны, содержание общения постоянно повторяется, типичны даже конфликты и сбои в коммуникациях, ссоры, непонимания и т. д.
За границей поселения с прилегающими к нему огородами, полуосвоенными, промежуточными между культурой и природой областями начинается «там». В рамках «там» мы сталкиваемся с иной размерностью — как правило, большей, нежели в мезозоне. Если это лес, то его деревья существенно превышают рост человека или даже нескольких человек. Если это пустыня, тундра или степь, то объем неограниченной территории намного больше пространства места проживания или стоянки племени. Горы, реки, озера, моря — размерность природных явлений всякий раз существенно выше масштаба мезозоны. Это важнейшее свойство «там» как области религиозного внимания и опыта. Сакральное превышает профанное масштабом. Отсюда и идея строительства храмов как гигантских сооружений. Храм есть место почитания «там», следовательно, он должен быть огромным, то есть «великим». В.Я. Пропп подчеркивает8, что у древних племен дома мужских инициаций всегда были существенно больше обычных жилищ и поражали неофитов своими гигантскими размерами. Гигантомания архитектуры эпохи Модерна — продолжение этой же тенденции, только в других социологических условиях.
Но можно себе представить, что житель одного племени попадает на стоянку другого племени, отделенного от него зоной «там». Стоянка другого племени снова возвращает нас к мезозоне, к человеческой размерности. Поэтому, несмотря на инаковость — иные фратрии, иные тотемы, часто иные обряды и мифы, — иноплеменник оказывается не «там», а «здесь». Это «другое здесь», которое при этом является не «здесь», но и не «там». Чтобы попасть в «другое здесь», надо, как правило, пересечь зону «там» — лес, реку, степь и т. д. А это всегда сопряжено с определенным риском. Отсюда рождается религиозная концепция путешествия. Любое путешествие есть в своей основе магическое путешествие, пилигримаж, так как предполагает пересечение имманентной границы и пребывание в стихии «там». Каждое путешествие есть религиозное паломничество.
С другой стороны, на этом же принципе основано и ритуальное гостеприимство, распространенное у большинства народов мира. Приходящий незнакомец появляется из стихии «там», из сферы религиозного, и вполне может оказаться существом, принадлежащим этой зоне религиозного, — ангелом, духом, богом и т. д. Более того, даже если речь идет об обычном жителе «другого здесь», сам факт пересечения им религиозной зоны, прежде чем он достигнет этого «здесь», может изменить его содержание. Отсюда многочисленные сюжеты о подмене (младенцев, женихов, невест, заблудившихся путников и т. д.), которая осуществляется при соприкосновении с зоной «там» (лесом, горами, священными местами и т. д.).
САКРАЛЬНОЕ КАК ТАЙНОЕ
Переход через имманентную границу «здесь» мог осуществляться не только по мере увеличения масштабности предметов и явлений, но и по мере ее уменьшения. Так же как «далекое» (через операцию гиперболизации) переходило в «великое», уменьшение мезозоны ниже определенного порога создавало иную форму «там», на сей раз связанную с такими понятиями, как «тайное», «скрытое», «внутреннее». Если далекое «там» было «слишком» видимым (огромным), то внутреннее «там» было невидимым, тайным. Но по многим своим аспектам это тайное также относилось к области религии, к сфере сакрального, противостоящего профанному. Жизнь приходит к человеку изнутри, она оживляет тело невидимо, и в невидимую же сферу уходит дыхание после смерти. Это измерение невидимой жизни, «слишком маленькой», чтобы ее различить на мезоуровне, порождает представление о «тайном» мире, о «потустороннем», об особом пространстве, населенном душами умерших, таинственными силами, духами и т. д.
ЕДИНСТВО САКРАЛЬНОГО
Все, что выходит за пределы «здесь» и в далекое, и в тайное, образует не две отдельные зоны религиозного внимания, но одну и ту же зону. Это одно и то же «там», превышающее мезоуровень профанного и неразделимое в самом себе. Религия имеет дело с «там», с «сакральным» в самом общем смысле, и при этом оба регистра — «далекое» и «тайное» — сливаются в общую картину, отличающуюся в равной мере от того, что пребывает «здесь». Поэтому в мифах, сказках, легендах и религиозных учениях фигуры и образы обеих зон «там» сплошь и рядом перемешиваются; «очень большое» соседствует с «очень маленьким» (или переходит в него); путь на край света приводит к собственному дому; погружение в колодец или пещеру уводит в дальние страны и т. д. Это смешение регистров не случайно и не является предметом искусственного соединения «бесконечно большого» с «бесконечно малым», как в некоторых философских построениях, например у Николая Кузанского9 (1401–1464) или в математических конструкциях. Изначальная структура сакрального соединяет эти полюса естественным и глубинным образом по принципу принадлежности к «там». В сакральном как раз и сливаются противоположности, действующие в рамках профанного, «здесь». Где начинается «там», действуют иные законы и связи, соответствия и структуры. Эта область есть область религиозного.
РЕЛИГИЯ И ВООБРАЖЕНИЕ
Даже при самом поверхностном обзоре становится совершенно очевидно, что сфера сакрального, зона там, точно соответствует тому, что мы имеем в виду под мифосом, коллективным бессознательным и имажинэром. Но важно также, что эти же структуры воображения мы встречаем при исследовании того, как структурирован сам социум, который в данном случае при определении религии и ее сферы попадает в зону «здесь», зону профанного. «Здесь» и «там» в равной степени являются развертыванием мифа, поэтому религия не есть добавление к обществу, но сопричастна самой его сути. Как этнос и есть миф, так общество и есть религия. При том что специфической зоной внимания «религии» является «там», эта зона полностью гомологична зоне «здесь». В обоих случаях мы имеем дело с развертываемыми структурами мифа, поэтому основы всякого общества всегда и непременно сакральны. Но эта сакральность присутствует в обществе, разделяемом на «здесь» и «там», неодинаковым образом. «Там» сакральное сохраняет свою живость, свою энергию, свою внутреннюю динамику, свой накал. «Там» сакральное, миф присутствуют в свежей и всякий раз новой форме. А «здесь», в мезозоне социума, сакральное существует в «охлажденном» виде, как банализированное, затертое, привычное и поэтому не вызывающее сильного всплеска экзистенциального опыта. Но тем не менее «здесь» не есть нечто фундаментально иное, нежели «там»: генетически они тождественны и всегда гомологичны. Профанное — это просто застывшее сакральное, то есть сакральное, потерявшее впечатляющую животворящую, ужасающую и восхищающую силу.
Поэтому-то мы и говорим, определяя религию, об имманентной границе, которая, разделяя топологию на зоны, не придает им фундаментально инаковых свойств, несводимых друг к другу. «Там» есть в конечном счете идеовариация «здесь», и наоборот — «здесь» есть идеовариация «там». Общество космично, космос социален.
Все это прекрасно видно в русскоязычном употреблении слова «мир» — это одновременно община и Вселенная, причем и то и другое отмечено признаком баланса, то есть «миром» в смысле гармонии, равновесия. Но мир внутри самого себя имеет границу, отделяющую «мир сей» от «мира иного», посюстороннее от потустороннего, одну родовую фратрию этноса от другой. Они гомологичны и различны одновременно, представляют собой развертывание имажинэра по одной и той же модели, но в разном энергетическом регистре.
Религия концентрирует свое внимание на мире как Вселенной, на потустороннем, на мире ином. Но этот жест переноса внимания не выносит ее за сферу социального. Напротив, религия выполняет функцию социального интегратора, она-то и конституирует социум в самом полном и общем смысле, охватывая все возможные зоны человеческого внимания — от самых далеких до самых близких и интимных. Через свою сосредоточенность на сакральном религия обнаруживает ключ к профанному, фундаментализирует его структуру и замыкает его на полноценную и всеобъемлющую стихию коллективного бессознательного. Профанное разрешается в сакральном, как социальное достраивается в религиозном до максимально возможной полноты. Поэтому религия является, с одной стороны, социальным институтом, а с другой — чем-то большим, так как несет в своей матрице все общество в целом, со всеми его институтами, ролями и статусами, включая представления о том, что обществом, в узком смысле, не является, — то есть о природе. Религия социализирует мир, делает его доступным для человеческого восприятия, но в то же время придает социуму макрокосмический характер — общественное устройство всегда воспроизводит устройство Вселенной как ее микрокопия.
Фундаментальная роль, отводимая Дюркгеймом в структуре социума религии, и, соответственно, придание религиозному фактору центрального значения в социологии являются, таким образом, выражением самой социальной природы религии и, более того, религиозной природы социальности.
РЕЖИМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В РЕЛИГИИ
В структуре «там» (ibi) как в коллективном бессознательном мы вполне можем выделить знакомые нам режимы — диурн и ноктюрн. Очевидно, что «далекое» и «великое» в сфере религии резонирует с образами и фигурами режима диурна. То, что превышает по величине мезозону профанного, подпадает под режим гиперболы — этого отличительного признака героического мифа, диайрезиса. Там же мы встретим и другие риторические свойства диурна — антитезу, плеоназм и т. д.
В области тайного мы сталкиваемся с мистическим ноктюрном и риторикой эвфемизма. Невидимое становится видимым; незаметное и малое — «дыхание», «душа», «внутренний мир» — приобретает самостоятельное значение; отсутствующее мыслится как присутствующее. Отсюда само название «душа» в русском языке — «дыхание», невидимый воздух, едва заметное колебание. Или «псюхе» («yuch» — дословно «бабочка», нечто легкое и маленькое) — «душа» у греков. В некоторых случаях душа изображается в виде младенца, отсюда разновидности иконографии ангелов — невидимых существ. При этом и то и то попадает в область «там», становится зоной приоритетной компетенции религии, и в некоторых случаях религиозные мифы, обряды и сюжеты, описывающие сакральное и как «великое», и как «тайное», смешиваются между собой в общий нерасчленимый религиозный или мифологический комплекс.
Однако тщательное исследование режимов воображения может существенно упорядочить миф и расшифровать его содержание, если при учете принципиального единства сакрального выделить в нем группы сюжетов и символов, относящихся к диурну и к ноктюрну.
РЕЛИГИЯ В УЗКОМ И В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ
Здесь можно снова обратиться к стремлению Дюркгейма разделить религию и магию. Общие описания религиозных институтов и магических практик в архаических обществах, которые дает Дюркгейм10, позволяют отнести к религии «там далекое», а к магии — «там тайное». Открытость, коллективность, упорядоченность религиозных культов и институтов точно соответствуют диурну. Закрытость, персональность и неформальность магических операций — легко узнаваемые черты ноктюрна. Эта связь не оставляет сомнений и на первый взгляд подтверждает корректность разделения Дюркгейма отсылкой к теориям Дюрана.
Но существует множество случаев, когда в религиозную систему проникают чисто магические (ноктюрнические) ритуалы и, напротив, магические системы и операции порождают особые институты, весьма напоминающие религиозные. Если учесть общность зоны, находящейся за пределом профанного мира, то мы сможем оба режима отнести к сакральному, то есть к религии — будь то «обращение внутрь» ноктюрна или обращение «вдаль и вверх» диурна. Религия, в широком ее смысле, покрывает всю область того, что лежит за «имманентной границей», то есть «там». Поэтому магия может быть рассмотрена как часть религии. А если использовать все же классификацию Дюркгейма, почерпнутую им у этнологов и исследователей фольклора Тейлора и Фрэзера, то можно сказать, что религия в узком смысле, не включающая в себе магию, представляет собой все, что имеет отношение к сакральности диурна, за вычетом сакральности ноктюрна. В дальнейшем мы ограничимся термином «религия», понимая под этим религию в широком смысле как социологическое явление, тотально и приоритетно сфокусированное на сакральном и через эту фокусировку объясняющее и упорядочивающее профанное.
Контрольные вопросы
1. Какова структура религиозного начала в социологии воображения?
2. Расскажите, как вы понимаете сакральное.
3. Что такое «там» в социологии архаических обществ?
ГЛАВА 9.2
РЕЛИГИЯ И ПОЛЮС САКРАЛЬНОГО
ЖРЕЦЫ И ПОЛЮСА САКРАЛЬНОГО
В социальной структуре любого общества мы сталкиваемся с различными стратами. Конфигурация этих страт предопределяет характер общества — от самого примитивного и архаического до самого сложного и комплексного. Стратификация имеет самое прямое и непосредственное отношение к религии.
Во многих обществах сфера религии соотносится с особой кастой (сословием) — жречеством. Аналогом жреца в некоторых обществах выступает шаман, который является фигурой, сочетающей в себе религию и магию. О месте жреца во властных стратах мы подробно говорили в предыдущем разделе.
Именно жрец в максимальной степени связан со сферой религии и представляет собой ее живое воплощение. Институт жречества и есть религиозный институт. Однако здесь следует сделать одну оговорку. Если вся сфера трансграничного сакрального делится на две зоны «дальнего» и «тайного», нельзя ли предположить наличие в истоках религии разделения жреческих функций на две составляющие — на жрецов «дальнего» и жрецов «тайного»? Такая дуальность четко соответствовала бы и двум противоположным режимам бессознательного, и делению этноса на две фратрии — с двумя формами жречества, и дюркгеймовскому делению религии в широком смысле на религию в узком смысле и магию. Само именование Жильбером Дюраном режима антифразы «мистическим» также о многом говорит. «Мистическим соучастием» называет Леви-Брюль структуру «дологического» мышления примитивов, что соответствует скорее обращению к «тайному» и «скрытому», чем к «дальнему» и «высокому».
Гипотетически, таким образом, можно разделить институт жречества на две категории — на жрецов «дальнего» и жрецов «тайного».
ДУАЛИЗМ ЖРЕЧЕСТВА: БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ ШАМАНЫ
Такой дуализм жреческих функций мы встречаем в самых разных культурах. Средневековые представления о белых и черных магах, о добрых феях и злых колдуньях, ставшие непременными сюжетными линиями волшебных сказок, прямо указывают на существование этого дуализма на архаических стадиях.
Так, среди народов Сибири четко прослеживается дуализм так называемых «белых шаманов» и «черных шаманов»11. Белые шаманы поклоняются преимущественно богу высокого синего неба (Тэнгри у тюрков, Нум у самоедов, Буга у тунгусов и т. д.), черные шаманы — богу преисподней (Эрлик-хан у тюрков, Сядэй у самоедов, Аринки у эвенков и т. д.). Однако эти фигуры не мыслятся как прямые и абсолютные антагонисты, они скорее символизируют полюса сакрального: один — то, что максимально высоко (далеко вовне), другой — то, что максимально глубоко (внутри, внутри Земли). Наличие дифференциации между шаманами говорит нам о различии векторов в самом сакральном, но эти векторы в равной мере принадлежат области мифа, то есть находятся по ту сторону «имманентной границы». В некоторых случаях белые шаманы вынуждены обращаться к Эрлик-хану и его окружению, а черные шаманы — к Тэнгри.
Нечто аналогичное мы видим у многих архаических народов Тихоокеанского ареала, Африки и у индейцев Северной и Южной Америк. У древних славян встречаются остатки дохристианских культов Белобога (Сварога, небесного бога) и Чернобога (бога глубин и низин)12. По реконструкциям ученых Иванова–Топорова, эта оппозиция позже отразилась в паре Перун–Велес, а в христианскую эпоху перешла на образы св. Илии-пророка и св. Власия. В некоторых сказках строго небесным началом выступает св. Илия, а близким к простым людям святым, входящим в их нужды, — св. Никола13. Сходные сюжеты, точно повторяющие русские сказки, мы встречаем и в Нартовском эпосе в спорах нартовских богов — Уацилла (позже отождествленного со св. Илией) и Уастырджи (отождествленного со св. Георгием).
DEUS OTIOSUS
Двойственность полюсов сакрального можно увидеть в процессе появления в религии такой фигуры, как «deus otiosus», дословно — «ленивое божество» (лат.). Мирча Элиаде тщательно исследовал эту тему14. Deus otiosus — это бог светлого неба, то есть сакральное в его «далеком» и «великом» выражении. Это дальний бог (режим диурна). Роль этого бога в мифологии часто бывает второстепенной: он пребывает слишком далеко и не имеет точек пересечения с обыденной жизнью людей. О нем и его величии упоминают священные предания, но в структурах сакрального — в обрядах, космогонических легендах, в обычаях и институтах — он не играет никакой роли. Так, постепенно, этот высший персонаж мифологии забывается. Он упоминается все реже и реже, становится высшей, но не функциональной фигурой в общем контексте религии. Это удел «слишком далекого», «слишком великого» бога.
На этом фоне бог внутреннего, бог тайны оказывается в привилегированном положении. Он всегда близок — даже чрезмерно близок — человеку, земле, миру. Он также находится в сфере сакрального, но эта сфера представляется более доступной, так как лежит внутри. Поэтому второй полюс сакрального подчас начинает восприниматься как преобладающий и действенный на фоне «ленивого божества» «слишком светлого» неба.
В некоторых случаях между этими фигурами прослеживается четкая оппозиция: далекий бог ведет войну с тайным (внутренним) богом. В такой диурнической модели различие между ориентирами жречества может легко перерасти в оппозицию.
В случае религии езидов15, которая сохранилась среди современных курдов, можно увидеть, как дуализм между далеким богом и тайным богом, символизируемым павлином, «малак тавус» («ангел света и тьмы»; «малак» — от арабского «ангел» и «тау» — «свет», «си» — «тьма» по-курдски), и отождествляющимся (по крайней мере, мусульманами и христианами, соседями езидов) с сатаной, «князем мира сего», перерастает в приоритетное поклонение именно этому «тайному» богу, а высший бог постепенно становится deus otiosus. Изначальный иранский религиозный дуализм стирается, меняет свои черты, и мы имеем дело с переносом центра сакральности на то, что лежит за пределом имманентной границы в зоне сокрытия, невидимости и тайны.
ДИХОТОМИЯ КОРОЛЬ–ЖРЕЦ
Сама структура сферы религии, содержащая в себе зоны «далекого» и «тайного», переплетенные между собой, на фундаментальном уровне вызывает две пары оппозиций. Первая оппозиция — сакральное/профанное (или, что то же самое, там/здесь); вторая — далекое/тайное (в рамках самого сакрального). В первом случае противопоставляются мезозона и все то, что находится за ее пределами. Во втором — полюса внутри «запредельного». Эти оппозиции предопределяют несколько типов социальных дихотомий и разные формы сочетания религиозных функций социальной элиты общества.
Первая дихотомия — сакральное/профанное — предполагает деление социальной элиты на две функции — жрецов, в чьем ведении находится сакральное, религиозное, и царей (вождей, князей), в чьем ведении находится профанное, обыденное. Однако здесь уместно еще раз вспомнить об имманентности границ, на которой основано определение сферы религии. Общество внутри мезазоны и мир вовне ее в изначальных формах социума представляют собой гомологичные, подобные ансамбли. Великое и невидимое («там») определяет то, что находится и происходит «здесь»; но это значит, что и «там» — в великом и невидимом — развертываются процессы, схожие с теми, которые происходят «здесь». Поэтому жреческие и царские функции не могут быть отделены друг от друга слишком четко, поскольку это породило бы иллюзию полной автономии этих областей друг от друга, что противоположно самой сути социальности. И сакральное, и профанное конституируются развертыванием структур воображения одновременно как единый индивидуационный и социообразующий процесс.
Из этого можно сделать вывод: граница между жреческими и царскими функциями является имманентной и социальные функции жрецов и царей гомологичны. Из этого утверждения следует несколько чрезвычайно важных социологических положений.
1. Верховная власть в обществе может принадлежать жрецу. В этом случае жрец берет на себя функции царя. Акцент будет ставиться на однородности «там» и «здесь» либо на императивном превосходстве «там» над «здесь» и требовании подчинить то, что «здесь», тому, что «там». Эта социологическая модель объясняет нам сущность теократии, то есть главенства в обществе жреческой касты. Примеры такой теократии мы видим в теориях гвельфов Западной Европы (где высшим властителем Запада признается папа римский) или в ламаистском государстве Тибета, где верховным политическим правителем считается глава буддистской общины — далай-лама.
2. Главой религиозного культа может являться царь, который становится во главе жреческой иерархии. В этом случае подчеркивается однородность «здесь» и «там» — в том смысле, что земная власть есть интегральная часть магического владычества богов и духов. Пример такого типа мы видим в египетских фараонах или в современной англиканской церкви, главой которой является монарх Великобритании. У скифов и древних германцев сплошь и рядом царь, князь или вождь были одновременно верховными жрецами.
Имманентность границы между жреческими и властными функциями порождает множество форм симбиоза жречества и светского господства, которые могут принимать как гармоничные формы (православная идея симфонии властей), так и конфликтные (противоречия между гибеллинами и гвельфами, «революция кшатриев», попытки царей узурпировать жреческую власть, что подробно описывал философ Р. Генон16).
ВТОРОЙ ТИП ДИХОТОМИИ: ДАЛЕКОЕ/ТАЙНОЕ
Второй тип дихотомии связан с темой разделения на полюс «далекого» и полюс «тайного» в самом сакральном. Поскольку сакральное в целом однородно, то оба эти полюса закономерно принадлежат сфере религиозного и подчас перемешиваются между собой. Невидимый мир и мир далекий, «великий», «небесный» отождествляются. Слова Христа из Евангелия — «царство Божие внутрь вас есть» — в этом смысле являются показательными. В Евангелии содержится много аналогичных высказываний, совмещающих маленькое (например, горчичное зерно) и великое (например, горы — способность двигать горами, имея веру с горчичное зерно). Поэтому в религиозных учениях, и особенно в эсхатологических мифах, эти два полюса неразрывно связаны. Показательно, что истории про великанов (по-русски — волотов), как правило, соседствуют с историями про гномов, карликов, цвергов и эльфов (по-русски — пыжиков). Однако различие полюсов сакрального может приводить и к дихотомии, как мы видели выше в случае двух типов шаманов или магов — белых и черных. Мы показали, что это деление связано с двумя режимами бессознательного — диурном и ноктюрном.
Эта дихотомия имеет огромное значение для социологии религии, так как теоретически может выразиться в трех формах:
1) экзотеризм/эзотеризм;
2) религиозный дуализм;
3) два типа религий (диурн/ноктюрн).
ЭКЗОТЕРИЗМ И ЭЗОТЕРИЗМ
Первый случай представляет собой выделение в рамках одной и той же религии двух направлений, или путей (пути в великое и пути в тайное). Этому, как правило, соответствуют две стороны религии — экзотеризм и эзотеризм. Экзотеризм есть внешняя сторона религии; эзотеризм — внутренняя. Иногда как синоним слова «эзотеризм» используется термин «мистика», то, что связано с тайной. Оба этих определения — экзотеризма и эзотеризма (мистики) — становятся чрезвычайно выразительными при учете социологического описания структуры религии. В этом случае религиозным структурам диурна (бог светлого неба, акцент на огромном и далеком, аскетизм, мораль) будет соответствовать экзотеризм, а структурам ноктюрна (бог ночной тайны, акцент на невидимом, ускользающем, тихом, парадокс, логическое противоречие) — эзотеризм.
В Библии в истории о пророке Илии описывается откровение Бога Илии. Когда Илия пребывал в отшельничестве в горной пещере (пещера — признак ноктюрна), случились землетрясение, буря, гром и молния. Но каждое великое потрясение гигантских сил сопровождалось фразами «но не в буре Господь», «но не в землетрясении Господь», «но не в громе Господь». И когда все стихло, Илия почувствовал «глас хлада тонка», то есть еле уловимое дыхание невидимого ветерка. И было сказано: «Это был Господь»17.
В этом сюжете мы видим хрестоматийное описание мистического эзотерического посвящения. И не случайно у иудейских каббалистов (эзотериков) главной фигурой при посвящении является пророк Илия, приходящий под видом странника (о символизме странника и его связи с «там» мы говорили выше).
ДУАЛИСТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ
Второй случай — построение дуалистической религии, где далекое противопоставляется тайному (чрезвычайно близкому), как добро — злу, а свет — тьме. Дуалистическая религия делает самый радикальный вывод из данной дихотомии и постулирует культ, основанный на вражде двух полюсов сакрального между собой. Как правило, такая религия отдает предпочтение именно дальнему и гигантскому и ополчается на тайное и скрытое. В этом мы легко узнаем сценарий развертывания мифа диурна, дуалистически противопоставляющего свои структуры структурам ноктюрна. День идет против ночи с широко открытыми глазами. Так, религиозные культы небесного дуализма жестко противостоят хтоническим или подземным божествам, «демонам»; громовержец Перун бьется с хтоническим Велесом; грозный и грозовой Тор — с чудовищами и злыми эльфами и т. д. Самой законченной формой такого жесткого религиозного дуализма является древнеиранская традиция — маздеизм и зороастризм, — влияние которой распространялось и на древние иудейские воззрения, и на более поздние дуалистические секты и ереси — гностицизм, манихейство, богомильство и т. д. Характерно, что симметричных культов, взятых с обратным знаком, то есть религий тайного, противопоставляющих себя религиям дальнего, мы практически не встречаем (за исключением современного пародийного сатанизма, который с точки зрения полноценной социологии религии является недоразумением и выражает тенденции, сопряженные со спецификой общества Модерна и Постмодерна, к религии имеющие весьма отдаленное отношение). И снова это легко объяснить через режим ноктюрна, который настроен на то, чтобы избежать любых оппозиций, эвфемизировать их. Ночь спокойно включает в себя день как свою идеовариацию, разновидность. В том состоит ее стратегия. Ночь растворяет границы.
ДВА ТИПА РЕЛИГИЙ
Третий случай — выделение среди религий отдельных типов, одни из которых относятся преимущественно к поклонению богу далекому, другие — к поклонению богу тайному. Этот вариант приводит нас к тому дуальному типу культур, который мы разбирали в разделе о социологии этноса, когда говорили о теллурической и хтонической культурах, а также в разделе, посвященном властной стратификации, упоминая теорию аллогенных элит.
Есть религии, где акцент падает преимущественно на поклонение далекому богу, богу светлого неба. Это можно назвать культом автономного диурна. «Там» видится в этих культах как исключительно великое, гигантское, небесное, огромное, бескрайнее, вертикальное. Юпитер Статор или бог огромного синего неба Тэнгри — типичные фигуры диурнической религии. Культура такого типа — это культура теллурическая (по Фробениусу), где доминируют холмы, курганы, башни, зиккураты, храмы, стелы, мегалиты, менгиры, пирамиды и т. д. Это религия дня, света, солнца, вирильного мужского начала.
Другой тип религии — ноктюрнический. Он ставит в основание культа тайное, сокрытое (сокровище), невидимое, перемещающееся украдкой, а также женское, материнское, подземное, ночное. Ему соответствуют культуры хтонического типа — религия пещер, подземелий, катакомб, подземных храмов (в древней Сирии храмы Баала имели множество подземных этажей, крипт), ночных богослужений, часто — кровавых жертв. Это религии мистерий и великих матерей, спуска в ад. Магия, колдовство, ведьмовство и «черный шаманизм» — далекие пережитки этих некогда распространенных и широко институционализированных религий.
ВАРИАНТЫ СУПЕРПОЗИЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ СТРУКТУР
Если представить себе ситуацию изолированного существования диурнических и ноктюрнических религий, то каждая могла бы сохранять свой баланс и свою структуру. Если же предположить их столкновение или наложение друг на друга, то возможны несколько вариантов.
1. Возникнет дуалистическая религия борьбы света против тьмы (аналогично дуализму в древнеиранской религии).
2. Культ неба и великого затмит культ ночи и тайного. Это бывает чрезвычайно редко и может быть представлено лишь как чисто теоретическая возможность.
3. Культ неба и великого рассосется в культе ночи и тайного. Это происходит, напротив, достаточно часто, через ресемантизацию (переосмысление) основополагающих мифов в ноктюрническом ключе.
4. Культ неба и великого станет экзотерической стороной религии, а культ ночи и тайного — эзотерической. Это имеет место практически во всех типах монотеистических религий — иудаизме, христианстве и исламе, где диурническому экзотеризму соответствует эзотерическая традиция мистики: каббала в иудаизме, суфизм в исламе, монашеская мистика и, особенно, исихазм в христианстве.
5. Культ неба и света гармонично сочетается с культом ночи и тайного на формальном и неформальном уровне, породив религиозный синтез, то есть разрешая дихотомию полюсов сакрального через ее преодоление. Ярчайшим примером этого является индуизм, где диурническая религия ведийских ариев смогла гармонично сочетаться с ноктюрническими культами местного населения Индостана, породив бесконфликтную и гармоничную систему религии, цивилизации и философии. Веды — свод религиозных учений и мифов древних ариев — носят ярко выраженный диурнический и отчасти дуалистический характер. Но веданта — свод текстов, толкующих Веды, — это уже продукт синтетической религиозной культуры, основанной на принципе адвайты, «не-двойственности», где дуализм диурн–ноктюрн полностью снимается. Согласно адвайта-веданте, «атман есть брахман» (то есть «невидимое дыхание», «я» и великое и далекое божество, порождающее Вселенную, тождественны»).
6. Культ неба и великого становится религией элиты, а культ ночи и тайного — религией массы. Этот дуализм может присутствовать в форме сосуществования двух типов религии в одном и том же обществе, но чаще всего в форме либо незавершенного синтеза (когда элиты и массы по-разному толкуют религиозные учения, сложенные из двух составляющих — аллогенных или автохтонных), либо неявной (имплицитной) трактовки общего религиозного учения разными социальными стратами.
РЕЛИГИЯ ЭЛИТ И РЕЛИГИЯ МАСС
Последний описанный нами вариант представляет собой очень важный социологический случай, где при наличии официальной религии, ориентированной на далекое и великое, номинально принятой всеми стратами общества, разные страты — элиты и массы — толкуют их по-своему, в соответствии с особыми режимами бессознательного.
Мы видели в предыдущей главе, что тип элиты имеет ярко выраженные диурнические черты. Поэтому неудивительно, что для социальных элит приоритетным религиозным культом будет культ далекого и великого. Соответственно, в религии света и высокого ясного неба элиты будут естественным образом находить опору своей власти и образец для ее укрепления.
И строго симметрично этому, для масс — по крайней мере для устойчивого ядра масс, где тенденции к подъему на высшие страты общества минимальны, — более естественно ориентироваться на сакральное в его тайном, сокрытом аспекте. Это, кроме всего прочего, дает психологическую компенсацию за пребывание в позиции рабов перед лицом господ. Логика ноктюрнического эвфемизма масс вполне может быть выражена евангельской истиной «последние станут первыми». Такое чудо возможно только в пространстве невидимого, волшебного, мечтательного, где «последние», безнадежно отставшие, погружаются в еще более неопределенные и размытые зоны, лежащие ниже имманентной границы, чтобы компенсировать свое печальное положение в обществе. На солнечную религию господ массы отвечают чарами ночной магии.
В этом духе и складываются модели двоеверия, когда формально принятая религия на массовом уровне получает совершенно специфическое толкование. И самое важное здесь — не наличие формальных параллелей с прежними религиями (хотя они и встречаются сплошь и рядом), но различие режимов между трактовками религиозного содержания у масс и у элит. Двоеверие, таким образом, следует социологически рассматривать не просто как наложение двух религиозных моделей друг на друга (последующей на предыдущую), но как суперпозицию двух режимов бессознательного, по-разному интерпретирующих подчас одни и те же религиозные учения.
Это замечание имеет огромное значение для исследования социальной функции религии в русском обществе, где мы имеем именно такую картину: христианство после его принятия толковалось элитами (князьями, боярами и священниками) одним образом, а широкими народными массами — совершенно по-другому. И различие это было не столько в степени богословской компетентности, сколько в режимах коллективного бессознательного.
До принятия христианства нечто подобное имело место в языческой религии Киевской Руси, где четко прослеживаются диурнический пантеон варяжской дружины (возможно, с элементами религии кочевых иранских племен — аланов, асов и т. д.) и элементы собственно славянских божеств, среди которых и пребывает женское божество Мокошь (позже перенесшее свои феминоидные черты на сюжеты, связанные с Параскевой Пятницей и даже с Пресвятой Богородицей).
В качестве крайнего выражения этой социологической дихотомии можно предложить следующую формулу: «Элиты и массы поклоняются разным богам даже тогда, когда внешне все выглядит так, будто они поклоняются одному и тому же».
Контрольные вопросы
1. Расскажите о дуализме жречества.
2. На чем основана дихотомия король–жрец?
3. Каковы два типа религий в их отношении к режимам бессознательного?
ГЛАВА 9.3
ТИПОЛОГИЯ РЕЛИГИЙ И ИСТОРИЧЕСКАЯ СИНТАГМА
РЕЛИГИОЗНЫЙ МАКСИМАЛИЗМ: АРХАИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
Рассмотрим типы религий в исторической синтагме.
Систематизация религий по этой оси координат может быть основана на определении качества имманентной границы, которая входит в определение религии в социологическом контексте.
Нормативным случаем религии является максимальный имманентизм этой границы, то есть ее прозрачность, а также интегральная гомологичность того, что находится внутри нее и вне ее. Это можно назвать религиозным максимализмом: «здесь» и «там» открыты и прозрачны друг для друга под эгидой общего религиозного начала.
Этому соответствуют наиболее архаичные формы религии, где гомология между социумом и миром, культурой и природой, человеческим и нечеловеческим соблюдается полнее и последовательнее всего. Каким бы странным это ни показалось на первый взгляд, чем прозрачнее грань между сакральным и профанным, чем более размытыми являются институты и формы сакрального, тем более религиозным является общество, так как mysterium tremendum подстерегает человека в каждой точке — в том числе и в зоне профанного круга. Воспринимать мир как сплошной поток чудес — и в привычном, и в исключительном — способны отдельные люди и в иных, более сложных культурах; такое свойство считается показателем высшей степени духовности18. Ряд архаических обществ, в частности австралийские и африканские (которые изучал Элиаде, особенно в последние годы своей жизни19), представляют собой именно такие панрелигиозные структуры с максимально прозрачной суперпозицией профанного и сакрального и простейшим символизмом. Символизм — как соединение нескольких значений или объектов в одно целое, в знак — предполагает предварительное разделение (на пару сакральное–профанное). Там, где эта разделяющая граница максимально прозрачна, символ теряет свое значение, так как профанного объекта, который символизировал бы сакральное присутствие как нечто отличное от конкретной вещи (а это и есть символ), просто не существует: любой профанный объект и есть сакральное наличие, «там» находится не там, а здесь.
Чистейшей формой такой прямой и всеохватывающей сакральности является пример индейского племени пирахан, о котором мы уже неоднократно упоминали. Это затерянное в Амазонке племя не имеет ни мифов, ни легенд о происхождении мира и самого племени, ни вообще какого бы то ни было представления о прошлом и будущем. В языке индейцев пирахан отсутствуют числительные — даже такие простые, как один и два. Все попытки протестантских миссионеров объяснить им суть христианства или перевести на язык пирахан Библию оканчивались фиаско, так как в их культуре и языке отсутствовали необходимые для этого понятия и формы. При этом индейцы пирахан общаются с духами как с живыми людьми. Этнолог и лингвист Дэниел Эверетт20, живший в этом племени, неоднократно видел, как индейцы оживленно беседуют с тем, что представлялось ему пустым местом, а однажды, когда индейцы обещали его познакомить с духом, навстречу ему вышел дикий ягуар, от которого ученому пришлось спасаться бегством.
Хотя речь идет о хтонической версии религии, тем не менее мы имеем дело не с недостаточной религиозностью, а, напротив, с избыточной религиозностью, с тотальной религиозностью в ее чистой стихии. Для пирахан «здесь» и «там» совпадают во всем.
С точки зрения смены парадигм по оси Премодерн–Модерн–Постмодерн можно сказать, что религиозный максимализм относится к первой стадии Премодерна, к архаическим формам религии. При этом легенды и религиозные предания о рае и золотом веке рисуют нам общество, устроенное именно на такой основе. Рай, райский сад — это такое «здесь», которое одновременно является «там», это пространство прямой встречи человека и Бога.
УКРЕПЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ: ФИКСАЦИЯ САКРАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
Следующий логически (но не обязательно хронологически) вариант религии представляет собой уплотнение имманентной границы. В таких обществах сакральное и профанное разграничены довольно строго. Как правило, в таких обществах религия начинает складываться в самостоятельный институт — жречества, шаманства и т. д. Участие в этом институте приобретает структурированный характер. В обществе и природе, в социальной стратификации, гендерной и возрастной сферах, в вопросе разделения труда по профессиональным признакам — во всем повышается степень упорядочивания на основе все более отчетливо прочерчиваемых различий. В этом состоянии «там» не есть «здесь», и, следовательно, взаимодействие социума и потустороннего мира требует более строгих формализаций, нежели на предыдущем этапе.
Здесь появляются символы, мифы, институты, касты, ритуалы и обряды, связанные с сакральным как с чем-то строго отличным от профанного.
Профанное — мезозона — начинает мыслиться как нечто не-сакральное, и дихотомия «здесь–там» постепенно приобретает более антагонистические формы. Достижение сакрального становится уделом не всех, но избранных (жрецов или царей-жрецов), и не всегда, а в исключительных случаях (например, во время проведения особых ритуалов). Это можно уподобить сюжету изгнания из рая в монотеистических традициях: после изгнания контакты с сакральным не постоянны и не общедоступны, но ограничены особыми ситуациями и зарезервированы для особых сегментов общества.
На этом этапе формируются религиозные учения, теории и институты. Этот религиозный тип можно назвать политеизмом или язычеством, так как чаще всего такие религиозные учения имеют множество объектов поклонения, рассредоточенных по горизонтам дальнего и тайного.
Оба рассмотренных нами типа можно охарактеризовать как религии манифестационистского толка21, так как сакральное начало мира (если о нем задумываются) мыслится как нечто единое с самим этим миром. Наличное и преходящее есть проявление (manifestatio (лат.), откуда «манифестационизм») вечного, абсолютного.
САКРАЛЬНОЕ И ПРОФАНИЧЕСКОЕ В ДУАЛИСТИЧЕСКИХ РЕЛИГИЯХ
Следующим шагом на пути укрепления, затвердевания имманентной границы является появление религий дуалистического толка, которые, как мы видели, связаны с активным развитием диурнического подхода. Здесь формируются представления об оппозиции мира света (сакрального как далекого и великого) всему остальному. «Здесь» становится полем битвы между небом и адом, светом и тьмой. Граница приобретает более фундаментальный характер и разделяет отныне вещи и регионы мира все более и более четко: «там» противостоит «здесь», «свет» — «тьме», «свое» — «чужому» и т. д.
При этом, согласно типичной дуалистической религии — зороастризму, тьма постепенно усиливает свой контроль над промежуточной мезозоной (миром людей, обществом), и на определенном этапе «земное» оказывается в прямом противостоянии с «небесным». В этом моменте две дихотомии — между «там» и «здесь» и между «далеким» и «тайным» — сливаются в одну, и из этого представления развиваются многочисленные формы манихейских и гностических учений, часть из которых проникает и в христианство — например, в форме учения Бл. Августина (354–430), бывшего ранее манихеем и формулировавшего теорию двух градов — «земного» («царство», общество, civitas terrena — земное царство или civitas diaboli — дьявольское царство — лат.) и «небесного» (церковь, civitas dei — град Божий), которые ведут между собой непримиримую войну22; эта теория была полностью принята католичеством и стала основой западнохристианской политической мысли. Кроме того, многие места из Евангелия, где небесное противопоставляется земному и дьявол именуется «князем мира сего», можно толковать в том же дуалистическом ключе.
МОНОТЕИЗМ: CREATIO EX NIHILO
Еще более радикальной граница между «здесь» и «там» становится в монотеистических религиях. В них «далекое» и «великое» настолько удаляются от «здесь», от мезозоны, что между ними отрицается какая бы то ни было гомология. Это чрезвычайно важный момент в истории религий. Монотеизм отличается от предшествующих религий утверждением не столько единства Бога, сколько Его единственности и отсутствия у Него и у мира общей меры и, соотственно, общей природы. В этот момент имманентная граница перестает быть имманентной и становится трансцендентной, то есть за ней, по ту сторону, располагается нечто, не имеющее с мезозоной никакой общей меры, абсолютно превосходящее ее и совершенно иное (Ganz Andere, по Р. Отто).
Это подчеркивается в обязательной для всех типов монотеизма идее творения из ничто (ex nihilo). Бог монотеизма настолько далек от мира людей, что сам акт творения мыслится как нечто, основанное на природе, радикально отличной от природы Бога, а так как Бог абсолютен и природа его абсолютна, то этим «строительным материалом» становится «ничто». Это и есть креационизм (от лат. creare — творить, создавать).
В этом случае сакральное (церковь, умма — община верующих у мусульман, иудейская община и т. д.) полностью отделяется от профанного, выносится за его пределы. Причем это касается в первую очередь границы между мезозоной и «далеким». Именно эта часть имманентной границы становится трансцендентной и непроходимой — по крайней мере, в одном направлении — от человека к Богу. Человек отныне есть нечто радикально иное, нежели Бог, он никогда и ни при каких обстоятельствах не может стать Богом по природе в силу постулируемой монотеизмом разности природ Творца и твари23.
МИСТИКА И ЕРЕСЬ
При этом в рамках монотеистических религий, как мы уже говорили, остается место для эзотерической части. То есть граница между мезозоной и «дальним», ставшая непроходимой, остается не столь закрытой между мезозоной и «тайным», «скрытым». Здесь развертывается поле мистических учений, теорий, практик, которые в рамках монотеизма не особенно приветствуются, но чаще всего и не отвергаются жестко.
Христианская мистика, исламский суфизм и иудейская каббала утверждают возможность парадоксальной близости с далеким Богом через цепочку особых практик — посвящений, обучений, обрядов и т. д. Так, через измерение тайного мистические течения в монотеистических традициях пытаются обойти границу между «здесь» и «там», ставшую непроходимой в направлении к «дальнему».
Если эта мистическая линия выходит за определенные рамки и мистики начинают открыто проповедовать «близость к Богу», это, как правило, приравнивается к ереси. Еретиков либо отлучают от церкви — Скот Эриугена (ок. 810–877), Майстер Экхарт (1260–1327/1328) в католичестве, саббатисты в иудаизме, — либо казнят — Аль-Халладж (858–922), Сохраварди (1154–1191) в исламе.
ТРАНСФОРМАЦИИ РЕЛИГИИ В ПРЕМОДЕРНЕ
Мы описали эволюцию имманентной границы в парадигме Премодерна и дошли до его логического предела. Можно поместить эти этапы на сводную схему.
ПРЕМОДЕРН
|
Архаика |
Политеизм |
Дуализм |
Монотеизм |
|
Имманентная граница полностью прозрачна |
Имманентная граница не полностью прозрачна |
Граница становится все более жесткой |
Граница трансцендентна, непроходима, абсолютна |
|
Религия — все, рай, религиозный максимализм |
Религия как особый институт сакрального |
Религия как борьба света против тьмы |
Религия как институт, противопоставленный имманентному (особый случай мистики) |
Схема 38. Религиозные типы в рамках Премодерна
На этой схеме видно, как качественно меняются объем и содержание религии по мере трансформации границы, отделяющей «здесь» от «там», и, соответственно, по мере изменения содержания социальных конструктов «здесь» и «там».
Теперь перейдем к Новому времени.
ДЕИЗМ
Начало Нового времени с точки зрения социологии религии представляет собой переход от теизма к деизму. Теизм — это форма монотеистической религии, в которой наличествуют все религиозные составляющие:
• доктрина потустороннего, предание (описание «там» и того, как его достичь);
• социальная организация (церковь или ее аналоги);
• обряды и ритуалы;
• социально-религиозные иерархии;
• политические модели, основанные на религиозных идеях и традициях.
В христианской Европе теизм сохранялся с периода распространения христианства вплоть до конца Средневековья и частично — в эпоху Возрождения и Реформации.
При переходе к Новому времени мы сталкиваемся с процессом, с которым уже встречались в архаических культах — с превращением «далекого Бога» в deus otiosus, ленивое божество. «Слишком трансцендентный» Бог схоластического христианства становился настолько далеким, что терялся за горизонтом. Скептически настроенные философы Нового времени, не отрицая самого Бога и, более того, доказывая его бытие на основании персональных философских концепций, отказывались при этом верить в «сказки» и на этом основании отвергали теизм. Сохраняя веру в Бога (на сей раз в рационального «бога», «бога философов»), они насмехались над надрациональностью церковного предания, критиковали иерархию и злоупотребления клира, осмеивали чудеса и ставили под сомнение правомочность освященных церковной традицией политических институтов и социальных систем. И так предельно «далекий» («слишком далекий»), Бог рационалистической схоластики превращался в совершенно абстрактную единицу, обоснованную только (подчас громоздкими и индивидуалистическими) теодицеями (доказательствами бытия Бога) светских философов.
В деизме граница между «здесь» и «там» становится абсолютной, и религиозные институты постепенно утрачивают свое сотериологическое (обеспечивающее спасение), социальное и политическое значение.
В этот момент фундаментально меняется социальный статус религии в обществе. Если до этого во всех типах общества религия и ее институты играли фундаментальную, основополагающую роль, являясь центральным ядром общества, то в Новое время начинается процесс секуляризации, маргинализации церкви и религии, перемещение их из центра на периферию.
Религия утрачивает свое социальное и политическое положение, а дело спасения начинает осмысляться как индивидуальная проблема отдельного человека. Сакральное исчезает, его место занимает рациональное.
Этому процессу во многом способствует протестантская религия, которая поставила под сомнение многие аспекты католической традиции и отменила некоторые важнейшие моменты католического теизма — значение предания, обязательность и строгость церковной иерархии, политическую идею католичества, а в некоторых протестантских сектах и саму церковь как организацию. Протестантизм не выходил еще окончательно за рамки теизма, но своим главным методом — толкованием Священного Писания, Библии на основании рациональных индивидуальных заключений — подготовил дорогу последующему деизму.
Деизм превращает deus otiosus схоластики в философскую конструкцию, тем самым окончательное размывая опредставление о «там» и, по сути, выходя за границы того общества, в котором религия играла основополагающую роль.
Это и есть точка перехода к Модерну.
ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕЛИГИИ
В Модерне социальный статус религии фундаментально меняется. Она больше не является необходимым структурным компонентом социума и качественно меняет свое содержание. Утрачивая свое значение и свою роль в качестве социального института, религия превращается в организацию, имеющую отношение к индивидуальному выбору, — в своего рода клуб по интересам. Своими обращениями к философским персоналистским формам теодицеи деизм и протестантская критика католической традиции с разных сторон лишают европейское христианство его претензий на компетенцию в вопросах «дальнего» и общество — обязанности признавать эту компетенцию и считаться с ней. Отношение к «дальнему» становится гадательным, произвольным, основанным на индивидуальных предпочтениях. Это означает, что «там» не просто предельно удаляется, но полностью исчезает. Особенно это касается на первых порах «далекого».
Показательно, что Новое время строго совпадает с эпохой великих географических открытий, в ходе которых обнаруживается шарообразность земли и заполняются белые пятна на карте. По сути, все пространство Земли становится одним глобальным «здесь»; для «там» не остается места; одно «здесь» вплотную прилегает к «другому здесь». Остаточный религиозный рефлекс еще заставляет европейцев помещать «там» в далекие регионы, искать Эльдорадо, углубляться в дебри Индии или Африки, подозревать наличие тайн и неожиданных чудес в самых далеких уголках планеты — на полюсах, в центре недоступных гор, безводных степей или ледяных пустынь. Но постепенно приходит осознание, что есть только «здесь», «одно большое здесь». Мир становится полностью профанным, «далекое» рассеивается, превращается в чистую абстракцию.
Но между судьбами границы «здесь» с «дальним» и границы «здесь» с «тайным» на этом этапе намечается различие. «Дальнее» перестает быть религиозно и социально обязательным, граница (и так уже трансцендентная) становится совершенно непроницаемой. Но внутреннее измерение, возможность погрузиться в сокрытое, невидимое, еще некоторое время сохраняется. Религия смещается именно в этот сектор. Изгнанная из центральных позиций в обществе и отрешенная от общепризнанной компетенции в «дальнем», религия в Новое время превращается в институт, связанный с культивацией «тайного» (то есть, по сути, с магией). К церкви люди приходят отныне на индивидуальной основе, в поисках «сокрытого», для объяснения процессов, протекающих у них внутри.
Сам деизм, как его формулировали Декарт и Ньютон, вполне может быть отнесен именно к этому «сокрытому»: человеческий субъект на основании своих внутренних рассуждений приходит к выводу о существовании Бога. Но это «бог» субъекта, «бог философов», а не «бог» окружающего мира и небесной перспективы. Это «личный бог», «бог скрытый», постигаемый только путем философских упражнений ума.
ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЭТИКА И МОДЕРН
В этот момент мы подходим вплотную к классической для социологической науки теории Макса Вебера о социальной роли протестантской религии в развитии капитализма и создании общества Нового времени — современного общества24. Главный тезис Вебера состоит в том, что современное общество со всеми его основными характеристиками — научно-техническим прогрессом, буржуазной парламентской демократией, либеральной идеологией, индивидуализмом и рыночной экономикой — есть прямой продукт протестантской религии, которая заложила предпосылки для возникновения общества, построенного на радикально новых в сравнении со всеми предшествующими типами началах.
Протестантизм поставил в центре культа фигуру не жреца, но простого человека, типичного представителя буржуазного сословия, рациональный и этический потенциал которого был взят за точку отсчета — вначале в вопросе спасения и толкования Библии, а затем и в качестве нормативной социальной фигуры. Протестантизм как религия дошел до максимальной степени секуляризации, отхода от того, что составляло сущность религии в ее изначальном смысле. Трансцендентное измерение (далекий Бог) и жреческое сословие, ответственное за представительство неба на земле, были отвергнуты. Религиозность свелась к индивидуальному началу, обращенному к своей субъективности, собственным психике и рассудку. Протестантизм стал впервые практической религией, в которой полностью преобладало «здесь», измерение мезозоны, взятой в ее границах. И добродетель и грех, и добро и зло получили истолкование в рамках рутинной бытовой практики. Рачительность, бережливость, работоспособность, предприимчивость как сугубо земные добродетели стали восприниматься как выражение избранности и религиозности. Любые авторитеты ставились под сомнение; каждый отныне был уполномочен предлагать свою трактовку религиозных догматов и священных текстов. Церковь распалась на множество групп, конгрегаций и сект, каждая из которых предлагала свои трактовки религии, изменяла символы и обряды, вводила новшества в богослужебную практику, отменяла запреты и ограничения по своему усмотрению. Фактически религия стала формой социально-политической деятельности.
Вебер показывает: к этому добавилось и то обстоятельство, что во многих странах протестанты или отдельные протестантские секты оказались в роли религиозного меньшинства и испытывали определенные притеснения со стороны католических (или англиканских — в Великобритании) властей. Это заставило ранних протестантов сосредоточить свое внимание на экономической деятельности, которая стала приоритетной зоной реализации их жизненной энергии. Сосредоточившись на материальном предпринимательстве, торговле, промышленности, финансовом секторе, протестанты подготовили почву для буржуазно-демократических революций, в результате чего старые феодальные средневековые порядки в Европе были заменены на новые, продиктованные интересами третьего сословия (буржуазии).
Подход Вебера состоит в том, что он не просто отметил огромное значение протестантского фактора в становлении капитализма, но и прочно связал социально-политические и экономические процессы Нового времени с влиянием Реформации как религиозного движения. Тем самым Вебер ввел в социологию представление о религии как о фундаментальной матрице социальных процессов, что стало аксиомой для этой дисциплины в дальнейшем.
Другой крупнейший немецкий социолог, Вернер Зомбарт, распространил этот подход, заключавшийся в изучении религиозного фактора как фундаментального двигателя социально-политических реформ Нового времени, на католическую схоластику, где он отметил те индивидуалистические тенденции, которые сделали позже возможной Реформацию. Особо Зомбарт отмечал роль иудейского религиозного меньшинства в социально-экономических процессах Европы, которое, так же как протестанты у Вебера, будучи отторгнутым от прямого участия в социально-политической жизни в условиях преобладания католических правил, сосредоточило свои усилия в экономической сфере и использовало этот рычаг для завоевания новых позиций в условиях буржуазно-демократических и либеральных реформ25.
АТЕИЗМ
Протестантизм и деизм стали последними аккордами религии как таковой, подготовившими приход современного общества (социума Нового времени). Когда «здесь» стало тотальным, а перспективы трансцендентности («там») — совершенно абстрактными или произвольно индивидуалистическими, в европейской культуре возникла вполне логичная идея вообще отказаться от Бога, от религии, от какой бы то ни было трансцендентности и перейти к атеизму, полностью светской социальности, где религии не было бы места вообще. Либералы предполагали, что религиозные институты можно сохранить как музейные памятники прошлым эпохам, а социалисты, «левые», полагали, что религия вот-вот отомрет сама собой. Напомню, что Огюст Конт, основатель социологии, считал, что религия в Новое время, в эпоху научных знаний и позитивистской философии, должна полностью исчезнуть, а ее место призвана занять социология. Либералы, таким образом, проявляли безразличие в отношении религии, а социалисты настаивали на ее активном и скорейшем искоренении. Коммунисты в ХХ веке занимались антирелигиозной борьбой самым радикальным и прямым образом — взрывая церкви, уничтожая священников, разрушая святыни и религиозные памятники.
Атеизм представлял собой последний шаг к упразднению «там». Теперь не только существование Бога (далекого) отвергалось как «нелепая выдумка темных веков», но и наличие у человека души, то есть внутреннего невидимого измерения, ставилось под сомнение, а на место души помещалась психика, то есть совокупность нервных связей, передающих импульсы от телесных органов чувств в кору головного мозга. Таким образом, вслед за секуляризацией далекого состоялась секуляризация скрытого, и граница, ранее отделявшая «здесь» от «там», превратилась в границу между человеком и ничто.
Наблюдение такого положения дел заставило одного из самых проницательных и искренних европейских философов Фридриха Ницше объявить в конце XIX века о том, что «Бог умер»26, то есть о конце религии. Трансцендентное исчезло, а имманентное, ранее охватывавшее весь объем бытия, сузилось до мезозоны, до пространства «человеческого, слишком человеческого»27, по выражению Ницше.
ТРАНСФОРМАЦИИ РЕЛИГИИ В МОДЕРНЕ
Трансформации религии в обществах Нового времени можно отразить в следующей схеме.
МОДЕРН
|
Протестантизм |
Деизм |
Атеизм |
|
Отрицание католического теизма — церковного предания, иерархии, таинств |
Отрицание теизма вообще — таинств, предания, церкви как института, |
Отрицание Бога, включая церковь, обряды, догматы, душу. «Бог умер» (Ницше) |
|
Суждение о Боге выносит индивидуальная душа |
Бытие Бога доказывается с помощью философии и выводится из рассудка |
Несуществование Бога и «нелепость религиозных сказок» доказывается научными методами |
|
Далекое там абстрактно, тайное там индивидуально |
Далекое «там» выводится из рассудочного субъекта (т. е. индивидуального полу-там, полу-здесь) |
Никакого там больше нет, есть только здесь |
Схема 39. Трансформации религии в эпоху Модерна
Так происходит в Модерне десоциализация религии, ее маргинализация, ее перемещение из центра социальности на периферию — вплоть до почти полного исчезновения в атеистических (коммунистических) режимах.
РЕЛИГИЯ И ПОСТМОДЕРН (КВЕНТИН ТАРАНТИНО)
В Постмодерне с религией происходит очень интересная трансформация. Уже в Модерне религия утрачивает свое социальное измерение, перестает быть полноценным и центральным институтом, определяющим структуру «там» и его влияния на «здесь», становится индивидуальным и произвольным делом отдельной личности. В Постмодерне религия возвращается, но не в форме полноценного социального института, а в форме симулякра (Ж. Бодрийяр), в форме ироничного намека на то, что Модерн не справился со своей миссией по десакрализации общества. Религия возвращается в форме китча, который вплетается в общий гротескный контекст культуры Постмодерна, постоянно демонстрирующий на разные лады, что Модерн не выполнил свою освободительную миссию и остался — вопреки своим претензиям — в значительной степени «традиционным обществом», которое он силился изжить.
В Постмодерне в этом ключе возможны апелляции к религии крупных политических деятелей, что было немыслимо в Модерне. Именно в Постмодерне можно увидеть президентов и премьер-министров секулярных демократических держав, стоящих со свечками в церкви в христианские праздники, или услышать в качестве объяснения того, почему США напали на Ирак из уст президента США Дж. Буша-младшего: «Бог сказал мне — напади на Ирак!» («God said me — strike Iraque!») Все это ни в коей мере не есть возврат к Премодерну; это элемент нигилистической стратегии Постмодерна в его критическом диалоге с Модерном, которому выставляется счет за то, что он должен был бы совершить, но не совершил.
Искусство Постмодерна приоткрывает нам значение «возврата к религии» в культовом фильме режиссера Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». В нем один из героев — профессиональный киллер Джулс (актер Сэмюел Л. Джексон) — в ходе совершения циничных убийств вовсю цитирует «Книгу пророка Иезекииля» и произносит моральные проповеди, типичные для американского пастора. То, что библейские формулы звучат из уст наемного убийцы, занятого своим ремеслом, зритель призван воспринимать вполне естественно: в Постмодерне сочетается то, что в Модерне или Премодерне сочетаться не могло.
Другой аспект религии Постмодерна — феномен «новой религиозности». Это понятие представляет собой смесь из различных — часто экзотических — религий, далеких по времени или географическому местоположению от той среды, члены которой ее практикуют. Вырванные из контекста своих обществ восточные или африканские культы — кришнаизм, дзэн-буддизм, йога, шаманизм, вудуизм и т. д. — становятся модным увлечением широких социальных слоев в западных странах. Как правило, от этих религий берутся только отдельные элементы, связанные с гигиеной, медициной, эстетикой, философским парадоксализмом или боевыми искусствами. В остальном эти фрагменты перемешиваются с плохо понятыми научными или паранаучными теориями и гипотезами, представляя собой эклектику, заменяющую собой мировоззрение.
NEW AGE
Другой формой «новой религиозности» является поверхностный интерес к мистике, эзотеризму и оккультизму, а также к упрощенным формам сакральных наук — астрологии, магии, алхимии, инициации и т. д. Взятые вне религиозного контекста, в отрыве от своей структуры, эти занятия способны только еще более увеличить смятение умов и гротескную фрагментарность культуры Постмодерна. К этой же категории относятся неоязычники, экстрасенсы, колдуны и гадалки, всплеск интереса к которым является характерным признаком «новой религиозности». В целом это направление Постмодерна принято называть New Age («новый век»).
РЕЛИГИЯ КАК СИМУЛЯКР
Взятые все вместе, эти факторы позволяют сказать, что в Постмодерне религия «возвращается» как симулякр, подделка, экстравагантная и вырванная из контекста форма с подмененным содержанием или вообще без него.
Можно сказать, что, устав от бесконечности профанного «здесь», человек Модерна стремится оживить унылый технократический пейзаж механизированной культуры обращением к «там», но это обращение не достигает своей цели, так как Модерн провел-таки огромную работу по секуляризации и десакрализации мира, по «расколдовыванию мира» (М. Вебер), и вместо «там» он предлагает все то же «здесь», только хаотически перемешанное, лишенное структуры, логики, последовательности и упорядоченности. Это снова мезозона, только превращенная в «экстравагантный ансамбль» (М. Конш28).
Контрольные вопросы
1. В чем смысл разделения области сакрального и области профанного?
2. Что нового приносит в баланс «сакральное–профанное» монотеизм?
3. Каковы трансформации религии в эпохи Премодерна, Модерна и Постмодерна?
ГЛАВА 9.4
СОЦИУМ В ХРИСТИАНСТВЕ
До этого момента мы рассматривали религию, ее институты и структуры с точки зрения социологии. Теперь дадим общий обзор того, как сами религии понимают социум в его нормативном образце. Ограничимся в нашем рассмотрении крупнейшими монотеистическими религиями — христианством, исламом и иудаизмом.
ТРИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРИОДА ХРИСТИАНСТВА. КАТАКОМБЫ
Христианская религия может быть разделена на три периода, на каждом из которых церковь (как совокупность христиан) имеет различную социальную характеристику, меняет свое значение, свой принципиальный общественный статус.
Первый период может быть назван катакомбным. Он длится от апостольских времен — проповеди Евангелия в Иудее, на Ближнем Востоке и в эллинско-романском мире — до Медиоланского эдикта (313) о веротерпимости римского императора Константина (272–337) и вскоре последовавшего за ним воцерковления Римской империи.
В этот период христианская община представляет собой чисто религиозную группу, находящуюся на периферии общества, периодически подвергающуюся гонению, вступающую в острые противоречия с социальными нормативами, господствующими в социальном большинстве (как среди иудеев, так и среди граждан Рима и подчиненных Риму провинций). Ранняя церковь существует в катакомбах, развертывая структуры «параллельной иерархии», сосредоточенной вокруг инициатических учений и духовных символов, отличных от религии большинства.
С точки зрения теории элит ранние христиане — это пассионарная контрэлита, чрезвычайно активная и убежденная в истинности своей веры вопреки любым формам давления социального конформизма. Вера в Христа, воскресшего из мертвых, дает христианам силы противостоять угрозам, пыткам, притеснениям, гонениям. Именно в этот период социальным нормативом катакомбной церкви становится мученичество. Христиане идут на смерть с широко открытыми глазами и свидетельствуют (в греческом языке слово «мученик» — «marturoz» — означает в первую очередь «свидетель») тем самым о превосходстве своей веры и своей религии над земными условиями и законами «здесь».
Можно сказать, что с социологической точки зрения христианская община в этом периоде представляет собой сообщество маргиналов. Но сами христиане видят свою церковь как сплоченную духовную и социальную силу, где между членами установлены особые законы и отношения. Христиане не просто мыслят себя как родственников, братьев, как большую семью, объединенную общим отцом — Богом; по словам апостола Павла, «церковь есть тело Христово», то есть все христиане суть часть единого организма, единого тела, единого органического существа. Поэтому связи между ними приобретают особый социальный характер, по интенсивности превосходящий три типа социальных отношений, описанных Сорокиным (семейные, договорные и властные). Элементы всех трех отношений присутствуют в христианской общине: все христиане — братья во Христе, все они связаны с Христом и друг с другом Новым Заветом (юридическая составляющая — «Завет» — «договор»), и наконец, первая церковь управляется вначале апостолами, затем их преемниками — епископами, пророками, учителями (дидаскалами), у которых есть власть вязать и решить в вопросах духа.
Но к этим трем типам социальных отношений добавляется четвертый — отношения абсолютного единства, любви, любви к Богу и любви к ближнему, что, по словам Христа, является наивысшей заповедью. Христианская любовь — «agaph» (агапэ) — не просто любовь членов семьи друг к другу или любовь между полами. Это особое свойство полного органического единения в единодушном и раскаленном стремлении к «там» со стороны «здесь», воля к «обожению». Именно этот четвертый тип отношений открывает христианской общине путь к следующему периоду.
ВИЗАНТИЗМ: ХРИСТИАНСТВО И ИМПЕРИЯ
Второй этап в истории христианства связан с воцерковлением Империи. При императоре Константине Великом гонения на христиан прекращаются, а вскоре сам император делает христианство официальной государственной религией Римской империи. Параллельно с этим он переносит столицу Римской империи на Восток, в Грецию, в город Византий, который позже получает название Константинополь. Константинополь называется Вторым Римом и связывается с христианским периодом Римской империи.
В этот период проходят первые Вселенские соборы, на которых утверждается и закрепляется догматика христианской церкви, отвергаются «еретические» толкования определенных мест Священного Писания, упорядочивается церковная иерархия, принимается «Символ Веры». Император принимает деятельное участие в первом Никейском Вселенском соборе, который созывается по его настоянию в 325 году.
С этого момента христианская церковь становится главным и центральным религиозным институтом Римской империи и многих других стран, в которых христианство распространяется, а сами христиане из гонимой маргинальной группы превращаются в духовную и социальную элиту.
В этот период законы исключительной общины любви, скрепленной мученичеством, истовым исповеданием веры и часто — необходимостью жить в нелегальных условиях (катакомбный период), меняются на более мягкие и более терпимые законы христианского общества, куда входят огромные массы вчерашних язычников или людей иного вероисповедания. Очевидно, что здесь осуществляется фундаментальное изменение самого нормативного типа христианина — из представителя пассионарной, сверхволевой контрэлиты он превращается в добропорядочного гражданина гигантской христианской империи. Происходит переход от христианства элиты (контрэлиты) к христианству масс.
Естественно, критерии принадлежности к церкви смягчаются: сложные испытания, предшествовавшие ранее крещению, упрощаются, становятся чисто номинальными; начинается крещение целых народов и этносов, средним представителям которых христианское учение открывается в несколько ином свете, нежели членам христианской церкви катакомбного периода.
В этот период происходят следующие трансформации единой христианской общины эпохи катакомб:
• церковь становится правящим социальным институтом, а церковная иерархия превращается во властвующую элиту нового общества;
• наиболее радикальная часть христиан обособляется в институт монашества, отшельничества, отделяя себя от остального общества и формируя монастырскую общину (воспроизводящую в основных чертах общины первых христиан);
• возникает дилемма отношения христианской церкви к политическим системам тех государств, где церковь занимает главенствующие позиции.
МОНАШЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ НОРМАТИВ
Христианская церковь и церковная иерархия оказываются в положении правящей элиты, определяющей нормативы социального общежития и даже политические решения в общеимперском масштабе. Контрэлита становится элитой и вынуждена адаптировать свое учение и свои нормы к широким массам, чего раньше она никогда не делала. Как реакция на это растяжение религиозного норматива появляется монашество, настаивающее на сохранении уникальных условий существования первых христиан на основе горячей и всепоглощающей любви, что становится практически невозможным в широком обществе, с необходимостью включающем в себя подавляющее большинство тех, кто является христианами лишь номинально. Этот ответ монашества очевиден и сохраняется на всем протяжении христианской истории как стремление сохранить дух катакомбной церкви и ее социальный, религиозный и этический идеал. Показательно, что в Византии и в Древней Руси именно монашеские установления, правила и предписания брались в качестве общеобязательного социального норматива. По монастырским уставам осуществлялись посты, чтения молитвенных правил и т. д. И хотя далеко не все в обществе были способны соблюдать эти правила в миру, именно они принимались в качестве нормы, образца социального действия.
НОРМАТИВНЫЙ СОЦИУМ В КАТОЛИЧЕСТВЕ
Отношение христианской церкви к государству в новых имперских условиях постепенно приобрело две нормативные формы, которые позже предопределили разделение церквей на православную (восточную) и католическую (западную). Центральную роль в этом позднейшем разделении играло именно различие в социальных учениях двух параллельно развертывающихся ветвей христианства. Это связано в определенной мере и с различием исторических судеб восточной и западной частей Римской Империи. В V веке западная часть Римской империи попадает под власть германских варваров: в 476 году вождь германского племени герулов Одоакр снимает порфиру с малолетнего последнего императора Рима, носящего, словно в насмешку, имя Ромул Август, и принимает национальное звание «конунга» Италии. При этом варвары не отрицают главенства христианской церкви, и власть папы, римского епископа, становится основой социального, религиозного и отчасти политического единства Западной Европы.
Это приводит к тому, что на Западе становится доминирующим учение Бл. Августина о «двух градах». Церковь как «град Божий» противопоставляется «граду земному» (что долгое время исторически означало государственность варварских вождей — чаще всего германцев). Возникают два концептуально противопоставленных друг другу общества — «общество святых» (священство, клир, церковная иерархия) и «общество грешных», обычных людей. В этой модели элиты противопоставляются массам даже в рамках единой религии.
Так формируется католическое учение о церкви (экклесиология) как о совокупности жрецов, клире. Главой церкви считается папа римский, предводитель «града Божия» на Земле. И хотя христианство становится религией, господствующей в пространстве всей Западной Европы, поделенной на несколько государств, подконтрольных, как правило, германской военной элите, католичество противопоставляет церковь светской власти, сакральное оказывается в оппозиции профанному. Отсюда возникает нормативный социальный проект — победа «града Божьего» над «градом земным», установление в мире теократии, где власть католической церкви и ее предводителя папы римского будет признана высшей политической инстанцией.
НОРМАТИВНЫЙ СОЦИУМ В ПРАВОСЛАВИИ
Православная традиция решает проблему воцерковления Империи иначе. В отличие от западной половины христианской эйкумены на востоке Империи, в Византии, сохраняются политическая независимость и суверенная государственность — вплоть до 1453 года (год взятия Константинополя турками). На протяжении этого более чем тысячелетнего периода в Византии складывается модель симфонии властей, когда между высшим лицом церковной иерархии Патриархом Константинопольским и императором (василевсом) наличествуют отношения гармонии и единомыслия. Император приобретает титул внешнего епископа церкви и мыслится как гарант и защитник христианской веры. Это усугубляется теорией катехона, когда под упоминаемым во Втором послании апостола Павла к фессалоникийцам (солунянам) катехоном, «удерживающим», задерживающим приход в мир антихриста, понимается именно император. Император воплощает в себе метонимически всю Империю, а значит, политическая структура христианского государства и, соответственно, христианского общества берется в качестве интегрально религиозного института.
Это становится основой православного учения о содержании понятия «церковь». В Православии под церковью понимают совокупность всех крещеных христиан — от клира, священства до простых верующих. Так складывается социально-религиозная модель, альтернативная католичеству. Церковь в Православии не есть отдельная организация, ведущая борьбу с профаническим государством и обществом, Церковь есть весь христианский народ, который проживает в Империи и христианских государствах, и такое расширительное толкование делает сами эти государства и общества, в первую очередь Империю, включенными в церковную ограду, священными, сакральными. Так происходит сакрализация государства и его политических институтов в христианском ключе.
Трения между православным и католическим пониманием церкви и общества долгое время пребывают в латентном состоянии. Вспыхивают они особенно ярко в 800 году, в момент коронации Карла Великого в императоры Западной Римской империи, что удваивает, по мнению православных, значение фигуры катехона и является не просто узурпацией, но знаком прихода антихриста29. Окончательное разделение церквей на Западную и Восточную, католическую и православную происходит в 1054 году. После этого каждая церковь и общества, на которые она оказывает решающее воздействие, развиваются по своим собственным траекториям.
СОЦИОЛОГИЯ ТРЕТЬЕГО РИМА
После падения Константинополя в 1453 году Московская Русь, сформированная по лекалам византийского православного понимания соотношения религии и общества, принимает имперскую эстафету. Это находит свое выражение в теории Москвы — Третьего Рима. Из нее следует не просто самостоятельность русской церковной иерархии после уклонения греков в унию с католичеством (Флорентийский собор) и последующего падения Царьграда, но и специфика отношения церкви с государством, народом и обществом, построенного на основании симфонии властей и православной экклесиологии. Русь становится святой в самом прямом смысле именно в Московский период, так как центр религиозной истории переносится из Византии в Москву.
Яснее всего эти идеи излагают иосифляне, последователи св. Иосифа Волоцкого, развивавшего теорию соработничества церкви, государства и общества в едином деле спасения.
Отсюда следует сакральность русского социума, ставшая в XV — и особенно в XVI — веке государственной и общенародной социальной идеей.
ПРОТЕСТАНТСКОЕ ОБЩЕСТВО
Протестантизм, получивший развитие в XVI веке, представляет собой явление западное, формируется внутри католической традиции, но полностью противостоит ее основным моментам. Протестанты отрицают претензию католичества на то, что папа и римская иерархия представляют собой «град Божий». Но не принимают они и православного представления о симфонии властей (далекого и чуждого им по историческим обстоятельствам). По сути, они отрицают церковь вообще, как религиозный институт, и толкуют ее как искусственно создаваемую конгрегацию отдельных христиан, объединяющихся добровольно на основании рационального выбора и свободных в любой момент ее покинуть. Протестантизм делает религию индивидуальным делом и тем самым вводит новую модель отношения церкви к обществу. В глазах протестантов нормативным становится общество, построенное на основаниях договорных отношений между христианами, которые могут в любой момент пересмотреть эти отношения или расторгнуть их.
Вместо церкви как «града Божьего» в католичестве, предполагающего общество избранных, священников, и вместо Священной Империи, сакрализованного общества христиан византийского образца, Реформация утвердила нормативное представление о «христианстве» как о формальной совокупности отдельных индивидуумов, которые могут толковать содержание Священного Писания в широких пределах с опорой на собственный рассудок. Показательно при этом, что протестантизм отвергает институт монашества. Так, Лютер, сам начинавший свой путь монахом, позже оставил его и женился.
Нормативом протестантского социума становится, таким образом, отдельный христианин, христианин-обыватель.
ТРЕТИЙ ПЕРИОД ХРИСТИАНСКОЙ ИСТОРИИ: СОЦИОЛОГИЯ АПОСТАСИИ
К третьему периоду христианской истории, который должен последовать за периодом воцерковления империи, относятся эсхатологические пророчества христианской литературы — все связанное с «концом света» и наступлением «царства антихриста». Отступление от веры называется в христианской теории термином «апостасия», дословно — «отступничество». Религия утверждает, что по истечении определенного периода наступит период всеобщей апостасии. С этим связаны новые социальные условия. В этот период общность христиан в третий раз меняет свое значение. Церковь снова становится гонимой, как в языческие времена катакомбного периода. Но разница состоит в том, что «катакомбы» были эпохой восхода христианства, эпохой живой веры и горячей любви, пылающей на фоне нехристианского, языческого социума, а в период апостасии речь идет о повальном предательстве самих христиан, об оскудении христианской веры, о вырождении и упадке христианского социума. Христиане «катакомб» были контрэлитой, смотрящей смерти в лицо. Христиане периода апостасии — растерянные, сбитые с толку феноменами мира антихриста, колеблющиеся между искушением ложными чудесами и верностью преданиям отцов.
Новое время, отличающееся секуляризацией общества, остыванием религии, маргинализацией церкви, точно соответствует именно периоду апостасии, а технический прогресс и производство новых, невиданных доселе аппаратов являются ярким примером «чудес антихриста», призванных сбить верующих с толку, подкупить их доверие. Гуманизм, светская культура, секуляризм, прогресс, эволюция, социальное развитие, демократизация — все то, что человек Модерна автоматически заносит в положительные социальные ценности, в глазах христианской социологии однозначно служит «знамениями времени», то есть признаками наступления периода апостасии и прихода антихриста.
В этой ситуации последовательное христианское отношение к миру и обществу может выражаться только в полном их неприятии, в отказе от каких бы то ни было компромиссов с Модерном (не говоря уже о Постмодерне, который не только не скрывает, но всячески подчеркивает свою «демоническую» природу) и его ценностями.
СОЦИОЛОГИЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА
Яркими примерами последовательно христианского отношения к наступлению эпохи Модерна как к эпохе апостасии были такие явления, как русское старообрядчество или сопротивление Французской революции со стороны крестьян Вандеи.
Старообрядцы восприняли реформы патриарха Никона как отказ от нормативов святорусского общества и поднялись на восстание. Секуляризация, модернизация, изменение церковных обрядов, а также исправление книг по новогреческим образцам были истолкованы как признаки наступления конца времен и скорого прихода антихриста. С этим связаны эсхатологические мотивы в русском расколе, готовность многих староверов скорее принять смерть, нежели признать правоту наступающего общества Модерна. Начавшись с реформ Никона, эти процессы в самом скором времени действительно привели к модернизационным реформам Петра Первого, который упразднил патриаршество, подчинил церковь светскому лицу (оберпрокурору Синода), чуть было не уничтожил монашество как институт.
Позже старообрядцы создали самостоятельный религиозный социум, который может быть рассмотрен как образец религиозной общины в период апостасии. Бывшая Святая Русь для староверов перестала быть святой и стала восприниматься ими как «Вавилон», «мерзость запустения», а сакральная Империя превратилась в отчужденную государственную машину, состоящую из «кадровых» (то есть из сознательных участников апостасийного общества)30.
Этим объясняются и активное участие старообрядцев в крестьянских восстаниях XVII–XVIII веков, и даже исторический факт участия староверов — казаков-некрасовцев, эмигрировавших в Османскую империю, — в военных действиях против русской армии на стороне турок.
ВАНДЕЯ И АПОСТАСИЯ РЕВОЛЮЦИИ
Другим примером реакции христиан на приход Модерна может служить история крестьянского восстания в Вандее. В ряде французских провинций местное население — в основном крестьяне, ремесленники и сельские священники — отвергло декреты революционного правительства, отказалось посылать рекрутов в республиканскую армию и присягать Конвенту. Вместе с остатками верной королю знати они образовали отряды вооруженного сопротивления, формировавшиеся под лозунгом «За короля и веру».
Восставшие отчетливо понимали, что Французская революция является ярчайшим выражением апостасии, порывает с тем обществом, которое считалось для них нормативным и единственно возможным. Они поднялись отстаивать «короля и веру», а после казни Людовика XVI — только «веру», с оружием в руках. Превосходящие силы республиканцев подавили восстание, но оно вспыхивало с новой и новой силой в Вандее вплоть до эпохи Наполеона, а последний раз в 1832 году — в поддержку законного монарха.
Современный историк так описывает карательную экспедицию республиканцев против Вандеи.
«В начале 1794 года командующий Западной армией генерал Тюрро приступил к исполнению страшного декрета от 1 августа, решив покарать мирное население, поддерживавшее повстанцев. „Вандея должна стать национальным кладбищем”, — угрожающе заявил он. Тюрро разделил свои войска на две армии, по двенадцать колонн в каждой, которые должны были двигаться навстречу друг другу с запада и с востока. „Адские колонны”, как их тут же окрестили, с января до мая жгли дома и посевы, грабили, насиловали, убивали — и все это „во имя республики”. Счет жертвам шел уже на многие тысячи. Но особенно чудовищными были экзекуции в Нанте, где свирепствовал член Конвента Каррье. Около десяти тысяч человек, многие из которых никогда не держали оружия в руках, а просто сочувствовали повстанцам, были казнены. Одни погибли под ножом гильотины, другие в Луаре: людей усаживали в большие лодки и пускали на дно посередине реки. С супругов срывали одежду и топили попарно. Беременных женщин обнаженными связывали лицом к лицу с дряхлыми стариками, священников — с юными девушками. Каррье называл такие казни „республиканскими свадьбами”. Он любил наблюдать за ними с изящного суденышка, плавая по Луаре со своими подручными и куртизанками. Так за свою непокорность Вандея была потоплена в крови»31.
Подобные сцены живо напоминают казни первых христиан, с той лишь разницей, что в катакомбный период мученики утверждали веру перед лицом язычников, представителей имперской власти, которой в будущем предстояло стать вместилищем церкви. И многие из палачей, как свидетельствует агиографическая и мартирологическая литература, в самый разгар пыток обращались и присоединялись к казнимым. Мученики благословляли палачей, желая им обращения. В истории Вандеи мы имеем дело с христианским обществом, с людьми, выросшими на христианских ценностях (и палачи, и жертвы). Но едва ли можно себе представить, как куртизанки из свиты «маньяков Просвещения» Тюрро или Каррье принимают сторону гибнущих провинциальных простолюдинов.
С точки зрения христианского взгляда на историю начало Модерна совпадает с наступлением периода апостасии, а модернизация и секуляризация общества есть знаки «прихода антихриста».
РЕЛИГИОЗНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОСТМОДЕРН
Общая модель христианского понимания социальной роли церкви может быть сведена к следующей схеме.
|
Циклы христианской истории |
Премодерн Модерн Постмодерн |
|||
|
Катакомбный период |
Воцерковление империи |
Апостасия |
||
|
33–313 гг. |
IV–XVII вв. |
XVII–XX вв. |
ХХI в. |
|
|
Политический статус церкви |
Катакомбная община (любовь, инициация) |
«Град Божий» (против «града земного») Православная империя |
Реакционная сила, подлежащая уничтожению либо Маргинальное объединение наподобие клуба по интересам |
«Клоуны», элементы экзотики, ироничный аргумент против Модерна |
|
Социальный статус христиан |
Контрэлита |
Правящая |
Мракобесы, ретрограды, маргиналы, реакционеры |
Симулякры, чудаки |
XVI–XIX вв.
Протестантизм
Переход к секуляризации
Схема 40. Периодизация социальных циклов христианской истории
Из этой схемы ясно видно, насколько двусмысленным является то, что называется «возрождением религии» в XXI веке. С точки зрения христианского взгляда на историю и ее периоды современное общество однозначно относится к периоду апостасии, а следовательно, христиане должны занимать в его отношении заведомо отрицательную позицию, что предельно точно соответствует различным формам христианского фундаментализма — старообрядчества в православии, консервативного движения кардинала Лефевра в католичестве (представители этого направления отвергли постановления Второго Ватиканского собора 1962 года, отменившего многие традиционные для католичества правила в угоду либерализму, секуляризации и «правам человека») или крайних протестантских сект (таких как американские амиши).
Общество Модерна в этой перспективе видится как общество приходящего в мир антихриста, а Постмодерн со всех точек зрения и будет означать сам этот приход. Причем если в Модерне церковь и религия постепенно маргинализировались, сдвигались на периферию общества, то в Постмодерне начинается более сложный и двусмысленный процесс — религия постепенно начинает подменяться ее симулякром, под видом «возрождения христианства» происходит замена собственно христианских установок суррогатами, экстравагантными подделками — в духе неогностицизма, харизматического движения, перешедшего из протестантизма в католичество, экуменизма или, напротив, показного традиционализма, воспроизводящего древние религиозные установки вплоть до мелочей, но без всякого реального содержания.
Постмодерн в глазах последовательных христиан — это не только финальный аккорд апостасии, но и последнее прельщение, соблазн, когда общество, отвергнувшее Бога и не покаявшееся за это, даже не осознавшее того, что оно совершило, делает вид, что это было «ничего не значащим эпизодом», и как ни в чем не бывало включает заброшенные и отвергнутые религиозные темы, сюжеты и символы в расхожую культуру. Постмодерн попускает религии вернуться в общество не из-за тяги к религии, но от полного безразличия к ней и, более того, из стремления к симуляции, к ироничной стратегии смешения исторических, социальных, культурных и идеологических парадигм. Терпимость общества Постмодерна к церковным практикам и религиозным взглядам, в отличие от жестко антирелигиозного Модерна, означает еще более тонкую и изощренную практику апостасии в отношении последних остатков христиан. Это и есть соблазн и попытка выдать царство антихриста за его противоположность. Рене Генон называет это явление «великой пародией»32.
Контрольные вопросы
1. Назовите и опишите три исторических периода в христианстве.
2. Что такое апостасия? Как ее понимают христиане? Как ее понимают атеисты?
3. Как старообрядцы относятся к послераскольному российскому обществу?
ГЛАВА 9.5
СОЦИУМ В ИСЛАМЕ
РАЗЛИЧИЯ ИСЛАМСКОГО И ХРИСТИАНСКОГО СОЦИУМОВ
Исламское представление о нормативном обществе существенно отличается от христианского. Самым главным различием является то, что в исламе нет института жречества, которое представляло бы собой кастовую или сословную элиту, сконцентрированную на вопросах «там». Конечно, исторически мусульмане, выбирающие делом жизни изучение исламского богословия, посвятившие себе исключительно вопросам веры, так называемые улемы (учителя) или муллы (служители Аллаха), постепенно стали определенным аналогом жрецов и священников. Но это обстоятельство ничего не меняет в нормативной и общеобязательной установке ислама, утверждающей, что все мусульмане без исключения полностью и строго равны перед Богом33. Это равенство не допускает выделения ни одной группы, которая находилась бы в особом положении.
В христианстве существует два этапа посвящения — крещение (обязательное для каждого христианина) и рукоположение, хиротония (предназначенная только для священства, клира). Наличие второго посвящения проводит институциональную и социальную грань в христианском обществе между простыми верующими и священством.
Поэтому в исламе нет такого понятия, как церковь в смысле строго религиозного института. Вместо этого ислам утверждает понятие уммы, то есть общины верующих, к которой относятся все мусульмане, независимо от их этнической принадлежности, социального статуса или гражданства.
Исламская умма — это и есть исламское общество, отличающееся от других обществ тем, что ее члены верят в единого Бога (в арабском языке «Аллах» — не какой-то определенный бог, но Бог как обобщающее понятие), признают Мухаммеда пророком, а Коран — священной книгой и подчиняются совокупности законов и правил, обобщенных в понятии «шариат».
ШАРИАТ
В Коране и хадисах, толкованиях Корана, в отличие от Евангелия, содержатся детальные описания того, как должна быть организована социальная жизнь исламской уммы, вплоть до мельчайших подробностей, оговаривающих законы экономики, права, судопроизводства, наказания, отправления обрядов, форму и объем налогов и т. д. Совокупность социальных законов, определяющих повседневную жизнь мусульман, называется шариатом. Исламское общество нормативно должно быть построено полностью по законам шариата.
Законы шариата предусматривают обязательную ежедневную пятикратную молитву (салят), сопровождающуюся омовениями, выплату налогов в пользу уммы (закят), еженедельное собрание по пятницам на общую молитву (джума), соблюдение ежегодного поста (рамадан), предписывают благочестивым людям совершать по возможности паломничество (хадж) в Мекку, священный центр ислама в Саудовской Аравии, а также участвовать в священной войне за установление веры в единого Бога против «многобожников» и «идолопоклонников» (джихад, газават). Шариат строго оговаривает правила брака (в исламе допускается многоженство), запрещает взимание процента с капитала (риба), предписывает обязательную помощь богатых членов уммы бедным.
Социальный кодекс ислама представляет собой сочетание древнеарабских этнических обычаев, элементов, заимствованных из других монотеистических религий (иудаизма и христианства), и нововведений Мухаммеда.
УЧЕНИЕ О «ТРЕХ ДОМАХ»
Социальные нормативы шариата считаются в исламе неизменными и не связанными ни с какими историческими периодами. Соблюдать их обязан каждый мусульманин, а если он оказывается в положении, когда этому препятствуют внешние ограничения (например, когда мусульмане представляют собой религиозное меньшинство), он должен стараться изменить ситуацию и при необходимости бороться за свои религиозные права или стремиться трансформировать социальные нормативы иным способом.
Ислам, как и другие религии (причем, быть может, в еще большей степени и более радикально), связывает религиозные установки с социальными. Быть верующим в исламе значит принадлежать к обществу верующих, к обществу вполне определенного типа и построенному в соответствии с вполне определенными законами и началами. Ислам как религия полностью социален и бескомпромиссен в этой социальности.
Из этой установки вытекает концепция «трех домов», описывающая модель поведения мусульманина в трех типах обществ.
Первый дом — это «дом ислама» (дар аль-ислам). Он обозначает общество, полностью построенное на принципах шариата, включая открытое утверждение этого в социальной и политической сферах. Это норматив, к воплощению которого в реальности должен стремиться каждый мусульманин. В рамках «дома ислама» специально оговаривается возможность мирного существования «людей книги» (ахль аль-китаб), к которым относятся иудеи и христиане, а также ближневосточная религия сабеев — все они при этом облагаются дополнительным налогом. Представители иных религий подлежат искоренению — либо уничтожению, либо обращению в ислам.
Второй дом — это «дом лжи», или «дом лживого (шайтана)» (дар аль-куфр). К этой категории относятся все общества, где преобладают языческие (немонотеистические) культы, возведенные в социально-политический норматив, и, шире, все неисламские государства и общества.
Третий дом — «дом войны» (дар аль-харб). Эта социологическая категория включает в себя тех мусульман (членов уммы), которые оказались внутри «дома лжи» и приняли решение вести войну за торжество ислама. Задача членов «дома войны» — превратить «дом лжи» в «дом ислама», то есть трансформировать социальную систему неисламского толка в социальную систему, основанную на шариате.
В разные эпохи инструменты реализации проекта построения всемирного исламского общества могут быть различными. В истории преобладали формы ведения прямых военных действий и завоеваний.
Эта традиция войны за веру берет начало в личной истории пророка Мухаммеда, боровшегося с представителями других аравийских племен под знаменем ислама. Позже на основе этой парадигмы происходили арабские завоевания, в ходе которых был создан халифат, простиравшийся от Испании и Марокко до Индии и Индонезии. Халифат для мусульман — пример того, как нормативным образом следует организовывать «дом ислама» из «дома лжи» с помощью «дома войны» («священной войны» против «неверных», джихада).
В более поздние эпохи эта социологическая модель исламской уммы претерпела определенные изменения, так как после распада халифата отдельные части исламского мира стали преобразовываться в обособленные государственные и культурные системы, вобравшие в себя местные этнические и социополитические черты. Так, в исламских странах складывались династические верхушки правительств, формировалось сословие богословов и учителей (улемов), происходило социальное расслоение и вспыхивали межгосударственные конфликты между исламскими же странами. Однако социальным нормативом, несмотря ни на что, оставалась модель общества, построенного на строгом соблюдении законов шариата.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В СУННИЗМЕ И ШИИЗМЕ
Во втором поколении проповеди ислама произошло разделение уммы на два враждебных течения, которые постепенно сформировали несколько отличные друг от друга социальные нормативы. Это суннизм, которого придерживается большинство мусульман, и шиизм, распространенный в Иране, Ираке, Ливане и отдельных прилегающих регионах.
Суннизм строго следует описанной выше модели шариата и настаивает на полном равенстве всех верующих мусульман перед Богом. Шииты же считают, что зять и двоюродный брат пророка Мухаммеда, Али, и его потомки представляют собой особый род избранных существ (имамов), который хранит секреты истинного толкования Корана и хадисов (изречений пророка) и обладает священным правом верховенства во всей исламской умме. Партия имама Али (по-арабски «шиа» — «партия») проиграла политическое и военное сражение с суннитами, равно как и дети Али — Хасан и Хусейн, — погибшие мученической смертью. Поэтому традиция шиизма представляет собой традицию побежденного, но не сломленного меньшинства в рамках самого ислама, остающегося верным своим представлениям об имамате (институте имамов) и своим религиозным убеждениям.
Шииты признают шариат и другие нормативы ислама, общие для обеих групп, но добавляют к этому веру в святых имамов и убежденность в том, что правом легитимной политической власти в обществе должны обладать только алиды, потомки Али.
Однако последний имам (двенадцатый у большинства шиитов или седьмой — у некоторых малых групп, таких как исмаилиты или алавиты) считается скрывшимся в мистическом тайном месте и пребывающим вне времени. Период сокрытия называется по-арабски «гайба». В период гайбы, по мнению шиитов, вообще не может быть полностью легитимного социально-политического устройства и жизнь шиитской общины должна руководствоваться указаниями особых духовных вождей, которые способны вступать в мистический контакт со скрытым имамом. Так будет до наступления «последних времен», когда скрытый имам вернется и восстановит в умме справедливый порядок, нарушенный еще на заре ислама.
Шиитам на протяжении исламской истории несколько раз удавалось захватить политическую власть и построить общество на началах шиитского учения. Наиболее яркими примерами являются Фатимидский халифат (909–1171) и современный Иран (после революции 1979 года). Во всех случаях фигура скрытого имама (махди) играет ключевую роль в социальной и политической системе.
В социальной модели шиизма эсхатологический мотив — возвращение скрытого имама, прекращение гайбы и восстановление идеального общества — имеет фундаментальное значение и предопределяет социальную и отчасти революционную ориентацию шиитской политики.
ФЕНОМЕН ВАХХАБИЗМА И ИСЛАМСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ
Ставшее в последнее время чрезвычайно известным — в связи с появлением терроризма на исламской основе — явление ваххабизма представляет собой отдельное направление в исламе, возникшее в XVIII веке и связанное с деятельностью исламского богослова Мухаммеда аль-Ваххаба (1703–1792). Ваххабизм (а также параллельное ему течение салафизм) представляет собой пример реформаторского движения, призывающего вернуться к изначальному исламу после долгого периода сращивания исламских обществ с местными социокультурными системами. Ваххабиты отрицают все традиционные богословские школы ислама (масхабы), жестко негативно относятся к шиизму и суфизму (эзотерическое и мистическое направление в исламе), призывают восстановить халифат в мировом масштабе и основать общество на «чистых» исламских ценностях, искаженных, по мнению ваххабитов, в ходе истории34.
Ваххабиты и салафиты берут на вооружение теорию «трех домов» и отвергают компромисс с неисламскими формами политического и социального устройства, к которому привыкли не только мусульмане, представляющие собой религиозное меньшинство, но и многие исламские страны, сочетающие законы шариата с иными социокультурными принципами.
Специфика ваххабизма и салафизма с их особыми социальными проектами позволяет в наше время говорить о двух больших семействах внутри ислама.
С одной стороны, подавляющее большинство мусульман придерживается так называемого традиционного ислама — такого ислама, который адаптируется к социальным и политическими условиям тех обществ, где живут мусульмане, — будь они исламскими, но с этнической составляющей, светскими или какими-то еще. Традиционный ислам довольствуется частичным соблюдением законов шариата, пытается вписать ислам в этнический, социокультурный и политический контекст. Такой ислам, как правило, перетолковывает призыв к джихаду в мистическом ключе — как призыв к борьбе со злом и грехом внутри человека, отказывается от теории «трех домов», терпимо относится к суфизму (исламскому эзотеризму).
С другой стороны, ваххабизм и салафизм, а также некоторые близкие к ним исламские течения (такие как секта «Таблиг» в Пакистане, движение талибан в Афганистане и т. д.) образуют общее направление исламского фундаментализма. Для этого направления характерны:
• буквальное понимание предписаний Корана;
• социально-политическая активность в деле безукоснительного соблюдения правил шариата (вплоть до терроризма);
• организация уммы по принципу «джамаатов» — мужских братств, стремящихся построить общежитие на основах справедливости, взаимопомощи и равного распределения материальных благ.
Фундаменталисты считают любые компромиссы и отступления от буквы Корана и от соответствующего социально-религиозного кодекса недопустимыми и неоправданными и на этом основании возводят свои политические проекты построения мирового исламского государства.
Исламский фундаментализм является движением относительно небольшого меньшинства, так как подавляющее число современных мусульман исповедует традиционный ислам. Однако высокая политическая и медийная активность фундаменталистов и широкое использование ими террористических методов борьбы способствуют широкой известности именно этого направления.
ИСЛАМ И МОДЕРН
В рамках исламского общества внутренних мотивов к социальной модернизации и переходу к Модерну мы не встречаем ни на одном историческом этапе. Любые тенденции, напоминающие Модерн, приходили в исламский мир с Запада — как правило, через европейскую колонизацию территорий с преобладающим исламским населением, а позднее — через инерционное развитие постколониальных режимов, продолжающих находиться в тесном контакте с западными обществами.
Собственно, модернизм в исламе означает просто отход от ислама как такового, предполагающего совершенно однозначную социально-религиозную и политико-экономическую модель, жестко противоречащую западноевропейским буржуазно-демократическим стандартам. Попытка сочетать ислам и Модерн дает общества гибридного типа (археомодерн или псевдоморфоз), основанные на затушевывании и эвфемизации острых противоречий.
Вместе с тем в самой исламской религии заложены некоторые элементы, которые так или иначе резонируют с парадигмой Модерна. Так, вполне модернистскими являются идея равенства всех верующих перед Богом, отсутствие клира, идея индивидуального отношения к вере. В традиционном исламе эти тенденции в значительной степени стерты под влиянием этнических и иных социокультурных влияний. Но в современном исламском фундаментализме, обращающемся — как и европейский протестантизм — к корням и истокам религии, как это ни парадоксально, можно различить некоторые тенденции, созвучные Модерну. Здесь прослеживается прямая параллель с функцией протестантизма в самой Западной Европе. Там Реформация создавала предпосылки для перехода к парадигме Модерна. И в современном исламском фундаментализме — по той же логике — содержатся некоторые элементы, которые отчасти способствуют модернизации традиционного ислама. Но вместе с тем здесь есть и такие элементы, которые не имеют с Модерном ничего общего. Поэтому исламский фундаментализм является сложным социологическим явлением, требующим внимательного и детального исследования. И совсем неверным является расхожее представление о нем как о крайнем выражении архаики. Традиционный ислам и особенно суфизм намного более архаичны, нежели ваххабитские теории.
В целом же между исламским социальным нормативом и секулярными формами общества Модерна существует жесткое противоречие, которое может решаться в формате либо–либо. Либо ислам настаивает на своей социальной матрице, и это означает отказ от Модерна, либо мусульмане понимают секулярные, демократические и либеральные схемы, но при этом отказываются от части своей религиозной идентичности.
Что касается Постмодерна, то он абсолютно чужд исламскому обществу, так как относится к историческому опыту совершенно иных культур.
Контрольные вопросы
1. В чем отличия исламского социума от христианского?
2. Расскажите про учение о «трех домах» в радикальном исламе.
3. Что такое ваххабизм?
ГЛАВА 9.6
СОЦИУМ В ИУДАИЗМЕ
ЗНАЧЕНИЕ ИУДАИЗМА
ДЛЯ ДРУГИХ МОНОТЕИСТИЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ
Среди трех монотеистических религий иудаизм является наименее массовой и ограничивается этническими границами еврейского этноса. Теоретически существует возможность принятия иудаизма не евреем (через особое посвящение — гиюр), но это является исключительным случаем.
Вместе с тем иудаизм и Библия, которую иудеи считают священной книгой, оказали огромное влияние и на христианство, и на ислам, которые включают Библию в свой священный канон и рассматривают ветхозаветных праведников, пророков и праотцев как предшественников соответственно христианской и исламской религии. Христиане утверждают, что Иисус является тем Христом, мессией, которого ожидали иудеи. А Мухаммед сам себя считал последним из серии пророков начиная от Адама и через цепь ветхозаветных пророков (а также новозаветных, так как мусульмане считают Христа не мессией — такой фигуры в исламе нет, — но пророком), ведущую к нему как к «последнему пророку» или к «печати пророков».
Сами же иудеи не считают ни христиан, ни мусульман причастными к своей вере, отрицают и Иисуса Христа, и пророческий статус Мухаммеда и настаивают на том, что только иудаизм и иудейская религиозная община являются носителями истинной веры.
ИУДЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ
Иудаизм отличается чрезвычайно проработанной схемой религиозной истории и соответствующих ей типов обществ. В целом логика этой истории такова.
Изначальным состоянием человечества был рай. После изгнания оттуда праотцев начинается период чередующихся взлетов и падений. Человеческое общество то приближается к Богу, то удаляется от него. Когда мера удаления достигает критической черты, Бог наказывает человечество и насылает на него различные катастрофы — Всемирный потоп, разрушение Вавилонской башни и т. д.
Субъектом истории является еврейский народ, который заключает с Богом «договор» — Завет — и обязуется почитать его вопреки всем историческим перипетиям. Соблюдение этого «договора» и периоды отступления от него составляют смысл священной истории (в том числе и социальной).
Нормативом социума становится община верующих в единого Бога (евреев, иудеев) в условиях противостояния с окружающими народами (гои, языки, племена, этносы), которые поклоняются многим богам и идолам. Иудеи мыслятся как «избранный народ», выполняющий функцию «священства» в мировом масштабе. Евреи — народ-жрец. Поэтому иудейская община постоянно осмысляется в контрасте с общиной неиудейской, и этот контраст становится главной отличительной чертой иудаизма, формирующей идентичность евреев как народа, наделенного особой миссией, отличной от миссий всех остальных народов и этносов.
Евреи в истории проходят последовательно различные фазы. Эти фазы строятся вокруг Земли обетованной, которая мыслится как центр мира и место, уготованное Богом для народа-жреца. Периодически евреи обосновываются на этой земле, но в наказание за их отступления от Завета с Богом Бог рассеивает их по миру. Отсюда теория рассеяния (на иврите — галут). Вся история есть чередующаяся ритмика рассеяний и возвратов на Землю обетованную. Рассеяние соответствует негативной фазе, возврат — позитивной.
Существование в рассеянии и пребывание в Земле обетованной представляют собой две противоположные социальные парадигмы и соответствуют двум социальным нормативам. Бытие в рассеянии означает фазу страдания и искупления грехов. Здесь от иудеев требуется сохранение религиозной идентичности вопреки «соблазнительным» условиям интеграции в неиудейские («трефные») общества. Главная задача иудеев — сохранение своей особости, своей религиозной и социальной идентичности. Страдая под властью гоев, иудейская община очищается от грехов своих предков, ставших причиной рассеяния. Это пассивная, страдательная социальная модель, подчеркивающая обособленность и отчужденность от любых социальных условий, в которых оказываются иудеи.
Возвращение в Землю обетованную связано с переключением режима существования. Иудеи, вернувшись, строят государство на основе своей религии и воссоздают общество по древним канонам — с преобладанием высшей касты священников (левитов), восстановлением Храма, утверждением иудейских законов (галаха) в качестве общеобязательных для всех жителей государства — с особо оговоренным статусом для гоев, оказавшихся под властью иудеев (гер тошав).
ПОСЛЕДНЕЕ РАССЕЯНИЕ
И СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
Последнее по счету рассеяние началось в 70 году н. э. после разрушения Второго Храма, в свою очередь восстановленного Ездрой после возвращения из предыдущего рассеяния, Вавилонского пленения, римским императором Веспасианом (9–79 гг. н. э.). Закончилось оно после «катастрофы» (шоа, холокоста) в 1949 году — в год создания государства Израиль. С этого момента евреи всего мира стали возвращаться в массовом порядке из рассеяния в Землю обетованную.
Иудаизм утверждает, что это возвращение является последним и впереди — скорый приход машиаха (мессии), который восстановит Третий Храм, сейчас лежащий в руинах на горе, принадлежащей мусульманской части Иерусалима с находящейся на ней мечетью Аль-Акса, святыней мусульман.
Близость мессианских времен является важнейшим историческим моментом в иудаизме, что делает всю иудейскую религию и основанную на ней политику в высшей степени эсхатологически заостренной. Алия, возврат в Землю обетованную и восстановление второй модели общества — с возрождением многих ветхозаветных социальных и политических институтов (раввинский суд, синедрион и т. д.) — означают в социальном сознании евреев всего мира фундаментальный перелом. От страдательного искупления грехов во враждебных «гойских» обществах иудаизм переходит к триумфальному самоутверждению в преддверии наступления мессианских времен. Этот период представляется как долгожданный триумф иудеев над народами Земли и в определенной мере как возмездие за тысячелетия перенесенных страданий.
ИУДАИЗМ И МОДЕРН
Отношение иудаизма к Модерну является двойственным. С одной стороны, большая часть еврейской диаспоры исторически была сосредоточена в Европе и при определенной отстраненности так или иначе участвовала в процессах европейского общества. Так, имеется такое явление, как «Хаскала», или «еврейское просвещение», затронувшее также и религию, результатом чего стал модернизированный, реформированный иудаизм, отказавшийся от многих традиционных элементов, слабо совместимых с гуманистическими и демократическими стандартами Просвещения. Но модернизация затронула лишь один сегмент иудаизма, другая же часть продолжала оставаться верной изначальной установке на отделение от «трефных» (нееврейских) обществ. В Амстердаме или Антверпене и сегодня можно увидеть кварталы религиозных евреев, одевающихся так же, как их предки в XVI веке, добровольно отделенных социокультурной чертой от остальных жителей этих ультрасовременных европейских городов.
С другой стороны, евреи с энтузиазмом поддержали Модерн, провозглашающий религиозный плюрализм, секуляризацию, терпимость, осуждающий преследования меньшинств, так как это давало им шанс укрепить свои социальные позиции и покончить с маргинальностью, на которую они были обречены в обществах христианских. Поэтому среди носителей парадигмы Модерна начиная с XIX века — когда отношение к евреям в Европе изменилось в лучшую сторону — число евреев стало неуклонно возрастать. Трудно сказать, насколько это соучастие в европейском Модерне было со стороны евреев совершенно искренним и до какой степени они, на самом деле, без задней мысли принимали новые рационалистические, секулярные и атеистические модели, а до какой все это представляло собой прагматическую стратегию по сосредоточению сил перед окончательным моментом истории и возвращением в Землю обетованную. Но мы встречаем евреев и среди самых ярких сторонников либерализма, и среди его самых ревностных противников. Ученые, политики, деятели искусств и культуры, революционеры и реакционеры Нового времени сплошь и рядом были выходцами из еврейской среды, с энтузиазмом развивавшими идеологические и социальные тенденции Модерна.
В какой степени иудейская религиозная парадигма повлияла на Модерн, также выяснить непросто. С одной стороны, столь активная поддержка евреями модернистических тенденций в Европе и их ангажированность в Модерн и Постмодерн указывает на близость к ним социальных концепций иудаизма, но, с другой стороны, мессианские перспективы избранного народа, воссоздание государства Израиль и приход машиаха с трудом укладываются в рациональный проект Модерна или иронично-циничный стиль Постмодерна, осмеивающий любые сакральные ценности, в том числе и иудейские.
ЕВРЕИ И ИДЕЯ ПРОГРЕССА
Наиболее созвучной социальным учениям Нового времени среди религиозных теорий иудаизма является идея прогресса, то есть создание в будущем общества, намного превосходящего те социальные условия, которые существуют в настоящем. При этом позитивная иудейская эсхатология, предполагающая наступление блаженных времен на Земле, стоит ближе к прогрессистским воззрениям, нежели апокалиптическая перспектива христианской эсхатологии. Можно увидеть параллели с иудейской философией истории и марксизмом, где на место «избранного народа» поставлен пролетариат. Но во всех случаях эти совпадения далеки от того, чтобы можно было провести прямую параллель между секулярным и рационалистическим стилем Нового времени, отрицающим любую религию как «примитивные басни», и сложной социальной теорией иудейского мессианства и этнокультурного партикуляризма.
ТРАДИЦИЯ И МОДЕРН В СОВРЕМЕННОМ ИЗРАИЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ
В современном Израиле между собственно религиозным подходом, восстанавливающим древние традиции, и просвещенным иудаизмом, подчеркивающим связь с западной цивилизацией, Модерном, демократией, секуляризмом и т. д., все больше нарастают трения, так как две эти социальные системы на определенном этапе начинают ярко проявлять свою несовместимость. И если допустить, что евреи в Европе поддержали Модерн исходя из своих «эгоистических и групповых целей», то сейчас они в полной мере расплачиваются за этот «двойной стандарт», так как Модерн входит в противоречие с религией уже в рамках «мессианского проекта», который, по логике иудейского понимания истории, должен развертываться в настоящее время.
С этим связаны политические коллизии в современном Израиле, где правые и религиозные партии и движения выступают:
• за рост религиозного образования (в 2008 году впервые за историю Израиля количество обучающихся в религиозных школах — йешивах — превысило число тех, кто учится в светских учебных заведениях);
• за жесткую политику по отношению к палестинцам (трансферт, выселение их с территории Израиля);
• за начало строительства Третьего Храма и снос мечети Аль-Акса и т. д.
Левые партии и сторонники светской модели израильского государства отстаивают:
• парадигму буржуазно-демократического общества;
• культурный постмодернизм (символом чего может быть известный израильский певец-транссексуал Дана Интернэшнл).
Это противоречие между нормативным мессианским социальным проектом и тенденциями Модерна и Постмодерна составляет сущность политических и культурных споров в современном Израиле.
Подчас дело доходит до анекдотических ситуаций. Так, по иудейскому преданию, наступлению мессианского времени и приходу машиаха должно предшествовать появление в Израиле красной коровы, которую необходимо принести в жертву для всеобщего очищения — после этого можно приступать к возведению Третьего Храма (что, в частности, означает новую эскалацию иудейско-мусульманского конфликта вокруг мечети Аль-Акса, так как ее придется снести). Когда стало известно, что группа ортодоксальных израильских раввинов обнаружила такую корову и готовится совершить жертвоприношение, левые (прогрессистские, пацифистские, либеральные) израильские круги заявили, что намерены выкрасть животное, чтобы не допустить обострения отношений с палестинцами и новой войны. До этого дело не дошло, так как раввины признали, что тщательное обследование коровы обнаружило на ее шкуре несколько некрасных волосков, что делает ее непригодной для жертвоприношения.
Данный пример иллюстрирует в утрированной форме структуру идейных трений между традиционализмом и модернизмом в современном израильском обществе.
Контрольные вопросы
1. Как соотносится иудаизм с двумя другими монотеистическими религиями?
2. Как понимают религиозные иудеи логику мировой истории?
3. В чем религиозный смысл основания в ХХ веке государства Израиль?
РЕЗЮМЕ
Подытожим основные тезисы данного раздела.
1. Религия является социальным явлением. Более того, религия предопределяет основную структуру общества, его параметры и институты.
2. В основе религии лежит определение отношения к тому, что лежит за пределом имманентной границы, к области «там».
3. Имманентная граница окружает мезозону, соответствующую сфере профанного, «здесь». За ее пределом начинается сакральное.
4. Сакральное может быть «далеким» или «скрытым» в зависимости от масштабирования мезозоны — или в сторону увеличения (гипербола в риторике), либо в сторону уменьшения, вплоть до невидимости (литота в риторике).
5. Социальная группа, ответственная за все, связанное с «там», является жречеством и принадлежит к высшему уровню социальной элиты.
6. В зависимости от структуры имманентной границы определяется характер религии и самого общества.
7. В монотеизме имманентная граница между «здесь» и «там» становится трансцендентной, а структура божественного мира перестает мыслиться гомологичной миру земному и социальному.
8. В Модерне трансцендентное измерение — «там» — пропадает вовсе; вначале отрезается «далекое», Бог; затем «скрытое» — душа. В результате мир и общество превращаются в одно сплошное «здесь». Параллельно этому социальный статус религии меняется с центрального на периферийный, происходит десакрализация и секуляризация общества.
9. Постмодерн ставит на место религии симулякр, подделку, призванную служить ироничным аргументом в полемике с Модерном.
10. Все монотеистические религии (христианство, ислам, иудаизм) имеют свои особые представления о нормативном обществе, его структурах и связывают эти представления с циклами священной истории. В Модерне и Постмодерне религиозные представления об образцовом социуме входят во все большее противоречие со светскими моделями. При этом практически все монотеистические религии трактуют современное общество как аномальное и связанное с эсхатологическими перспективами, понимаемыми по-разному каждой религией.
1 Eliade М. L’Epreuve du Labyrinthe. Paris, 2006; а также: Martino E. de. Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo. Torino, 1997.
2 Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
3 Durkheim E. Les formes e elementaries de la vie religieuse. P., 1960. См. также: Элиаде М. Священное и мирское. М., 1995.
4 Отто Р. Священное. СПб., 2008.
5 Durkheim E. Les formes e elementaries de la vie religieuse. Op. cit.
6 Элиаде М. Священное и мирское. Указ. соч.
7 Колесов В.В. Древняя Русь: Наследие в слове. СПб., 2000.
8 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 1986.
9 Кузанский Н. Об ученом незнании. Соч.: В 2 т. М., 1979.
10 Durkheim E. Les formes elementaires de la vie religieuse. Op. cit.
11 Элиаде М. Шаманизм. Киев, 1998.
12 Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974; Иванов В.В. Дуальная организация первобытных народов и происхождение дуалистических космогоний // Советская археология. 1968. № 4; Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965.
13 Афанасьев А. Славянская мифология. М.; СПб., 2008.
14 Элиаде М. Трактат по истории религий: В 2 т. СПб., 2000.
15 Омархали Х. Йезидизм. Из глубины тысячелетий. СПб., 2005; Полатов Д.Р. Езиды. Религия и народ. М., 2005.
16 Генон Р. Духовное владычество и мирская власть // Волшебная Гора. 1997–1998. № 6–7.
17 «Се глас хлада тонка и тамо Господь». 3 Цар. 19, 12.
18 Философ Юлиус Эвола связывает это состояние, которое он называет «прозрачным опьянением» (ebrezza lucida), с состоянием, типичным для тантрического посвященного. См.: Эвола Ю. Оседлать тигра. СПб., 2005; Он же. Yoga della potenza. Roma, 1995.
19 Элиаде М. Религии Австралии. СПб., 1998; Он же. Мифы, сновидения, мистерии. Киев, 1996.
20 Everett D. Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pirahã // Current Anthropology. V. 46. № 4.August–October. 2005.
21 Подробнее см.: Дугин А. Метафизика Благой Вести // Абсолютная Родина. М., 1998; Он же. Философия традиционализма. М., 2002; Он же. Эволюция парадигмальных оснований науки. М., 2002; Он же. Философия политики М., 2004; Он же. Постфилософия. М., 2009. В этих работах подробно разобрана тема манифестационизма и креационизма как двух типов религиозных учений применительно к различным сферам культуры и науки.
22 Августин А. О граде Божьем. М.: АСТ, 2000.
23 Дугин А. Метафизика Благой Вести. Указ соч.; Он же. Философия традиционализма. Указ. соч.
24 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Роспэн, 2006.
25 Зомбарт В. Собр. соч.: В 3 т. СПб., 2005.
26 Ницше Ф. Веселая наука / Пер. с нем. М. Кореневой, С. Степанова, В. Топорова. СПб.: Азбука-классика, 2006.
27 Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1.
28 Conche M. L’Aléatoire. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.
29 Дугин А. Метафизика Благой Вести. Указ. соч.
30 Дугин А. Кадровые // Русская вещь. М., 2000. Т. 2; Он же. Радикальный Субъект и его дубль. М., 2009.
31 Плавинская Н.Ю. Вандея // Исторический лексикон. XVIII век. М., 1996.
32 Генон Р. Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм Данте. М., 2003; см. также: Дугин А. Постфилософия. Указ. соч.; Он же. Радикальный Субъект и его дубль. Указ. соч.
33 Джемаль Г.Д. Революция пророков. М., 2003.
34 Угроза ислама — угроза исламу? Материалы конференции. М., 2001.
РАЗДЕЛ 10
СОЦИОЛОГИЯ ПОЛА
ГЛАВА 10.1
ГЕНДЕР И ЕГО РОЛЬ В СОЦИУМЕ
ПОЛ И ГЕНДЕР
Понятие пола в социологии является одним из фундаментальных. Для того чтобы отличать изучение пола в социологии, то есть в контексте социальных отношений и процессов, от изучения пола в иных дисциплинах, принято использовать понятие «гендер» (от латинского gender — пол), введенное в научный оборот сексологом Джоном Мани (1921–2006) в ходе исследований социальных ролей маргинальных групп (трансвеститы, транссексуалы и т. д.) в современном обществе. Гендер есть социальный пол.
С точки зрения структурной социологии и в полном соответствии с традицией Дюркгейма пол сам по себе есть явление социальное, поэтому термин «гендер» представляет собой плеоназм, но его использование призвано подчеркнуть, что речь идет именно о социологическом подходе к вопросу пола.
Понятие «пол» (латинское sexus, пол, половина, деление) может использоваться шире и включать в себя анатомические различия и признаки. Анатомический пол можно рассматривать в применении не только к людям, но и к животным, растениям и т. д. Гендер же относится только и исключительно к человеку — к человеку как социальному существу.
Понятие «гендер» обычно применяется в сфере собственно социологии или социальной психологии.
ГЕНДЕР КАК ПЕРВИЧНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
В структуре общества мужчины и женщины наделены принципиально разными статусами. Они настолько различны, что могут быть рассмотрены в отрыве от их носителей и их анатомических свойств. Разделение на мужское и женское в социуме напрямую связано с фундаментальными основами общества и предопределяет его строение. Можно сказать, что деление социальных статусов на мужские и женские первичнее, чем сами мужчины и женщины. Эти роли можно мыслить сами по себе, и формирование мужских и женских стереотипов поведения, психологии, реакций, отношения к жизни и миру в дальнейшем будет следствием этих ролей.
Статус мужчины и статус женщины в обществе являются самыми фундаментальными из социальных статусов. В большинстве обществ они считаются врожденными и не подлежат изменению. Но в некоторых случаях — даже в традиционных и архаических обществах, не говоря уже о современных и постмодернистских, — эти статусы могут меняться. Однако само изменение статусов, как правило, представляет собой именно смену одного на другой, а не выход за пределы гендерных структур. Если член общества меняет пол, то переходит — до определенной степени — в зону пола противоположного.
АНДРОГИН («ТРЕТИЙ ПОЛ»)
Социум нормативно выделяет два гендерных статуса — мужчину и женщину. Теоретически сама эта дуальность вызывает мысль о возможности ее преодоления, о наличии «третьего пола». Отсюда рождаются мифы о Гермафродите, андрогине, алхимическом ребисе и т. д. Платон в диалоге «Пир», объясняя устами Аристофана любовь мужчин и женщин друг к другу, приводит древний миф о том, что некогда люди были андрогинными1, но потом раскололись надвое и с тех пор ищут свою половину.
Отсылки к восстановленному гермафродитизму мы встречаем и в более рационализированных традициях и религиях2. Так, в христианстве брак считается таинством, заключенным на Небесах, и молодожены описываются как «тело единое» — «да будет муж и жена телом единым». К преодолению пола призывает и апостол Павел в его определении христианской общины: «Нет уже... мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Исусе»3.
С мистической реализацией андрогината связаны и практики инициатического трансвестизма у шаманов разных народов. Меняя пол, шаман (или шаманка) реставрирует статус гермафродитизма, утраченный в незапамятные времена4. Сюда же следует отнести и ритуальные кастрации и обрядовую педерастию жрецов некоторых религиозных культов женских божеств Великой Матери — фригийской Кибелы, карфагенской Танит и т. д.5
Но обращение к андрогинату даже в древнейших обществах помещается в сферу мифического прошлого, относится к мифу об истоках6. В обществе же, которое считается нормативным, гендерный дуализм является самым общим правилом.
Социум всегда состоит из двух ролевых цепочек, которые пронизывают все страты и привносят в социальную модель фундаментальную гендерную симметрию.
ОРГИЯ — ПОГРУЖЕНИЕ В ДОКОСМИЧЕСКИЙ ХАОС
На другом логическом конце от полюса андрогина в отношениях между полами находится обряд ритуальной оргии, практикующийся во многих обществах. Отсюда берут начало дионисийские мистерии, карнавалы, сатурналии римлян, последним отголоском которых является современный ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро. Как и в случае андрогината, это относится к религиозно-обрядовой стороне, а не к нормативным социальным практикам.
Дуальность пола может преодолеваться через андрогинат (изначальное единство), то есть через возврат к состоянию, когда два были одним, а может и через ритуальный промискуитет, когда сексуализация «еще» (в логическом, а не хронологическом смысле) не обрела четкой дуальности и фиксации в паре мужчина–женщина. Это состояние соответствует изначальному хаосу, смешению, предшествующему появлению порядка и космоса7. Оргии были такой формой религиозной экстатической практики, где в особо оговоренные моменты и в ходе контекстуальных ритуалов мужчины и женщины вступали в половые отношения друг с другом без разбору и какой бы то ни было упорядоченности. Как правило, оргии организовывались в специальные праздники, связанные с обновлением мира (например, во время прихода весны или в периоды летнего и зимнего солнцестояния). В особо оговоренное время и в особо выделенном для этого пространстве снимались все социальные запреты гендерного поведения, все члены социума могли сходиться друг с другом без учета семейных, клановых и социальных статусов. Практически всегда оргии устраивались ночью.
Промискуитет символизировал предчеловеческое состояние, из которого произрастал социум. Гендер здесь мыслился не дуальным, а хаотичным, рассеянным по всей массе участников оргии без четкой фиксации. Этот промискуитетный панэротизм можно соотнести с преодолением пола не сверху (в форме андрогината), но снизу, через множественность, предшествующую двойственности8.
Отголосками оргиастических культов являются истории про ведьмовские шабаши, циркулировавшие на протяжении всего Средневековья. Легенды о Вальпургиевой ночи, отмечаемой в ночь на первое мая ведьмами на Лысой горе, является воспоминанием о такого рода обрядах.
Генон9 показывает, что католичество до какого-то момента относительно терпимо воспринимало такого рода праздники, называвшиеся «ослиными процессиями» или «праздниками дураков», в которых, кроме всего прочего, осмеивалась и церковная иерархия. По его мнению, церковь считала за благо допускать выплеск хаотических энергий под контролем, чтобы не дать им захватить широкие социальные массы. Когда эти праздники наконец запретили, начались «ведьмовские процессы», обряд перешел к «сатанинским» формам.
Тему карнавальной культуры, сопряженной отчасти с практикой ритуальных оргий, в своих работах изучал русский философ Михаил Бахтин10 (1895–1975).
ПОЛ И ТАКСОНОМИЯ
В разделе о социологии этноса было показано, насколько фундаментальную роль играет форма заключения экзогенного брака в структуре этноса и его делении на фратрии, две половины. Дуальность гендера предопределяет дуальность изначальной формы этноса (племени). Можно проследить влияние этой дуальности и на пары дихотомий религиозного устройства общества. «Здесь» и «там», «далекое» и «тайное» как важнейшие пары религиозных учений и институтов могут описываться через гендерный символизм.
Обобщенно можно сказать, что гендерная дуальность является фундаментальной формой для таксономии всех типов общества. Пара мужское–женское — самая глубокая и изначальная и может применяться для структурирования самых различных объектов, отношений, культурных и природных явлений. В китайской и индийской культурах и соответствующих им обществах генедерная таксономия получила максимальное развитие.
Гендер представляет собой фундаментальный и образцовый культурный код для всех возможных парных сочетаний и противопоставлений. При этом пара мужчина–женщина является первичной по сравнению с парами есть–нет, день–ночь, жизнь–смерть и т. д.
ГЕНДЕР КАК ЯЗЫК
Пара мужское–женское мыслится как наделенная качественным содержанием, включающим в себя широкую гамму оттенков и нюансов. В ней заложены идеи:
- противоположности (противопоставления) и дополнительности;
- чуждости и родства;
- иерархии и (своеобразного) равенства;
- наслаждения и страдания;
- наличия и отсутствия;
- любви и ненависти;
- войны и мира;
- благочестия и греха.
В разных ситуациях гендерная дуальность может выражать любые пары и выступать в качестве универсального языка, фундаментального лингвистического инструмента для выражения любых оттенков мысли или описания любых форм социальных устройств.
ГЕНДЕР И КОННОТАЦИЯ
Оказываясь в обществе в роли мужчины или женщины, человек автоматически попадает в семантическую структуру, которая предопределяет не только форму, но и содержание социального бытия.
Структуралисты показали, что в лингвистике и философии нельзя рассматривать знак и символ как денотаты какого-то объекта, существующего самого по себе «вне сферы языка и мышления». Таких однозначных связей между элементом языка (мышления, общества, культуры и т. д.) и самостоятельно существующей вещью нет. Смысл знака, его значение возникают не из денотации, но из коннотации, то есть из той позиции, которую знак, символ или слово занимает в общем языковом контексте11.
Таким образом, в структурной социологии гендер можно назвать фундаментальным контекстом, который предопределяет социальное содержание бытия человека, причисленного к тому или иному полу. Гендер есть не денотат анатомических особенностей человека, но коннотат самой структуры социума как языка, как текста и контекста. Человек учится гендеру так же, как он учится всем остальным социальным навыкам и ролям, заложенным в статусах. Пол есть свойство социальное и придается человеку обществом — с имплицитным заданием осваивать гендерные архетипы, реализовывать их, развиваться в их рамках.
СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО ПОЛОВ
Дуализм гендерных статусов в социуме чаще всего реализуется через структурированное неравенство функций. В рамках социального (культурного, этнического и т. д.) пространства мужчина представляет собой полюс социального максимума, а женщина — полюс социального минимума. Мужчина социален в максимальной степени, женщина — в минимальной. Однако даже минимальная связь с социальным началом дает женщине основание быть существом социальным по сравнению с теми, кто стоит еще ниже по шкале общественных иерархий, — с природой, домашними животными, малыми детьми (до определенного возраста). В этих отношениях женщина выступает как преимущественный агент социализации. Именно она социализирует природу и передает первичный социальный код младенцам. По отношению к внесоциальному миру (природе) женщина выступает как человек, по отношению к мужчине — как природа.
Дуальная организация архаического этноса отражает структуры гендера. Вторая фратрия, откуда берут жен и куда отдают замуж женщин своего рода, связана именно с женским началом, и игровое противостояние двух фратрий является аналогом социальной игры гендеров. Юноши и девушки в танцах, играх и иных формах ритуального флирта воспроизводят в основных чертах соревновательные ритуалы этих фратрий12.
В отношениях между полами, таким образом, как и в отношениях между фратриями, формируется основа культуры как способности к выработке модели «своего другого». Мужчины и женщины являются друг для друга «своими другими». Как «другие» они противостоят друг другу, находятся на разных концах дуальности, занимают противоположную позицию (подчас враждебную, обратную). Как «свои» они разделяют общие ценности и установки во всем, что касается основных форм социальной структуры. Как две фратрии объединяются перед лицом внешней угрозы, так и два пола одного и того же коллектива полностью солидарны между собой в рамках семьи, рода или клана.
СЕМЬЯ КАК ПАРАДИГМА ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Семья является тем элементом, который лежит в основе всей социальной структуры общества. Аристотель считал, что семья есть основа политического устройства, его первичная единица13.
В семье происходит фиксация гендерных ролей. Эта фиксация протекает параллельно с другими сторонами социализации новых членов общества — детей. Мать, отец и старшие родственники обучают ребятишек быть «маленькими мужчинами» и «маленькими женщинами» параллельно с тем, что передают им язык, культуру, социальные и профессиональные навыки. Различие между мальчиками и девочками проявляется с первых лет жизни, дальше оно только углубляется. Во многих обществах жилище делится на две половины — мужскую и женскую, и даже грудных детей разделяют по этому признаку начиная с рождения.
Отношения между членами семьи П. Сорокин выделяет в отдельную категорию — «семейные отношения»14 — и описывает как неформальные, солидарные, органические и основанные на принципе общей индивидуальности. Семья мыслится как единое коллективное Я — с общими интересами, целями, установками и т. д.
ГОЛОГРАФИЯ СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА
Кроме собственно семейных отношений, которые преобладают над остальными, в семье встречаются и два других выделенных Сорокиным типа — договорные и властные отношения15. Договорным является в первую очередь процесс сватовства, предшествующий созданию новой семьи. В большинстве обществ этот процесс был сопряжен со множеством культурных, религиозных, обрядовых и экономических элементов. Договор о выдаче дочери (сестры) замуж приобретал характер фундаментальной социальной трансакции, которая служила образцом и моделью для всех остальных форм обмена. Обмен женщинами между фратриями, по Леви-Строссу16, есть изначальная модель социального обмена как такового, подобно обмену словами и фразами между людьми. Эта форма договорных отношений развита даже в тех архаических племенах, где иные модели договора находятся в неразвитом состоянии.
В семье мы встречаем и третий тип социальных отношений — принудительные (властные). Глава семьи — либо отец семейства, либо старший в роду, — как правило, обладает большими полномочиями по навязыванию своей воли остальным, в первую очередь — жене и женской половине семьи (а также детям). В православном «Номоканоне»17, своде правил благочестивого христианского жития, особо оговаривалось не только право, но обязанность мужа, главы семьи, регулярно «учить» жен и детей. Под словом «учить» подразумевалось «бить», так как параллельно давались рекомендации не использовать для «учебы» полено и быть осторожным в «учебе» беременных и малых детей (чтобы не перегнуть палку).
Здесь очевидно, что семья выступает как миниатюрная модель общества в целом, как в голограмме воспроизводящая его основные отношения.
Можно посмотреть на этот процесс и с другой стороны. К самому обществу в целом и особенно к его политическому устройству можно применить, в свою очередь, метафору семьи. В этом случае члены общества будут восприниматься как «родственники» (отсюда социальная солидарность, патриотизм, чувство общей Родины), а глава государства (царь, вождь, президент) — как глава семейства, отец. Термин «отец» вошел в устойчивые формулы описания первого лица государственной власти — «царь-батюшка» или «ататюрк» в современной Турции (то есть «отец турок»). Экономический термин «патернализм» также образован от латинского «pater», «отец», и означает такую политику, когда государство как отец защищает экономические интересы своих граждан, ограничивая конкуренцию с иностранными производителями в пользу внутренних.
Контрольные вопросы
1. Почему гендер считается социальным статусом?
2. Какова функция фигуры андрогина в социальных воззрениях архаических обществ?
3. Как соотносятся между собой семья и общество?
ГЛАВА 10.2
ГЕНДЕР В ПСИХОАНАЛИЗЕ
РОЛЬ ПОЛА В ПСИХОАНАЛИЗЕ ФРЕЙДА: ЭРОС И ТАНАТОС
В психоанализе пол играет важнейшую роль и служит базовой интерпретационной матрицей для объяснения феноменов бессознательного. Фрейд18 построил свою систему интерпретации и лечения неврозов и психозов на исследовании эротических влечений, лежащих в глубине подсознания. По Фрейду, единственным содержанием подсознания — Оно — являются эрос и танатос, то есть половое влечение и влечение к смерти. Половое влечение (либидо, эрос) отождествляется у Фрейда с жизненной энергией, а танатос — с замиранием, неподвижностью, остановкой. Между этими двумя началами разыгрывается нескончаемая драма подсознания, непрерывно порождающая импульсы, желания, поползновения, комплексы, аффекты. Эти эротические желания поднимаются на уровень Эго и там — чаще всего — блокируются человеческим рацио.
Согласно психоанализу, вся человеческая культура, а именно социальность, искусство, политика и даже религия, есть не что иное, как продукт бесконечного обмена импульсами между подсознанием и сознанием. Сознание вытесняет, подавляет определенные эротические импульсы, ставит на их пути цензурные коды. Но эти импульсы продолжают свою работу, и стоит только сознанию отвлечься или временно угаснуть (например, в состоянии гипноза или сна), и они тут же прорываются наружу. В этом смысле Фрейд изучал оговорки, ошибки и сбои в бытовой речи, полагая, что они обязаны своим происхождением спонтанному подъему нецензурированных эротических энергий.
Фрейд считает, что в подсознании эротические желания пребывают в хаотическом состоянии, не знают никаких запретов (как у младенцев). Лишь работа культуры по цензуре и упорядочиванию этих влечений порождает социальные табу и запреты, указывает пути для легитимного оформления одних желаний и безжалостного подавления и вытеснения других (отсюда социальные запреты на инцест, гомосексуализм, промискуитет и т. д.).
Фрейд утверждает, что в основе социальных моделей лежат события глубокой древности, когда в рамках изначальной орды царили правила единоличного владения старшим в роде женщинами всего племени19. Сыновья изначального отца, по Фрейду, убили его, съели и распределили между собой женщин племени, введя моногамию. В этом следует искать истоки религиозного культа и обоснование мифа об Эдипе. С этого момента начинается и работа рассудка по обузданию влечений и их упорядочиванию (в сопровождении побочных явлений: репрессий подсознания со стороны сознания, вытеснения, цензуры желаний, введения строго рационального и социального кода и т. д.).
Признание гендеров и социализацию половых отношений в форме брака можно рассматривать в связи с этим как компромисс между хаотическим, децентрированным эросом подсознания (либидо, влечение) и запретительной стратегией рассудка. В отличие от многих более поздних фрейдистов, особенно фрейдомарксистов, сам Фрейд отнюдь не считал, что целью терапии является «освобождение желаний от диктатуры рассудка». Он полагал, что следует проследить траекторию подавленных влечений в том случае, если налицо признаки невротического или психического расстройства, и тем самым перевести скрытую проблему в проблему, осознанную самим пациентом.
Фрейд не ставил под сомнение легитимность распределения гендерных статусов в обществе и считал классические отношения между мужчинами и женщинами нормативными. В условиях Постмодерна это было поставлено ему в вину постструктуралистами.
ГЕНДЕР У ЮНГА
Ученик Фрейда, К.Г. Юнг, существенно расширил понимание сферы бессознательного, включив туда помимо эроса и танатоса целую серию архетипов и фактически отождествив бессознательное с мифосом. Кроме того, Юнг придал бессознательному коллективное свойство. В вопросах пола Юнг также внес коррекции в фрейдизм, разработав более сложную и комплексную в сравнении с Фрейдом концепцию гендерных фигур, которыми населено бессознательное. Вместо хаотических и слепых промискуитетных импульсов, которыми изобилует подсознание у Фрейда, бессознательное у Юнга представляет собой несколько архетипических гендерных соотношений, четко структурированных и олицетворяющих различные сюжеты отношений полов друг с другом, вполне развитых и самостоятельных.
По Юнгу20, не рассудок упорядочивает поднимающиеся из области Оно желания, подавляя одни и давая частичный выход другим, но сами эти желания изначально обладают особой структурой, объединены в сценарные, ролевые и функциональные группы. Иными словами, в коллективном бессознательном царит не хаос, но порядок, однако существенно отличающийся от того порядка, который утверждает логическая рациональность. Это порядок мифа. Если довести интуиции Юнга до логического завершения, можно сказать, что сам рассудок является результатом индивидуации, то есть перевода содержания бессознательного на уровень сознания, однако не по заранее заданному коду, взятому откуда-то со стороны, а рождаясь как раз в ходе самой индивидуации — как процесс сложного диалога внутри самого мифа, развертывающегося между отдельными его секторами.
Дешифровка голоса бессознательного, равно как и постановка диагноза в клиническом случае, по Юнгу, отнюдь не сводится к выяснению подавленных желаний или забытых травм сексуального характера в глубоком детстве, как утверждает классический фрейдизм. Скорее необходимо выяснить у пациента, в какую мифологическую или символическую цепочку выстроились структуры его подсознания, и на основе этого прогнозировать дальнейшие фазы развития болезни, а также искать способы, как с помощью психоаналитических сеансов ситуацию можно исправить.
Юнг утверждает наличие нескольких принципиальных гендерных сюжетов в бессознательном, каждый из которых может выступать как отдельный сценарий, а может входить в более общий контекст.
ПОЛ И ДУША
В своей психологии глубин Юнг уточняет гендерные сценарии следующим образом. Если брать социальный пол — пол персоны — за точку отсчета, то этот пол будет описывать гендер Эго, рациональной составляющей человека. По линии социального гендера персона выстраивает свои стратегии взаимодействия с другими персонами. В рамках внешних по отношению к Эго связей этот социальный пол является доминирующим и предопределяет гендерный статус и вложенные в него роли. На этом уровне все укладывается в классические гендерные схемы социологии.
Но на другом уровне Эго выстраивает свои отношения с коллективным бессознательным, это — пространство внутреннего мира. В этом диалоге с коллективным бессознательным существует промежуточная инстанция, которую Юнг называет anima/animus. В ней фиксируется половой архетип души. По Юнгу, у социального мужчины эта промежуточная фигура, в форме которой выступает коллективное бессознательное, наделяется женским полом (anima), а у социальной женщины — мужским (animus). Так во внутреннем мире человека, чье Эго обращено внутрь самого себя, происходит инверсия пола. Социальный гендер противоположен полу души и психоаналитическому гендеру.
В социальном пространстве (персона) человек выстраивает свои отношения с «другими» по линии социального гендера. Но обращенный внутрь, к Оно, к коллективному бессознательному, гендерный образ меняется, и пол души структурируется на контрасте с полом личности. Коллективное бессознательное само по себе андрогинно, подчеркивает Юнг, но гендерный характер социальной личности вызывает обратную сексуализацию души. Таким образом, в каждом человеке до определенной степени восстанавливается андрогинат.
Важно подчеркнуть, что в нормативных случаях anima/animus не полностью отождествляется с Эго, как, в свою очередь, Эго не полностью отождествляется с социальной личностью, то есть с набором статусов. В обоих случаях, если смотреть извне, у Эго есть внутреннее измерение, а при взгляде из коллективного бессознательного — внешнее, социальное. В истоках оба эти измерения совпадают, так как развертывание социума есть не что иное, как прямая гомология процесса индивидуации (то есть перевода содержания коллективного бессознательного в область сознания). Но так происходит в истоках, то есть в том нормативном состоянии, к которому относится и андрогинат. Во всех остальных случаях внутреннее и социальное образуют дихотомию, которая — как и любая социальная или мифологическая дихотомия — прекрасно описывается символизмом полов. Именно это Юнг и стремится подчеркнуть в своей гендерной типологии.
ТРИ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ
Мужчина в гендерной стратегии имеет дело с двумя женскими формами — с социальной женщиной, принадлежащей к обществу, и с психической женщиной, анимой, душой, внутренней женщиной. Внутренняя и внешняя женщина делится, в свою очередь, на три генерационные составляющие — мать, жена, дочь. К каждой из этих женских ипостасей социальный мужчина относится по-разному.
Мать почитается как главный персонаж первичной социализации, вводящий мужчину в жизнь, семью, общество. Мать — кормилица, воспитательница, отчасти посвятительница, передающая базовый для общества культурный код. Материнское отношение к ребенку мужского пола несет на себе огромную социально-гендерную нагрузку: родив существо противоположного пола, сама мать сталкивается с явлением трансцендентного, того, что социально качественно превосходит ее саму. В религиозном контексте это ярко воплощено в христианской традиции. В пострелигиозной философии это точно подметил Ницше в «Так говорил Заратустра»: «Все в женщине — загадка, и все в женщине имеет одну разгадку: она называется беременностью. Мужчина для женщины — средство; целью бывает всегда ребенок (мужского пола. — А. Д.). Пусть вашей (женщин. — А. Д.) надеждой будет: „О, если бы мне родить сверхчеловека!”»21. В каждом сыне для матери есть нечто сверхъестественное. И это частично передается самому мужчине буквально с молоком матери: он усваивает социальную программу иного пола, нежели мать.
Второй социальной фигурой противоположного пола является жена или возлюбленная. Очевидно, что в этих отношениях мужчин и женщин развивается наиболее богатая оттенками гендерная жизнь. Любовь, брак, страсть, ревность, разлука, измена, влюбленность, флирт, похоть — эти темы, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной, составляют гигантский пласт человеческой культуры и лежат в основе многих значимых социальных институтов. Эта тема слишком очевидна, чтобы на ней специально останавливаться.
И наконец, дочь. У мужчин может наличествовать двоякая модель отношений к дочери — в некоторых культурах рождение девочки воспринимается как неудача, напасть, трагедия. Отдельные архаические племена практиковали даже убийство новорожденных девочек как неполноценных членов общества (если их было слишком много). С другой стороны, наличие дочери (или дочерей) расширяло социальные и экономические возможности мужчины — он мог повысить свой статус через полезный брак и, соответственно, выгодное свойство. С этой точки зрения дочь могла восприниматься как повышение материального и социального «капитала» семьи.
ВНУТРЕННЯЯ ЖЕНЩИНА
Все три социальных издания женского пола имеют аналоги в образе анимы во внутреннем мире мужчины. Душа как персонификация коллективного бессознательного может выступать трояко.
Как мать она означает, что коллективное бессознательное воспринимается Эго как мягкая, нежная масса, как нечто убаюкивающее, навевающее сон и комфорт, погружающее в сладкие и сытые грезы. Анима-мать в мифе воплощается в образе Великой Богини — земли или воды. Этот образ связан с устойчивостью, мягкостью, массой, комфортом, надежностью и чувством безопасности. Душа как мать оберегает Эго от острых углов и проблем коллективного бессознательного. В этом случае бессознательное сильнее Эго.
Душа как жена, как возлюбленная — наиболее частый образ кристаллизации внутреннего пола. Здесь Эго и душа находятся в столь же широком диапазоне связей и диалектических переживаний, как и в эротических отношениях в социальной реальности. Спектр этих нюансов может меняться от единства с Эго, любви и гармонии, до конфликтов, ненависти, разлада и оппозиции. В этом случае Эго и бессознательное выступают относительно на равных.
И наконец, душа как дочь выражает полный контроль Эго над бессознательным, заботу Эго о внутреннем мире, бережное, чуткое и осторожное к нему отношение.
Чаще всего человек проецирует образ своей анимы на женские фигуры социального мира и выстраивает с ними систему отношений в резонансе с тем, как развиваются у Эго связи с анимой.
ИНДИВИДУАЦИЯ И БРАК
По Юнгу, задача человека — это индивидуация, то есть осуществление перевода содержания коллективного бессознательного на уровень сознания, для полной реализации Selbst — той тотальной «самости», которая охватывала бы и Эго, и коллективное бессознательное. Поэтому отношения с анимой представляют собой этапы индивидуации. Сам же анимапризвана постепенно подняться от уровня бессознательного на уровень сознания. Параллельно этим внутренним процессам индивидуации развертываются и социальные отношения мужчины с женщинами. От растворенности в материнском тепле и в коллективном бессознательном, что соответствует первому периоду жизни человека в обществе и первому же этапу индивидуации, мужчина переходит ко второму — брачному (в обеих сферах — психической и социальной), а затем к третьему, где развертываются отношения с укрощенной и освоенной женской стихией, взятой под контроль. На всех этапах внутренние процессы проецируются на внешние и развертываются в нормальном случае синхронно и параллельно. Едва ли мужчина видит во внешней женщине что-то отличное от его собственной души, и едва ли там есть вообще что-либо, на что стоило бы еще смотреть. Ценность и значение всему придают только архетипы.
В патологических случаях и социальное, и психологическое становление мужчины может отклониться от этой траектории. Анима может оказаться сильнее Эго, что ведет к невротическим, а далее — к психическим заболеваниям. Патологии могут возникнуть на каждом этапе. Материнское влияние может препятствовать развитию мужского начала в психике и в социальных отношениях, вести к инфантилизму, к более серьезным отклонениям. Описания многочисленных и многообразных сбоев в эротической самореализации наполняют тысячи томов психоаналитической и сексологической литературы, так как развертывание этих отношений и есть одно из главных содержаний культуры, истории, искусства и, в определенной степени, политики.
Пытаться описать или схематизировать отношения между мужчиной и женщиной и возможные трудности, здесь возникающие, значит пытаться описать и схематизировать саму жизнь. Однако во всех случаях речь идет в первую очередь о развертывании процесса индивидуации. Брак с внутренней женщиной, анимой, предопределяет в основных параметрах генедерную историю мужчины.
Представление о душе как о дочери может вести в патологических случаях к педофилии, иногда отягощенной каннибализмом: образ маленькой женщины (феи, эльфины и т. д.) связан с сюжетом ее поглощения, помещения внутрь, что может породить устойчивый и фиксируемый у многих маньяков антропофагический импульс. И напротив, в мифах и легендах людоеды выступают — по контрасту — в виде прожорливых великанов.
Юнг обнаружил наиболее последовательное и детальное описание всех стадий индивидуации мужской души в алхимической традиции. В ней описываются три периода — смерти как растворения (в коллективном бессознательном — «работа в черном»), воскресения и брака (с внутренней женщиной — «работа в белом») и коронации и достижения высшего светового достоинства (получение алхимического золота, «работа в красном»)22.
ТРИ ОБРАЗА МУЖЧИНЫ
Совершенно симметрично развертывается гендерная стратегия и для женщины. В социальном пространстве она сталкивается с тремя формами мужского начала — с отцом, мужем (возлюбленным) и сыном.
Отец выступает в форме «высшего начала», носителя авторитета, власти, силы. Он воплощает в себе социум с его структурами порядка, принуждения, но одновременно защиты и охраны. Отец в семье играет роль вертикального измерения, в нем сосредоточена упорядочивающая энергия. Он есть полноценный и активный представитель общества, персона по преимуществу. Социализация по линии отца для девочки есть знакомство с нормативами большого мира, который начинается за пределом семьи. Поведение отца — всегда другое, несколько недоступное, отчужденное, но в то же время указывающее траекторию позднейшей социализации.
Отношения с женихом, мужем, возлюбленным, как мы говорили выше, представляют собой столь объемную и разнообразную тему, что краткому описанию не поддаются. Главное состоит в том, что, согласно обычным нормам патриархата, женщина, выходя замуж, становится собственностью мужа, то есть интегрируется в ситуацию, где ее личная реализация мыслится не прямо, но опосредованно — через мужа, семью и т. д. При всей напряженности эротической программы женщин, с социальной точки зрения она гораздо менее важна и насыщена смыслом, нежели гендерная социализация мужчины. Отсюда, в частности, отмеченная Эразмом Роттердамским23 гендерная диспропорция между социальной оценкой амурных похождений мужчины и женщины. Для мужчины это считается доблестью, для женщины — дискредитацией и позором.
В отношении третьей фигуры мужчины — сына — действуют те установки, которые мы описали выше как трансцендетность ребенка мужского пола для породившей его матери.
ВНУТРЕННИЙ МУЖЧИНА
В отношении анимуса женщин наличествует та же симметрия, как и в случае мужчины. Коллективное бессознательное выступает по отношению к женскому Эго либо как мощный всепоглощающий, сминающий своим авторитетом отец, либо как возлюбленный (муж), либо как сын.
Анимус в виде отца (иногда старика) выражает в себе образ духа (Geist у Юнга), упорядочивающего начала, останавливающего (замораживающего) текучесть и пластичность женского Эго. В патологическом случае может наступить одержимость анимусом, что выражается в сухости, блокаде женских свойств психики, утрате обаяния и сексуальных перверсиях (в частности, женском гомоэротизме). Часто женщины мускулиноидного типа, как выяснил Юнг, оказываются жертвами переразвитого анимуса. Это одержимость анимусом в образе старика, что является навязчивым сюжетом в грезах и сновидениях (иногда — галлюцинациях) при таких патологиях.
Анимус, представляемый в виде мужа, — самый обычный случай. В этом проявляется феномен «женского ума» или «женской интуиции», которые оказываются подчас более точными и верными, нежели самые рациональные расчеты мужчины. Мужская рациональность релятивизируется женственностью анимы, тогда как гендерная «бестолковость» женщин компенсируется мужским интеллектуализмом анимуса.
И наконец, анимус в виде младенца, ребенка, сына, как правило, соответствует поверхностным типам женщин, глухим к голосу бессознательного. В этом случае проекция сильного женского Эго на слабый мужской анимус блокирует его импульсы, стремящиеся к индивидуации. Как правило, женщины с такой психической конституцией представляют собой часто встречающийся случай женщины-матери по преимуществу.
Женская индивидуация устроена по логике, обратной мужской. Инициатические институты, которые отвечали бы приоритетно за эту индивидуацию, встречаются в истории гораздо реже, чем мужские. Женская индивидуация, впрочем, как и мужская, призвана перевести коллективное бессознательное в сферу сознания, но эта операция больше напоминает не освещение мужским светом женской глубины (как в мужской инициации), но подъем мужского света на поверхность женской ночи.
Так же как и у мужчин, социальная реализация женщины представляет собой экстернализацию внутренних архетипов, и мужчина воспринимается женщиной лишь как проекция анимуса. Отсюда широко распространенная тема ожидания сказочного принца, равно как и многочисленные предания о неудачном браке — о Синей Бороде, красавице и чудовище и т. д. Брак для женщины и есть индивидуация, а образ мужа (удачного или не очень) и иногда сына выражает для нее фигуру собственного реализованого анимуса.
Контрольные вопросы
1. Как понимал гендер З. Фрейд?
2. В чем различие трактовки роли гендера у Фрейда и Юнга?
3. Как соотносятся между собой индивидуация и брак в теориях Юнга?
ГЛАВА 10.3
ГЕНДЕР И РЕЖИМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
МУСКУЛИНОИД: РЕЖИМ ДИУРНА
Типология Жильбера Дюрана еще больше уточняет структуру коллективного бессознательного и позволяет установить соотношения между стратегиями пола в индивидуации и в социальных структурах. Социология глубин сводит эти процессы воедино.
Мужской пол в самом широком смысле — и как социальный гендер, и как психический образ анимуса у женщин — может быть сведен к одной общей социально-психологической или структурной фигуре — к мускулиноиду. Мускулиноид — набор социальных и психологических свойств, которые в разной мере и в разных комбинациях встречаются в бесчисленных аспектах культуры и природы (предопределенной культурой).
Мускулиноид — это:
• вирильное, активное начало;
• волевой импульс;
• силовое давление;
• развертывание вертикальных соответствий и оппозиций;
• экспансия;
• агрессия;
• энергичность;
• разрыв;
• жесткое противопоставление одного другому.
Мускулиноид — это фигура, воплощающая в себе принцип диурна, героический архетип, различающее начало. В социуме он соответствует мужскому гендеру как фундаментальному нормативу, образцу, эталону или стандарту, по которому выстраиваются все социальные структуры.
В психическом мире эта же фигура соответствует:
• быстроте и интенсивности восприятия, чувств, переживаний;
• упорядоченности восприятия и оценки;
• собранности и сконцентрированности;
• воле, растянутой вокруг прямой оси;
• структурированному желанию;
• стремлению повелевать и организовывать.
Вводя фигуру мускулиноида, мы максимально абстрагируемся от анатомических мужчин или от тех, кого мы привыкли называть «мужчинами». Анатомический пол — это малая толика мускулиноидности, далеко не гарантирующая освоения даже части содержания этой фигуры. Мускулиноидность кристаллизуется и усваивается по мере социализации в пространстве мужского гендера и поэтому является не данностью, но заданием. Отсюда выражение «он стал мужчиной», понимаемое, правда, сегодня в бытовой речи в узком смысле, но косвенно указывающее на статус мужчины, зависящий от совершения определенных (социальных) действий — «стал мужчиной», но «мог бы и не стать». В традиционном обществе «стать мужчиной» означало пройти обряд инициации и получить право жениться, полноценно участвовать в делах сообщества, владеть имуществом и т. д. Не прошедший инициации «не становился мужчиной» и не был им с точки зрения гендера. В отношении рабов, чья гендерная природа часто отрицалась, сплошь и рядом практиковалась операция кастрации; рабы-евнухи, прошедшие демаскулинизацию, представляют собой типичную фигуру древних обществ — как пример того, что мужчина может перестать быть мужчиной, утратив в первую очередь социальный гендер, а затем уже и соответствующие органы. Жрецы культа Великой Матери, так называемые галлусы (петухи — лат.), также отказывались (но по другим, религиозным соображениям) от мускулиноидности — анатомической, религиозной, социальной.
Еще более очевидна отвлеченная природа мускулиноида в том случае, если мы примем юнгианскую идею об анимусе. Здесь мускулиноид становится формой женской души, воплощающей в себе свойства, обратные структуре женского Эго.
В обоих случаях, и как социальный норматив, и как фиксация женской грезы о своей противоположности, спроецированной на коллективное бессознательное, мускулиноид — это вполне конкретный, четко конституированный архетип, в огромной степени влияющий на все процессы, протекающие в душе человека и в обществе.
Здесь вполне уместно говорить о «метафизике пола»24 или о «мужском начале», взятом в качестве самостоятельной и самодостаточной категории, которая может находиться в самых разных отношениях (подчас противоречивых или диалектических) с полом анатомическим и социальным. В типологии Дюрана мускулиноид — это предельная концентрация диурна в его чистом виде.
Соответственно, все разбиравшиеся нами в предыдущих разделах проявления диурна могут быть связаны с мускулиноидностью или мужским началом в его нормативном значении (гендерно-социальном и психологическом).
Мужчина (как мускулиноид) — это:
• укрепляющий самотождество и разделяющий объекты внешнего мира;
• преданный логосу и логике;
• участник активных, агрессивных, наступательных этносов;
• жрец солнечно-небесного культа (религия далекого, великого, светлого);
• преобразователь хаоса в порядок (космос);
• жестко отделяющий, дифференцирующий, одно от другого;
• начало, переводящее этнос в народ;
• строитель империи;
• носитель воли к власти;
• творец теллурической культуры.
Эти свойства представляют собой константу социума, культуры, психологии, мифа, религии, политического устройства общества. Так мускулиноид проявляется, действует, живет в социальных структурах и в женской душе.
Мускулиноид в религиозном контексте может быть символически изображен в виде отца (старца) — таким часто изображают верховного Бога, Ветхого Деньми; в виде молодого мужчины (архетип Аполлона) или в виде младенца (изображения бога-младенца свойственны не только христианской религии, но и некоторым политеистическим культурам — младенец Дионис у греков и т. д.).
ФЕМИНОИД I: МИСТИЧЕСКИЙ НОКТЮРН
Симметрично мускулиноиду можно выделить фигуру феминоида, то есть фигуру, в которой сосредоточены чистые свойства женского начала. По Дюрану, можно выделить два типа феминоидов — один связан с мистическим ноктюрном, другой — с драматическим.
Феминоид первого типа (феминоид I) соответствует режиму мистического ноктюрна. Это архетип матери, а в религии — Великой Матери. По закону имманентности, переход от человеческой матери в мезозоне к Великой Матери в религии, обобщающей свойства мира, находящегося и «здесь» и «там», чрезвычайно прост и естественен. Более того, мать и есть синоним имманентности. Отсюда устойчивое выражение «мать-земля». Земля, с одной стороны, есть главное свойство того, что дано человеку непосредственно, в виде ощутимых вещей, но с другой — того, что всегда по своему объему и по своей природе превосходит все данное, уводя сознание в сторону бесконечных новых возможностей. Земля — одновременно родная, близкая и огромная, всеохватывающая, вселенская, мировая.
Точно такими же свойствами обладает мать. Она конкретна и близка, но при этом первична (была до рождения и породила рожденное), может внушать священный трепет и ужас своим нежным полновластием, заботой или безразличием. Через мать ребенок познает мир в его целом и в его конкретных фрагментах.
Материнский феминоид воплощает в себе следующие свойства:
• первичность, предшествование;
• нерасчлененность, всеединство, «склеивание» всего со всем;
• мягкость, нега;
• пластичность, гибкость, текучесть;
• сытость, иногда обжорство;
• урожай, плоды земные;
• хтоническая культура;
• расслабленность, спокойствие;
• мир, умиротворение, миротворчество;
• равенство, дружба;
• массы, низшие слои общества;
• миниатюризация;
• обладание и наличие предметно оформленных вещей.
Феминоид I связан с культами земли, воды и Луны, с женскими богинями (кроме богинь мускулиноидов, таких как Афина Паллада, Гестия и т. д.), с ночью, сном и т. д.
Феминоид I — это социальная модель и психическая фигура. В качестве социальной модели она воплощает себе роль женщины в семейных отношениях — деторождение, хозяйство, дом, — но в то же время она соответствует одному из регистров анимы (мужской души).
В этом случае мы еще более отчетливо видим несовпадение таких понятий, как гендер, мускулиноид/феминоид или animus/anima, с представлениями об анатомическом поле. Код материнского феминиода может распространяться на:
• отдельные общества с феминоидными признаками (таковы, например, ваны в германской мифологии; много феминоидных черт в славянской, финской, кельтской культурах);
• низшие социальные слои (практически любого общества);
• типы религий или религиозных культов (фракийская Кибела, египетская Исида, каменные бабы древних евразийских этносов и т. д.);
• продукты, артефакты и социальные структуры хтонических культур;
• жизнедеятельность, связанную с производством продуктов питания и материальных благ;
• одну из возможных форм конфигурации мужской души — анимы.
Очевидно, что в таком значении феминоидность I намного превышает собственно женский пол, так как может включать в себя роли и занятия, в большинстве обществ связанные с мужским трудом — производством, экономикой в целом, накоплением богатств. Кроме того, низшие слои любого общества почти в равной степени состоят из мужчин и женщин, но находятся в целом под знаком ноктюрнической феминоидности I. Доминация материнской анимы при патологическом развитии может превратить в законченного феминоида I и анатомического мужчину, формально принадлежащего к элите. Часто падение династий и политических режимов было связано именно с этим. В фигуре последнего русского царя Николая Второго мы сталкиваемся как раз с таким случаем. Его мужская царственная диурническая воля была блокирована материнской анимой, склонной к покою, миролюбию и гармонии, катастрофический результат чего для Российской империи не замедлил сказаться.
ФЕМИНОИД II: ДРАМАТИЧЕСКИЙ НОКТЮРН
Другой разновидностью феминоидного начала является форма драматического ноктюрна. Это тоже архетип женственности, но на этот раз в отрыве от деторождения, семьи и воспитательных функций. Это женщина — возлюбленная, любовница, невеста или, в регистре куртуазных представлений, Прекрасная Дама25.
В этой женской фигуре преобладает претензия на сопоставимость, симметричность мужскому началу. Между феминоидом I и мускулиноидом отношения всегда асимметричные: либо доминирует мужское, и тогда женское подавляется, перемещаясь на периферию (чистый режим диурна), либо, напротив, женская инстанция полностью подчиняет себе мужское, которое покоряется, смиряется, рассасывается (режим мистического ноктюрна). Феминоид II — это не укрощенная, но и не победившая женственность, от которой мужчина зависит, периодически побеждая ее, а периодически проигрывая.
Феминоида II мы вслед за Дюраном рассматриваем со стороны женственности и ноктюрна, но будет вполне логичным, если рассмотреть его и с мужской стороны. Зависящий от женского начала — даже в относительной степени — мужчина не может быть мускулиноидом. Это уже сам по себе феминоид II, отличный от феминоида I тем, что он сохраняет часть диурнических свойств, но отличный от чистого режима диурна тем, что пребывает в ритмическом чередовании побед над женственностью и поражений перед ее лицом, в то время как для чистого героического типа характерны полная свобода и независимость от всех форм ночи.
Феминоид II включает в себя мужчин и женщин, зависящих от эротики, брака и влечения к противоположному полу в классическом для большинства обществ формате. Периодичность возникающего влечения прекрасно вписывается в этот контекст.
Образом феминоидности II может послужить пара танцоров танго. Чувственность, страстность, агрессивность, чередование выразительных драматических фигур. Причем феминоидами здесь являются оба партнера — и мужчина (macho), и женщина (puta). История происхождения танго показательна: этот танец был ироничной пародией на ритуальные обрядовые танцы латиноамериканских негров со стороны маргинальных и делинквентных элементов из пригородов аргентинской столицы — Буэнос-Айреса. Криминальные отбросы общества, разорившиеся гаучо (южноамериканский вариант скотоводов-ковбоев), вначале танцевали этот танец в парах из двух мужчин, но затем перенесли его в бордели и включили в него проституток26. Не только женщина, танцующая танго, но и партнер-мужчина, который на первых порах играл обе роли, представляет собой тип феминоида II, точно так же, как в античном театре или традиционном японском театре но и кабуки все женские роли играют мужчины в масках. Актеры и, шире, люди искусства суть феминоиды II.
Феминоиду II соответствуют:
- эротический импульс к другому полу, либидо, флирт, кокетство, любовные интриги;
- ритм и цикл, история, прогресс;
- искусство (особенно музыка, поэзия), утонченность;
- вкус к парадоксу, находчивость, легкий нрав;
- активность, подвижность;
- праздник, веселье, смех;
- алкоголь (в средних дозах), легкие наркотики;
- путешествия, перемещения, перемена места жительства;
- активный отдых и веселый досуг;
- столкновение противоположностей в игровой манере;
- обман, ложь, необязательность, хитрость, коварство.
В религиозной сфере этому типу чаще всего соответствуют богини любви (Афродита, Диана); божества, склонные менять пол (Гермес у греков, Локи у скандинавов); фигуры трикстеров (койот, ворон у индейцев) и т. д.
Представители феминоидов II чаще встречаются в элитах, чем в массах. Так, по классификации Парето, элита состоит из «львов» и «лис» в политике или «рантье» и «спекулянтов» в экономике. Феминоиды II — это типичные «лисы» и «спекулянты», быстрые, гибкие, эффективные, лишенные моральных устоев. Современный американский социолог Юрий Слезкин обобщенно назвал этот тип меркуриальным27.
Еще более широко представлены феминоиды II в среде маргиналов, делинквентов, богемы, людей искусства. В некоторых обществах (в «чувственных типах» общества, по Сорокину, или обществах Постмодерна) тип феминоида II является той средой, участники которой потенциально обладают в системе четырех социальных осей наибольшим престижем. Это актеры, музыканты, персонажи гламурных хроник, скандальные журналисты, плейбои, великосветские шлюхи, шоумены, комики, часто — знаменитые преступники или яркие извращенцы.
Если феминоиды II в области социума представляют собой разновидность элиты — чаще всего парвеню и карьеристов, а также богему, шире — жуиров, людей, наслаждающихся жизнью, — то в психологической сфере они соответствуют сбалансированной аниме ординарных мужчин, но также и анимусу ординарных женщин. Феминоид II может, таким образом, выступать и как анима, и как анимус, в зависимости от того, какой социальный гендер мы рассматриваем. Это промежуточное состояние между окончательной и решительной победой диурна или мистического ноктюрна друг над другом, баланс, когда чаша весов постоянно колеблется между тем и другим, не смещаясь окончательно ни в одну из сторон. Таким образом, носители драматического ноктюрна в широком смысле представляют собой:
- разновидность социального типа элитарных «лис» (проходимцев, шулеров и спекулянтов) — особенно такой тип становится востребованным в буржуазных обществах;
- типичных преставителей творческой богемы, а также маргинально-криминальных сред;
- область, легитимно выделенную обществом для реализации эротических и куртуазных стратегий — брака, легальных и полулегальных форм конкубината и т. д.;
- наиболее широко распространенную модель баланса между мужскими и женскими элементами в человеческой психике.
Будучи архетипом, строго промежуточным между диурном и мистическим ноктюрном, феминоиды II представляют собой довольно обособленный тип с точки зрения социальной функции и широко распространенную — преобладающую — модель социальной организации сексуального поведения и баланса между мужскими и женскими элементами психики (как у мужчин, так и у женщин).
ГОМОГЕНИЗАЦИЯ И ГЕТЕРОГЕНИЗАЦИЯ В СТРУКТУРЕ ГЕНДЕРА
Ж. Дюран распределяет три группы мифов по трем обобщающим жестам, сочетающим понятия гетерогенность и гомогенность. Гетерогенность — разнородность, различие, разделение, отличие. Гомогенность — однородность, слияние, консолидированность.
Действие, направленное на достижение гомогенности, — гомогенизация; на достижение гетерогенности — гетерогенизация.
Трем режимам и, соответственно, трем разбираемым нами гендерным фигурам соответствуют следующие жесты:
- мускулиноиду — гетерогенизирующая гомогенизация;
- феминоиду I — гомогенизирующая гетерогенизация;
- феминоиду II — гетерогенизирующая гетерогенизация.
Первое означает, что мускулиноид (мужчина как носитель вирильного начала) постоянно укрепляет свое внутреннее единство через разделение, привносимое в окружающий мир. Он делает себя однородным и цельным, но раскалывает при этом цельность мира.
Феминоид I (мать) поступает прямо противоположным образом — она жертвует своей целостностью, расщепляет себя на множество забот, трудов, переживаний и соучастий ради того, чтобы объединить вещи мира (включая детей) в единую ткань. Отсюда фигуры греческих парок и скандинавских норн, ткущих пряжу мира, человеческие тела и природные вещи.
И наконец, феминоиды II (пара любовников) разделяют мир вокруг и разделяют сами себя (частично перетекая в другого), но никогда не до конца — так, что парадоксальным образом они одновременно связывают одно с другим (но снова не окончательно).
ФРЕЙД–ЮНГ–ДЮРАН
На основании разобранных нами соответствий легко убедиться, какую огромную работу проделали психоанализ и отчасти построенная на нем социология глубин от Фрейда до Дюрана в деле конкретизации структуры бессознательного и выяснения качества половых архетипов, заложенных в нем. Интуиции Фрейда, описавшего саму двойственную топику антропологии и социальности и населившего подсознание подавленными эротическими импульсами, получили новое содержание у Юнга, выстроившего внушительную конструкцию психоаналитической структуры внутреннего мира человека со сложными и детально продуманными половыми архетипами, связанными в сюжеты, образы и темы. К всему этому Жильбер Дюран добавил абсолютно новаторскую модель выделения в бессознательном (уже по-юнгиански понятому) двух режимов и трех групп мифов.
Сочетание этой конструкции с выводами Леви-Стросса и Мирчи Элиаде относительно гендерных соответствий и социальных позиций в архаических обществах и в мифологических системах создает монументальное основание для нового понимания гендера в социологии современных обществ, так как в этих обществах принципиально нет ничего нового, ничего из того, что отсутствовало бы в корневых моделях социума с их инициацией, религией, жесткими кодификациями бодрствования и сновидений на основании единой мифологической модели.
Мускулиноидность, феминоидность I и феминоидность II, баланс между социальным гендером и полом души, три типичные фигуры мужчин и женщин вне и внутри человека — все это константы любого общества, любой социальной структуры, любого человеческого существа. Поэтому применительно к гендерной проблематике — как и во всех предшествующих случаях (в идеологии, этносе, политике, религии) — данная методология демонстрирует свою состоятельность, продуктивность и огромный гносеологический потенциал.
Контрольные вопросы
1. Опишите психологический и мифологический образ мускулиноида.
2. Опишите психологический и мифологический образ «феминоида I».
3. Опишите психологический и мифологический образ «феминоида II».
ГЛАВА 10.4
СЕМЬЯ И СТРУКТУРЫ РОДСТВА
СЛОВА И ЖЕНЩИНЫ
Клод Леви-Стросс28 рассматривал гендер как основу построения социальной структуры общества. Согласно его концепциям, в основе общества лежит операция обмена, который направлен к установлению равновесия: отдающий нечто должен получать назад эквивалент отданного. Операция обмена может быть уподоблена ссуде: один дает другому нечто в долг, что тот должен вернуть.
Приоритетными объектами обмена в простых обществах выступают слова и женщины. Речь есть обмен синтагмами между людьми. Показательно, что в наиболее расхожих формах общения, присущих всем человеческим культурам, взаимообмен речевыми формулами (диалог) является законом. Например, в обычном приветствии встречающиеся люди произносят: «Здравствуйте!», на что должно последовать ответное «здравствуйте!», которое предполагается не конкретикой ситуации, а самой природой речи как обмена.
В основе речи лежит язык, его логика, структуры и парадигмы, предопределяющие то, по какой модели и в соответствии с какими закономерностями будет происходить речевой обмен. Они не видны, потенциальны и всегда проступают не сами по себе, а через построение речи как актуального. Речь — то, что находится на поверхности. Язык — то, что внутри.
Точно такой же логике подчиняется обмен женщинами в структуре брачных отношений и в общей ткани родства и свойства. Он основан на принципе эквивалентности и следует столь же однозначным правилам, как и речь. Но как в лингвистике сплошь и рядом носители языка — особенно в бесписьменных культурах — не имеют представления о стройной и логической грамматике, которой пользуются бессознательно, так же и структуры брачных отношений лежат не на поверхности, но являются потенциальными и скрытыми, и выяснение их закономерностей требует определенных усилий.
Эти усилия и предпринял Леви-Стросс, развивший вслед за социологом М. Моссом идею «дара»29, а также механизма обмена дарами (дар–отдаривание) как социальной основы общества, но только применительно к обмену женщинами, которые являются обобщением дара как такового. Они концентрируют в себе другие формы обмена — в том числе обмена предметами или словами. Структура родства, основанная на гендерном обмене, таким образом, может быть рассмотрена как универсальная грамматика общества.
ОГРАНИЧЕННЫЙ ОБМЕН
К. Леви-Стросс выделяет в примитивных обществах два типа обмена женщинами, то есть два типа социального языка брака — ограниченный обмен и обобщенный обмен.
Ограниченный обмен представляет собой классический случай дуального или кратного двум членения общества на экзогамные фратрии. Простейший случай — племя, разделенное на две половины, которые проживают либо на общей территории (например, в разных концах поселения), либо на некотором расстоянии. Между двумя фратриями А и В происходит обмен женщинами. Мужчины (отцы и братья) отдают дочерей (сестер) мужчинам другого племени в жены, а те точно так же поступают со своими дочерьми и сестрами. Экзогамных групп может быть и 4, и 6, и теоретически больше, но больше 8 нигде не встречается. На схеме это можно изобразить таким образом.
|
A |
A |
A |
|
С |
С |
|
|
E |
Схема 41. Ограниченный обмен женщинами между родами
В такой модели организации брака соблюдается принцип равноценности. А отдает В столько же женщин, сколько и получает взамен. Поэтому Леви-Стросс говорит, что в условиях деиндивидуализации архаических обществ (вспомним Dо Каmо) это может быть представлено как цикл ссуд и возвратов. В качественном индексе женщины племени самым важным является лишь факт ее принадлежности к фратрии А, В, С, D и т. д. В зависимости от этого, и только от этого, она является или не является объектом легитимного эротического и социального внимания, то есть обладает или не обладает социальным статусом невесты. В случае несоответствия она становится табу, то есть прекращает быть объектом обмена. С этим связаны и жестокие культы убийства девочек в некоторых примитивных племенах, о чем мы упоминали выше, — часто это можно рассмотреть как аналог уничтожения избыточно произведенных товаров, которые при определенных обстоятельствах не имеют шанса найти потребителя. Женщиной, которая может стать женой, является не всякая молодая женщина в детородном возрасте, а только женщина-«нао» («нао» противоположно «табу»), то есть принадлежащая к определенной фратрии, разрешенной для брачного союза. Это столь же неизменно, как построение речи по вполне определенным правилам, которые никто не может произвольно изменить и которые изменяются только вместе с языком (то есть обществом в целом).
В обществах ограниченного обмена четко соблюдается дуальный код, лежащий в основе мифологических и религиозных систем, а также социальных институтов, которые встречаются также и в обществах и культурах, гораздо более комплексных и многоуровневых. Но структуру этноса, базовую основу модели «родства-свойства» формирует именно такой тип общества. В нем ярче всего видна линия, отделяющая и соединяющая между собой людей по дуальной модели — родные и свои. К А относятся родные. К В — свои (или «свои другие»).
Закон такого разделения, воплощенный в запрете на инцест (под которым чаще всего понимается запрет на инцест брата и сестры, то есть на брачные отношения в пределах одного и того же поколения), конфигурирует фундаментальную модель эроса, примененную к социуму. Аффективность разделяется на две части — родовую (близость к родителям, братьям, сестрам и детям), с одной стороны, и брачную (реализующуюся в эротических отношениях только с разнополым представителем противоположной фратрии) — с другой. Спонтанная аффективность, близость, нежность в обоих случаях ограничиваются структурой запретов, то есть введением дистанции. Любовь к родственникам цензурируется табуированием инцеста, любовь к представителю противоположной фратрии — фундаментальной инаковостью этой фратрии, закрепленной в самой социальной системе экзогамных групп. Данная парадигма разделения аффективности порождает базис социального гендера, который сохраняется нетронутым и в самых сложных обществах. Но в обществе прямого обмена эта социализация пола выступает в самой яркой и полной форме.
ОБОБЩЕННЫЙ ОБМЕН
Вторую форму обмена женщинами Леви-Стросс называет обобщенной. Здесь равновесие между даром и отдариванием достигается не прямым образом, а опосредованным. Если в первой модели может быть только четное число экзогамных фратрий, обменивающих женщин строго «одну на другую», то в обобщенных системах может участвовать теоретически любое — неограниченное — количество фратрий. Здесь обмен осуществляется по следующей схеме.
|
A B С |
A B С D |
Схема 42. Обобщенный обмен женщинами между родами
В такой модели женщину из экзогенной фратрии А отдают во фратрию В, из фратрии В — во фратрию С, а из фратрии С — во фратрию А. Число элементов теоретически может увеличиваться, но на практике имеет верхний предел. В такой ситуации существенно расширяется спектр отношений свойства. Теперь свояками («своими другими») становятся члены сразу двух фратрий — той, куда отдают женщину, и той, откуда ее берут.
Общий баланс остается тем же, циркуляция женщин стремится к полному равновесию — сколько женщин род отдает, столько и получает. Но на сей раз получает не непосредственно оттуда, куда отдает, а через промежуточную инстанцию. В том случае, когда размерность превышает три фратрии, возникают группы, которые, участвуя в обмене, не входят в систему прямого свойства. Они являются «другими», но не «своими другими».
При этом обобщенные системы ничем принципиально не отличаются от прямых, так как жесткая упорядоченность женщин-«нао» (т. е. допустимых, разрешенных женщин, в отличие от табуированных, запрещенных женщин) и основные социальные табу сохраняются.
АТОМАРНАЯ СТРУКТУРА ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ ШКАЛА
К. Леви-Стросс выделяет ту минимальную структуру, которая сохраняется постоянной при всех социальных моделях гендерного обмена. Он описывает ее через группу из четырех членов: супруг (отец)–супруга (мать)–сын–брат супруги (дядя). Между ними теоретически возможны шесть осей связи:
- муж–жена;
- мать–сын;
- отец–сын;
- сестра–брат;
- дядя (уй)–племянник;
- муж–шурин (швагер).
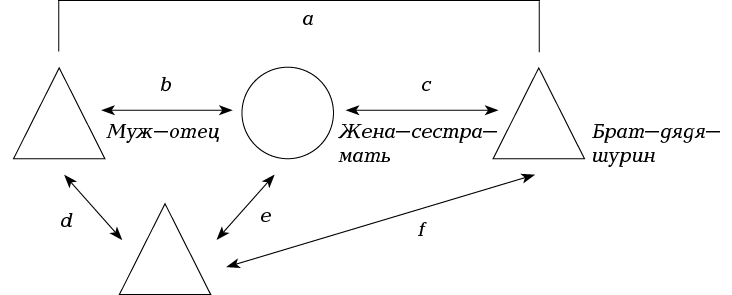
Схема 43. «Атомарная структура» родства, по Леви-Строссу
Отношения по оси a основаны на дистанции в любом обществе (разница фратрий, «другие», свойство в чистом виде); отношения по оси f основаны на интимности в любом обществе (родство в чистом виде); отношения по осям b, c, d, f варьируются в зависимости от специфики устройства каждого конкретного общества.
Для изучения и систематизации этих связей Леви-Стросс предлагает разделить их на две категории: интимность/дистанция. Интимность включает нежность, спонтанность, близость. Дистанция — авторитет, уважение, сдержанность, настороженность, иногда враждебность. Обществ, в котором доминировал бы только один тип отношений, не существует. Если все основывать на дистанции, невозможно продолжение рода и создание семьи, если на интимности, не будет порядка, иерархий и соблюдения табу (в частности, инцестуальных). Поэтому каждое отношение в атомарной структуре в разных обществах может быть разным — то есть может преобладать либо интимность, либо дистанция.
К. Леви-Стросс выделяет две константы — отношения мать–сын, которые всегда интимны, и муж–шурин, которые всегда основаны на дистанции. Поэтому строго переменными являются лишь четыре оси связей. Эта переменность зависит не от того, как складываются отношения в семье, но от типа общества, в котором находится данная семья. Структура связей между мужем–женой, отцом–сыном, сестрой–братом и дядей–племянником является строго предопределенной социально, и эта предопределенность служит конкретным диалектом, на котором говорит данное общество. На другом уровне это отражается в мифах, социальных институтах, культурных и стилистических конструкциях и т. д.
К. Леви-Стросс выделил в характере этих связей математическую закономерность в форме обратного подобия.
Схема 44. Переменные оси родства
Если мы знаем, например, что у черкесов отношения между отцом и сыном и мужем и женой отличаются определенной дистанцией, то из этого легко можно заключить, что отношения между дядей и племянником и братом и сестрой будут близкими и интимными. В этом проявляется смещение внимания на ближних по плоти (род) при матрилинейном родстве (отсюда отношения с дядей) в ущерб эротическому импульсу, направленному вовне рода.
Другой пример — из жизни племени полинезийских тонго. Этнологи сообщают, что в этом племени жестко регламентированы и табуированы отношения по линии отец–сын и брат–сестра (вплоть до того, что отец и сын не могут ночевать в одном и том же помещении, хижине). В этом случае отношения между мужем и женой и дядей и племянником будут, напротив, близкими, так как акцент падает на социализацию дядей по материнской линии (а не отцом) — снова матрилинейное общество — и позитивно оценивается структура брачного союза по линии супругов (внешний импульс по отношению к роду).
МАТЕРИНСКОЕ И ОТЦОВСКОЕ В СОЦИУМЕ
До К. Леви-Стросса в антропологии и этнологии преобладала эволюционистская точка зрения на фазы гендерного развития общества (Морган, Тейлор, Бахофен). Она состояла в следующем. Изначальная орда пребывала в состоянии полового промискуитета, где никаких регламентаций сексуального поведения не существовало — все члены орды вступали в половые отношения со всеми беспорядочно и хаотично. На следующем этапе в статус социального закона была возведена принадлежность детей к матери по принципу: кто кого родил, тому и принадлежит рожденное. На этом основании предполагалось существование матриархата. И наконец, на следующем этапе более «внимательные» дикари научились отслеживать факт отцовства, что привело к патриархату.
В ХХ веке антропологи и этнологи вслед за К. Леви-Строссом опровергли это представление, убедительно доказав, что общества, основанного на промискуитете, никогда не существовало, если не брать во внимание специальные и всегда строго ритуализированные оргиастические ритуалы, которые встречаются не только в примитивных племенах, но и в высокоразвитых культурах (о чем мы говорили выше). Более того, даже некоторые виды животных не имеют практики промискуитета — аисты, волки, вороны и т. д.30 Далее, то, что принимается за матриархат (позднее мы поясним неадекватность этого термина), вполне могло быть формой, параллельной патриархату, так как в некоторых обществах феминоидные элементы преобладают до сих пор, не подавая ни малейших признаков эволюции в сторону классического патриархата.
Вместо эволюционистской редукционистской схемы, опровергаемой этнологическими и социологическими данными, К. Леви-Стросс предложил структурную классификацию родственных связей, основанных на фундаментальном начале: определение принадлежности ребенка к тому или иному роду и местонахождение ребенка в пространстве одной из двух фратрий.
К. Леви-Стросс делит все варианты определения родства на четыре группы: матрилинейное, патрилинейное, матрилокальное и патрилокальное. Первые два типа относятся к определению принадлежности ребенка к роду матери или отца, а вторые два — к местонахождению ребенка на территории рода матери или отца.
Возникает четыре варианта:
1) матрилинейное родство + матрилокальное месторасположение;
2) матрилинейное родство + патрилокальное месторасположение;
3) патрилинейное родство + матрилокальное месторасположение;
4) патрилинейное родство + патрилокальное месторасположение.
1-й и 4-й варианты Леви-Стросс назвал гармоничными, 2-й и 3-й — дисгармоничными. В 1-м и 4-м случаях ребенок оказывается помещенным в тот род, к которому он принадлежит и в котором воспитывается как родной, то есть как часть этого рода с момента появления на свет вплоть до своей зрелости и брачного периода. Важно также, что он проходит инициацию и подготовку к ней среди родных. В случаях 2 и 3 ребенок, напротив, родившись, оказывается в пространстве той фратрии, которая является для него экзогенной, что ставит его в условия определенного отчуждения от окружающих, за исключением матери (во всех случаях). Ни одна из этих версий сама по себе еще не создает ни матриархата, ни патриархата, так как служит регулированию общего баланса обмена женщинами на основе равновесия. Теоретически, оговаривается Леви-Стросс, можно было бы описать тот же процесс как обмен мужчинами, но такого отношения не зафиксировано ни в одном из известных обществ, так как даже в социумах с элементами, формально напоминающими матриархат, мужчина не осознается как товар, подлежащий обмену в общей социальной системе. Ни матрилинейность, ни матрилокальность, ни их сочетание не являются признаками матриархата. В социальной структуре мать выступает как носительница главного фактора — принадлежности к роду, который сам по себе не имеет гендерного признака, но лишь помогает то, что принадлежит к А, отнести к А, а то, что к В, — к В. Ту же роль, но на ином уровне — на уровне пространственного размещения семьи или потомства — играет принцип патрилокальности и матрилокальности.
В такой ситуации обмен и равновесие становятся главными законами гендерных стратегий в обществе.
КРОССКУЗЕННЫЕ И ПАРАЛЛЕЛЬ-КУЗЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Огромное значение в системе родства имеют отношения с двоюродными братьями и сестрами. Их пример показывает, что запрет на инцест имеет не физиологический или гигиенический, но сугубо социальный характер. Это выражается в делении кузин и кузенов на перекрестных и параллельных. Параллельные кузены (кузины) — это дети братьев отца или сестер матери. Кросскузены (кросскузины) — дети сестер отца и братьев матери. При любых формах определения принадлежности к роду — и по патрилинейной, и по матрилинейной — кросскузены и кросскузины оказываются членами противоположного рода по отношению к сыну (дочери) данных родителей.
Большинство архаических обществ разрешает кросскузенные браки именно на основании социальной экзогенности — при том что с точки зрения физиологической кросскузены ничем не отличаются от параллель-кузенов. Это опровергает гипотезу о табуировании инцеста из-за наблюдений за вырождением потомства от кровосмесительных альянсов.
РОДСТВО В КОМПЛЕКСНЫХ ОБЩЕСТВАХ
К. Леви-Стросс изначально планировал дополнить свою работу по исследованию элементарных структур родства второй частью, призванной описать и систематизировать структуры родства в комплексных обществах. Он не осуществил этого плана. Он также никогда не распространял исследования мифологий, обычаев и общественных структур архаических обществ на западную цивилизацию — ни в ее истоках, ни в ее актуальном состоянии. Так, по его собственным словам, он сохранял «чистоту эксперимента». Тем не менее выводы из его фундаментальных исследований социологических аспектов архаических обществ напрашиваются сами собой, что явно не ускользало и от него самого. Но Леви-Стросс видел свою задачу не столько в том, чтобы заявить и доказать, что архаические общества столь же «полноценны, логичны и развиты», как и современные, сколько в том, чтобы этот выводы сложились у читателей сами собой, как нечто очевидное, неоспоримое и безусловное.
Так, структуру родства в комплексном обществе можно представить себе как изоляцию и автономизацию все той же атомарной структуры муж–жена–сын (дочь)–дядя (тетя), жестко подчиненной табуированной инцестуальности — чаще всего с включением в это табу и кросскузенных браков (параллель-кузенные браки и так табуируются в большинстве архаических обществ). Эта изолированная ячейка действует в той же самой системе циркулярного обмена женщинами, что и в архаических племенах, но только в намного более широком контексте. Женщин отдают «неизвестно какому роду» (X) и берут взамен также из «неизвестно какого рода» (Y). Точнее, род становится известным через свойство. Чтобы соблюсти дистанцию, правила запрета на кровосмешение соблюдаются жестко — и на уровне обычаев, и на уровне юридических законов.
В таком случае даже самое современное и либеральное общество может быть рассмотрено как огромный цикл циркуляции женщин, обмен которыми порождает баланс населения и обеспечивает преемственность социума. В каком-то смысле все остается неизменным и институт семьи сохраняет свои архаические корни. Другое дело, что в архаических социумах запрет на инцест и другие аспекты социального института семьи мыслились как частный случай общего принципа, исходя из социальной тотальности и мифологической (позже — религиозной) культуры. Поэтому то, из какого рода брать жен и в какой род отдавать девушек своего рода, имело огромное значение и лежало в основании фундаментальных законов общества, было его языком. В комплексных обществах все поменялось местами. Запрет на инцест и иные брачные правила сохранились сами по себе, на уровне семьи, атомарной структуры родства, в отрыве от социально-культурных нормативов, делавших их осмысленными и естественно вписанными в общий социальный контекст. По мере удаления от архаических структур утративший свой изначальный социообразующий и этногенетический смысл институт семьи сам стал в свою очередь структурировать социальные нормативы на уровне гендера, упорно сохраняя архаические устои (в том числе и табу) в самых разных социальных системах, и даже в тех, которые эксплицитно их отрицали (как в случае советского или либерального общества).
Особенно наглядно это заметно в элите общества, где брак приобретает особое значение в силу заложенного в нем потенциала свойства. Мы видели, что свойство играло фундаментальную роль в выстраивании баланса между родными и «своими другими», что обеспечивало культурную и социальную когезию общества, превращало его в уравновешенный сбалансированный этнос. Этот же принцип проецируется на династические браки, когда свойство ассоциируется с дипломатией, заключением политических и стратегических союзов, урегулированием противоречий между странами и правящими элитами или внутри стран между аристократическими кланами. Морганатические и аристократические браки демонстрируют нам культурообразующий потенциал гендерных отношений (так как культура, по Хейзинге, рождается из способности выстроить внутри этноса (племени) игровую модель противоречий между двумя экзогенными фратриями). В классовом обществе аналогичные брачные отношения могут существенно влиять на положение экономических элит, так как свойство позволяет консолидировать капитал или синхронизировать экономическую стратегию. И наконец, во всех типах общества (кроме жестко кастового) свойство могло служить лифтом социальной мобильности: установив отношения через брак с более влиятельным родом, данная семья получала доступ к новым возможностям.
Таким образом, циркуляция женщин в матримониальных альянсах до сих пор представляет собой важнейший социообразующий фактор.
Контрольные вопросы
1. В чем К. Леви-Стросс видит основную функцию женщин в системе родства?
2. Что такое кросскузенные браки?
3. Сохраняются ли основные параметры структуры родства в комплексных обществах?
ГЛАВА 10.5
ТРАНСФОРМАЦИИ СЕМЬИ И ГЕНДЕРНЫХ СТРАТЕГИЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ СИНТАГМЕ
АРХАИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СЕМЬИ
Рассмотрим трансформацию генедерных отношений в исторической синтагме Премодерн–Модерн–Постмодерн. В этой синтагме именно семья остается наиболее архаичным институтом и менее всего меняется вместе с изменением религиозных структур, правящих идеологий и доминирующих социальных архетипов. Институт семьи пережил самые фундаментальные социальные трансформации и сохранился в основных своих чертах даже в Модерне и Постмодерне, несмотря на многочисленные проекты по его упразднению (общность жен, провозглашаемая коммунистами, или полный индивидуализм, отстаиваемый современными левыми либералами).
ПРОБЛЕМА ПАТРИАРХАТ/МАТРИАРХАТ
Начать рассмотрение эволюции гендера в истории обществ следует с прояснения проблемы патриархата и матриархата, о чем уже упоминалось. Эти термины несут в себе определенную некорректность. Если патриархат (власть отца — от греческих корней pater, отец, и arch, начало, «власть») действительно существует и в разных формах наличествует в различных обществах, то концепция матриархата («власти матери») представляет собой искусственную теоретическую гипотезу, заключающую в себе неснимаемое противоречие. Изучавший «материнское право» (das Mutterrecht) швейцарский социолог и историк И. Бахофен31 использовал другой — столь же неудачный — термин «гинекократия» (от греческого gunh — женщина и kratoz — власть).
Противоречие заключается в следующем. Структура архаического общества (как и любого общества вообще) определяется динамикой взаимодействия режимов бессознательного. Все аспекты, относящиеся к власти, управлению, упорядочиванию социума, относятся исключительно к режиму диурна — это и организация социальной структуры, и инициация, и религия, и разметка пространства, и иерархии власти, и обмен женщинами фратрий. Гендерным выражением диурна является фигура мускулиноида — и в социальном, и в психологическом смыслах. Поэтому, в частности, власть и мужчина (как мускулиноид) — понятия социально тождественные. Понятие гендера как социального и, шире, символического, мифологического, психоаналитического пола разрывает наивную денотативную корреляцию половой анатомии с представлением о поле в широком смысле и все расставляет по своим местам. Мужчина есть мужчина по соучастию в мужском начале, то есть в той мере, в какой он является сопричастным фигуре мускулиноида. Анатомические признаки лишь указывают на вероятность такого соучастия, но ни в коей мере не являются достаточным (и иногда и необходимым) основанием для однозначного утверждения. Мускулиноидность как свойство рождается из коннотативных связей в структуре языка и общества.
Точно так же дело обстоит с соотношением анатомической женственности и феминоидности. Специфика физиологии указывает на вероятность связи с феминоидностью, не более того. Анатомический пол — это хреод, намечающий траекторию дальнейшей фиксации в гендере, но отнюдь не гарантирующий этой фиксации и тем более не совпадающий с ней.
Власть — это свойство мускулиноида, всегда и во всех общества. Если мы встречаем политическую систему, где создается иллюзия матриархата, это означает одно из двух: либо речь идет не о власти, а об иных социальных процессах (что мы видели в случае матрилинейного и матрилокального родства, не имеющего никакого отношения к матриархату), либо правление анатомических женщин в силу каких-то причин стало опорой для воплощения мускулиноидного начала.
Поясним последнее замечание. Во-первых, можно рассмотреть общество амазонок, о котором в истории остались лишь предания. Тем не менее показательно, что описание этого социума отражает все специфические аспекты мускулиноидной организации — общества, основанного на военных началах; в нем царит жесткая иерархия (царица амазонок); амазонки отрезают себе грудь (не только для удобства стрельбы из лука — это позднейшая рационализация, но и для подчеркивания умаления своей материнской и женской природы) и т. д. Общество амазонок — патриархальное общество, в нем правят диурн и фигура мускулиноида. Этот пример относится к области чистого мифа, так как реальных обществ, состоящих из женщин-воительниц (наподобие мужских военных отрядов в духе ранних описаний русского казачества32), мы не встречаем.
ЖЕНЩИНЫ И ЭЛИТА (КОМПЛЕКС БРУНГИЛЬДЫ)
Социум всегда так или иначе выстроен вдоль вертикальной оси власти, разделен на элиту и массу. При этом элита обязательно ближе к диурну, чем масса. Из этого следует, что элита более мускулиноидна, чем масса. Принадлежность к элите, как мы видели, есть причастность к стихии господства, а господство есть диурн. Но элита также имеет гендерный дифференциал: есть цари и царицы (а также царицы-матери, принцессы, княгини и т. д.), есть жрецы и жрицы. Из этого вытекает пара дихотомий: гендер внутри элиты и гендерное деление на элиту и массу. Элита — мужская, масса — женская. Но в элите есть женщины, а в массе — мужчины. Напрямую эти свойства в строгую и однозначную симметрию не вступают. Однако очевидно, что женщина элиты более мускулиноидна (по признаку принадлежности к элите), нежели женщина массы (которая более феминоидна). И в некоторых случаях она может быть более мускулиноидна, нежели мужчина масс (по определению имеющий феминоидные черты). Здесь трудно установить количественную шкалу, но наметить эту дихотомию можно.
В мифе — например, в скандинавском или иранском — существует устойчивый тип элитарных женщин-воительниц (валькирий у скандинавов, фравашей у зороастрийцев), которые в отношении мужчин-простолюдинов выступают в образе мужского начала. Такова, в частности, Брунгильда, убивающая (мужское, воинское качество) своих женихов, которые пытаются овладеть ею. Или индийский миф о богине Кали (воительнице), которая превращает прикоснувшихся к ней мужчин в женщин.
В психоанализе есть понятие комплекса Брунгильды, означающего ужас женщины перед потерей девственности и патологическую агрессивность к мужчине, пытающемуся это осуществить даже в рамках законного и легитимного во всех отношениях брака. По Юнгу, это случай женщин, одержимых сильным анимусом (Geist).
Таким образом, правление атомических женщин, как только оно становится настоящим правлением, отправлением власти, превращается в своеобразную модель патриархата и андрократии (власти мужчин или мужеподобных существ).
ЭКЗОРЦИЗМ ФЕМИНОИДНОСТИ
Будучи патриархальным в своей структуре, социум включает в себя и некоторые феминоидные аспекты. Мы говорили ранее, что социум есть продукт диурна, который конституирует пространственную вертикаль и организует социальные институты и отношения в соответствии со своими мифологическими установками. Ноктюрн получает доступ в общество только через экзорцизм и фигурирует там как продукт экзорцизма (экзорцизм — exorcismus — в католической практике означает изгнание дьявола, а в расширительном смысле — очищение вещи или человека от негативных, демонических, инфернальных влияний и свойств).
Аналогичным образом дело обстоит и с женским гендером. Он интегрируется и кристаллизуется в социуме через экзорцизм и функционирует в нем как объект экзорцизма и продукт экзорцизма. Именно это лежит в основе патриархального принципа обмена женщинами. В процессе этого обмена развертывается диурническая дихотомия того, кто обменивается, и того, кем обмениваются. Тот, кто обменивается (дочерьми, сестрами), — это мужчина (патриарх). Те, кем обмениваются, — это половозрелые женщины рода. Они рассматриваются как выражение ноктюрна и на этом основании приравниваются к продуктам экзорцизма. Сочетание диурна с ноктюрном в социуме выражается в фиксации постоянного сценария — мускулиноид интегрирует феминоида только через операцию экзорцизма, то есть цензурирования, очищения, предварительного упорядочивания и реструктуризации. Сам обмен женщинами можно рассматривать как обряд экзорцизма — ссужая женщину другому роду, данный род освобождается от женского ноктюрна, то есть очищает себя. Вместе с тем он берет на себя ответственность очистить те аспекты ноктюрна, которые он получает от другого рода вместе с женами, чему служат многочисленные предбрачные и брачные ритуалы, а также системы социальных ограничений, накладываемых на женщин — особенно на вновь прибывших в племя.
Через серию экзорцизмов феминоид интегрируется в социум, но никогда не предопределяет структуры этого социума. Напротив, ноктюрн предопределяется социумом, выступает как объект, подлежащий обработке извне. Мускулиноид есть тот, кто социализует. Феминоид — тот, кого социализуют. Социализация есть накладывание на все аспекты социума патриархального начала. Но в отношении механизма этого накладывания существует два сценария: мужчина в ходе патриархальной социализации учится укреплять мускулиноидную природу как свое внутреннее содержание и расширять ее, а женщина учится ограничивать феминоидную природу в пользу адаптации к поставленным извне рамкам. Мужчины, социализируясь, учатся властвовать, женщины — подчиняться.
На этом основан социальный кодекс, который придает нормативный статус только диурническим чертам — доблестям и ограничениям. Ноктюрнические черты — нежность, забота о детях, внимательность к материальному миру, — хотя и присутствуют во всех обществах в феминоидном сегменте, никогда не становятся нормативами и правовыми установками, уложениями, законами.
Феминоидность существует в обществе только де-факто, а мускулиноидность — де-факто и де-юре.
При этом в разных типах обществах, в разных этносах и в разных культурах, о чем мы неоднократно говорили, могут в какие-то моменты приоритетно развиваться ноктюрнические черты (например, хтонические культуры). В таких случаях удельный вес фемионидности возрастает. Рост этого веса может создать впечатление матриархата (что по сути неверно). Но пределом этого возрастания является исчезновение социума как организованного героическим мифом явления. Поэтому даже среди самых хтонических культур мы непременно встречаем мускулиноидные, патриархальные элементы — они-то и делают общество обществом. Если в обществе есть власть, значит, в обществе есть диурн. А если есть диурн, то есть полюс мускулиноидности, каким бы слабым и денатурированным он ни был. Феминоидность может существенно вымывать содержание мускулиноидных социальных форм и институтов, смягчать и эвфемизировать в соответствии со своей природой социальные антитезы и дихотомии. Все это может создавать иллюзию преобладания женского начала в обществе, но границы такого процесса довольно четкие — дойдя до определенного предела демускулинизации, общество разваливается и становится легкой добычей для любой мускулиноидной группы, либо пришедшей извне, либо сформировавшейся внутри общества как патриархальная контрэлита.
ИСТОРИЯ КАК НАРАСТАНИЕ ПАТРИАРХАТА
С учетом сделанных уточнений можно рассмотреть механизм трансформации гендера в обществах вдоль оси исторической синтагмы Премодерн–Модерн–Постмодерн. Этот процесс представляет собой поступательный рост патриархального начала. На всем протяжении истории общество становится все более и более мускулинистичным. Такое утверждение противоречит некоторым поверхностным наблюдениям за такими явлениями, как равенство полов, феминизм и т. д., а также традиционным аффирмациям консерваторов и традиционалистов, сетующих на феминизацию и демускулинизацию общества Модерна в сравнении с обществом традиции33. Чтобы рассеять недоумение, рассмотрим этот процесс подробнее.
Цепочка Премодерн–Модерн–Постмодерн в общем виде, как мы показали, представляет собой процесс развертывания и автономизации диурна и его структур, которые становятся все более и более самодовлеющими. На первом этапе героический миф выпрастывает из себя логос. Далее логос воплощается в логику. А логика, становясь автономной, превращается в рационализм, носителем которого становится отдельный индивидуум. Рациональный индивидуум в либеральной версии Модерна автономизируется в свою очередь, отрываясь от общей логики общества (коллективной рациональности), и организует новый порядок — порядок логистики, пока, наконец, в Постмодерне различающие антитезы не спустятся на еще более низкий подындивидуальный уровень, где логистика распыляется до уровня микрологистики — логемы.
Этот процесс может быть представлен как последовательная абсолютизация мускулиноидности, проникновения мускулиноидности во все социальные сферы, включая те, которые в традиционном обществе и в архаике были зарезервированы за подвергшейся экзорцизму женственностью.
Область мифа в чистом виде содержит в себе и мускулиноидные, и феминоидные элементы. При преобладании режима диурна миф начинает поляризоваться. Режим диурна развертывается в мускулиноидные структуры, организующие и упорядочивающие социум.
На этом этапе мускулиноидность понимается как стихия, пронизывающая общество, природу, религию вертикалью молнии. Мускулиноид мыслится как вселенская сила, как божество, как основа социальности и религиозности. Мускулиноид в «далеком» и «великом» там становится формой огромного человека (homo maximus), а в там «тайном» — фигурой бессмертного и вездесущего духа. Индуизм называет это «пуруша» — человек, мужчина, первогигант. В мистическом учении каббалы этой фигуре соответствует адам кадмон — древний адам, первочеловек и первомужчина. Мускулиноид мыслится как чистая вертикаль.
Становление мужчиной, то есть ассимиляция гендерных качеств в обществе и в религиозном развитии (а также в инициации), есть процесс поступательного сближения с этой фигурой, воплощение его отдельных качеств, а в исключительных случаях и его самого (в китайской традиции это называется идеалом «совершенного человека», а в индуизме — «аватарой», воплощением божества в человеческом облике). Мужчина в той степени, в какой он мужчина, и есть диурн, упорядочивающая вертикаль.
ЛОГОС КАК МУЖЧИНА
На уровне логоса, созданного именно этим мускулиноидным началом, данная стихийная вертикаль начинает кристаллизоваться в разуме. Разум противопоставляет себя неразумию, смутным влечениям, слабо структурированному голосу мифоса. Это противостояние вполне может быть рассмотрено в терминах гендера: мужской логос противопоставляет себя женскому мифосу. Мы неоднократно подчеркивали, что далеко не весь диурн переходит в логос, но, тем не менее, общая тенденция может быть выявлена достаточно четко: логос становится выражением мускулиноидности во всех культурах без исключения. Логос — это мужчина.
Соответственно, рационализация социальных систем только усугубляет патриархальное начало на всех периодах и во всех типах общества, где это имеет место. Апелляция к логосу есть апелляция к патриархату. И наоборот, там, где мы видим недостаток логоса, ускользание от него или игру на отступлении от логических правил (риторика), там мы имеем дело с феминоидными процессами.
Чем больше в обществе логоса, тем более оно патриархально. Это ясно видно в переходе от политеистических культур к монотеистическим. В обоих случаях социально и религиозно в них доминирует фигура мускулиноида. Боги ясного неба, культ мужчин в семье и в политике равно присущи как языческим, так и монотеистическим обществам. Но язычество (где логоса меньше) оставляет место в культуре и религии, и женскому началу — феминоидности. И хотя патриархальный воинственный мускулиноидный Рим с брезгливостью относится к «галлусам», напудренным и надушенным кастрированным жрецам Кибелы, Великой Матери, он их терпит. Христианство или ислам действуют более радикально — женские культы, женское жречество устраняются вовсе; монотеистический Бог — всегда отец, pater, то есть абсолютный и бескомпромиссный мускулиноид.
ПАТРИАРХАТ БУРЖУАЗНОГО СТРОЯ
При переходе к Модерну патриархальность социума возрастает еще в большей степени. Буржуазия строит свою собственную идеологию на нормативном типе взрослого состоятельного и рационального мужчины, который становится образцовой ячейкой гражданского общества. По сравнению с христианским Средневековьем, где во главе стоял логос, отныне начинает доминировать логика, рациональность, распространенная на широкие социальные институты — на область права, государства, политики, экономики, техники. Именно мужская рациональность ложится в основу политических, социальных и правовых основ капиталистического общества. Это общество строится на жестком исключении и подавлении женщин, которые — особенно в протестантской морали — рассматриваются как существа «нечистые», «неразумные» и лишенные нравственных и упорядочивающих начал, необходимых для предпринимательства и здоровой организации общества.
Капитализм в этом смысле в полной мере наследует мускулиноидную инерцию диурна, но переносит дифференцирующий принцип героического мифа на нового субъекта. Субъектом выступает более не героическое вертикальное измерение мира (молния, огонь, высота, как в архаических обществах), не персонифицированный Бог-Логос (как в монотеизме), но коллективная конструкция, общество в целом, организованное на логических основаниях. Маскулинное начало тем самым и усиливается, становится более тотальным и всеобъемлющим, и рассредоточивается, распыляется, а следовательно, в чем-то ослабевает. Экстенсивный вектор расширяющейся патриархальности несет в себе вместе с тем снижение концентрации мускулиноидности в отдельных институтах и личностях — в отличие от сословного строя, где это начало концентрировалось в сословиях жрецов (клира, отвечавшего за Небесный Логос и контакты с ним) и воинов (сохранивших воинственный героический дух в чистом виде). Буржуазия расширяла патриархат, но вместе с тем ослабляла его мифологические свойства. В этом проявляются последовательность рождения логоса из диурнического мифа и последующая оппозиция логоса мифосу в целом.
Мишель Фуко в своей книге «История безумия в классическую эпоху»34 так описывает новые формы буржуазного патриархата, силой навязывающего нормативы мужской рациональности с помощью тюрем, клиник и изоляторов:
«В стенах изоляторов заключено, так сказать, негативное начало того государства нравственности, о котором начинает грезить буржуазное сознание в XVII в., — государства, уготованного для тех, кто с самого начала не желает подчиняться правилам игры, государства, где право воцаряется не иначе, нежели с помощью неумолимой силы; где при верховенстве добра торжествует одна лишь угроза; где добродетель настолько ценна сама по себе, что не получает в награду ничего, кроме отсутствия наказания. Под сенью буржуазного государства возникает странная республика добра, в которую силой переселяют тех, кто заподозрен в принадлежности к миру зла. Это изнанка великой мечты буржуазии в классическую эпоху, предмета великих ее забот: слияния воедино законов Государства и законов сердца».
При этом сексуальность, отождествленная с женщиной, не просто попадает в разряд греха, как в Средневековье, но рассматривается как патология, разновидность безумия, анормальности и требует лечения. Лечение же, по Фуко, в Новое время, и особенно лечение психических заболеваний, отождествлялось с наказанием. Так, в секулярную сферу капитализма постепенно переходило протестантское учение о предестинации и воздаянии за грехи в земной жизни. Женщина, бедняк, безумный и безработный мыслились как проклятые и с точки зрения Реформации, и с точки зрения последующей за ней протестантской этики, ставшей после секуляризации и отказа от протестантской теологии основой капитализма — скелетом его логики.
Переход от Средневековья к Реформации и Просвещению сопровождался не улучшением, но ухудшением положения женщин в обществе.
Буржуазная мужская рациональность тяготела к тому, чтобы превратиться в общеобязательный норматив, тем самым женская психология, женский социальный гендер подвергались не просто экзорцизму, как ранее, но в публичной сфере отвергались вовсе как нерациональное, сентиментальное, аффективное начало.
Буржуазное общество несло в себе окончательную десакрализацию, «расколдовывание мира», а это значит, что пространства для мифа больше не оставалось вообще, а единственным, через что феминоидное начало могло ранее заявить о себе, был именно миф и связанный с ним культ. В монотеизме это мифологическое начало резко сократилось в объеме, в секулярном капитализме — исчезло окончательно. Если диурн имеет в себе логосные и нелогосные (чисто мифологические) аспекты, то феминоид состоит только из нелогосных элементов, то есть целиком и полностью принадлежит мифу. Вместе с расколдовыванием мира произошла и его дефеминизация.
Это можно спроецировать на уровень риторики. Риторические тропы, которые мы соотносили с ноктюрном, — эвфемизм, антифраза, литота, метонимия, метафора, катахреза, синекдоха, гипотипоз, гипербат, эналлага, антилогия и т. д. — суть выражения волшебства, инструменты очарования и околдовывания и одновременно образы фантастического мира, где все не так, как в мире обыденном (логос-логика) и где невозможное становится возможным (как растворяются границы вещей под покровом ночи). Расколдовывание мира в капитализме означает изгнание из него женщины.
ФЕМИНИЗМ КАК ФОРМА ПАТРИАРХАТА
Еще одним шагом к усилению патриархата Модерна был, каким бы странным это ни показалось, суфражизм, то есть политическое движение женщин за предоставление им равных избирательных прав наряду с мужчинами. Одной из активисток этого направления была Мари Дерезм35, первая женщина, удостоившаяся посвящения в масонскую ложу (куда раньше женщин категорически не пускали) и создавшая позже специальную ложу для женщин — ложу Прав Человека, по-французски «Droits de l'homme» (дословно — «права мужчины»). Это не игра слов. Суфражизм и феминизм представляют собой движение за то, чтобы приравнять женский гендер к мужскому, то есть в основе феминизма лежит полное и окончательное признание превосходства патриархата и требование распространить принципы патриархата на все общество, включая «анатомических женщин». Мы видели, что гендер есть явление социальное, поэтому феминизм и борьба за права женщин в мужском обществе есть борьба за маскулинизацию «анатомических женщин», то есть за превращение их в социальных мужчин. Феминистки не требуют признания социального значения феминоидности и построения специальных социальных институтов, ориентированных на женский гендер. Они никогда даже не думали об открытии, например, храма Великой Матери (пусть небольшого) где-нибудь на окраине индустриальных столиц Европы — Парижа или Амстердама. Феминистки требуют равенства с мужчинами на основании мужских критериев и в мужском обществе, построенном на мужских законах, то есть стремятся укрепить патриархат еще больше, сделать его не просто преобладающим, но тотальным. Феминизм настаивает на том, что женщина может быть полноценной частью логического рационального целого — капиталистического общества, — что означает, что она считает себя мужчиной. Собственно женщиной делают женщину структура социальной роли и специфика организации души, и в обоих случаях это есть отсылка к ноктюрническим мифам, к феминоидности как гибкой антитезе мускулиноидности и всем формам диурна (включая логос, логику и т. д.). Отказ от феминоидности и ингерентных ей оппозиций и границ, а также идентификаций с ноктюрническим мифом делает женщину «больше не женщиной», а на практике — через систему адаптаций и имитаций мускулиноидных социальных паттернов — «мужчиной».
Не случайно среди активных феминисток столько мужеподобных личностей — бизнес-леди, «синих чулков», в психотипе и поведении которых легко обнаружить трансгендерную патологию.
В движении феминизма в последнее время появляются новые нотки, но это мы рассмотрим несколько позже, так как в данном случае речь идет о переходе к Постмодерну. В рамках Модерна патриархат только нарастает, пока не достигает своего пика.
ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЙ СОЦИУМ
Переход от ранней буржуазной логики к либеральной логистике на пике Модерна еще более усиливает мускулиноидность. В этот период (середина ХХ века) она приобретает еще одно выражение — движение за равноправие сексуальных меньшинств, в частности за легализацию педерастии и даже за браки между мужчинами. Патриархат, становясь тотальным, подводит к обществу, состоящему теоретически только из одних мужчин, которые имитируют гендеры, симулируют семьи и другие формы прежних гендерно-социальных институтов. В обществе повально распространенного гомосексуализма постепенно нормативом становится пара мужчина–мужчина, и если на первом этапе пассивные педерасты хотят быть похожими на женщин — одеваются в женское платье, подражают женским жестам и т. д., — то постепенно сами женщины начинают подражать пассивным педерастам, имитируя их первертные повадки и ужимки. В этом можно усмотреть финальный этап патриархата, когда мускулиноид окончательно вытесняет собой женщин из социальной сферы, порождая гомосексуальный социум. Кстати, к этой же категории относится и стиль метросексуалов, когда гетеросексуальные мужчины начинают имитировать гомосексуалистов, одеваться как они, вести себя соответствующим образом и использовать характерные жесты, оставаясь «натуралами».
В таком обществе детородные функции женщины постепенно сводятся к минимуму, что сказывается на демографии и числе одиноких людей, отказывающихся заводить семью.
МЕНЕДЖЕР КАК МУЖЧИНА ― ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ГЕНДЕР
Рассмотрим гендерную проблему в оптике трех идеологий Модерна. Либерализм, в рамках которого происходит переход от логики (раннее буржуазное общество и классический Модерн) к логистике (поздний Модерн), является совершенно мускулиноидным и выдвигает в качестве норматива тип активного и жесткого предпринимателя, изобретательного, экспансивного, агрессивного. В художественных образах «объективистской» философии либералки Айн Рэнд36 менеджер, борющийся с «социалистами» и «правительством, попавшим под власть бедных» и занимающийся организацией производства, его оптимизацией и извлечением прибыли, описан как античный герой, бьющийся с монстрами и чудовищами. Только теперь в качестве монстров выступают «ленивые наемные рабочие», «представители профсоюзов», «демагоги из рабочего движения». В борьбе менеджеров против «ленивых рабочих» (описанных как феминоидный тип) менеджерам помогают диурнические женщины, бизнес-леди с ярко выраженным мужским, садистическим началом — с развитым умом, логистикой и субъектностью. В работах Айн Рэнд при всей утрированности тем вскрывается самое главное свойство отношения либерализма к гендеру — либерализм жестко ориентирован на мускулиноидность в духе диурнического архетипа и на подавление и минимализацию всего женского, пассивного, эвфемистического.
Такими, по меньшей мере, являются классический либерализм и в значительной степени неолиберализм ХХ века (Ф.А. фон Хайек, К. Поппер, фон Мизес, М. Фридман и т. д.), стремившиеся вернуться к «чистоте» либерализма в его истоках — к эпохе Адама Смита и ее аксиоматическим нормативам. Для неолибералов важно очистить современный либерализм от всех элементов левого, социал-демократического дискурса, которые к нему примешались в течение XIX–ХХ веков, когда либералы и социалисты боролись против общего врага — консерватизма, феодализма, монархизма, позже фашизма.
СНЫ ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ
Гендерная проблема в коммунизме решалась более сложно. Изначальный коммунизм в утопической фазе предполагал, что при победе коммунистической формации будет установлена общность жен, различия между полами будут стерты, дети будут воспитываться в коллективе, пока не наступит эра того промискуитета, который эволюционисты помещали в начало социальной истории (туда же, куда Маркс — пещерный коммунизм).
Стирание различий между полами, согласно коммунистической теории, не должно было означать приравнивания женщин к мужчинам. По мысли коммунистов, пол должен был стать несущественной акциденцией социально сознательных граждан и женщины должны были осваивать мужские профессии наряду с тем, что мужчины должны были осваивать женские. Семья признавалась пережитком буржуазной морали, и новая коммунистическая мораль предполагала полную свободу сексуального поведения. Так, в программном романе революционного демократа Чернышевского (1828–1889) «Что делать?»37 в благожелательных тонах описывается полиандрия, сожительство главной героини Веры Павловны сразу с двумя мужчинами.
Будучи направленным против капитализма, марксизм покушался и на либеральный патриархат. После Октябрьской революции 1917 года большевики попытались на практике разрушить любой порядок в гендерных отношениях, что критиковал Ленин (1870–1924) в разговоре с Кларой Цеткин (1857–1933). При этом показательно, что критика «теории стакана воды», приравнивающей половые отношения к ничего не значащему физиологическому акту, у Ленина строится на чисто гигиеническом основании. Цеткин передает слова Ленина, освещающего этот вопрос: «...мне так называемая „новая половая жизнь” молодежи — а часто и взрослых — довольно часто кажется разновидностью доброго буржуазного дома терпимости. <...> Вы, конечно, знаете знаменитую теорию о том, будто бы в коммунистическом обществе удовлетворить половые стремления и любовную потребность так же просто и незначительно, как выпить стакан воды. От этой „теории стакана воды” наша молодежь взбесилась, прямо взбесилась. <…> Конечно, жажда требует удовлетворения. Но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, край которого захватан десятками губ?»38
Ленина, как мы видим, волнует антисанитария промискуитета и то, что эротические отношения отвлекают пролетариат от революционного труда. Ленин добавляет: «Сейчас все мысли работниц должны быть направлены на пролетарскую революцию, нельзя допускать никакого расточения и уничтожения сил»39.
В любом случае, эпоха коммунистической «крылатой» и «бескрылой» эротики40, по выражению А. Коллонтай (1872–1952), быстро завершилась, и к 1930-м годам, в сталинский период, гендерные отношения вернулись к докоммунистическим стандартам: семья, брак, соблюдение классических для Модерна норм половой морали полностью заместили собой революционные эксперименты. Хотя в правовом смысле равноправие женщин в СССР было признано и утверждено на всех уровнях, на практике в руководящих органах преобладание мужчин над женщинами сохранялось приблизительно в таких же пропорциях, что и в либерально-капиталистической системе. Только вместо «бизнес-леди» в СССР часто встречался тип женщин-руководительниц — партийных или хозяйственных — с теми же мускулиноидными чертами.
Ранние коммунистические идеи промискуитета и преодоления пола с новой силой стали разрабатываться в философии новых левых в рамках фрейдо-марксизма. Параллельно шло развитие идей феминизма нового толка, настаивающего на искоренения пола вообще (Донна Харауэй) и замещения его бесполым киборгом. Но это имеет отношение к теме гендера в Постмодерне, к чему мы обратимся чуть позже. В рамках коммунистической идеологии периода Модерна мы фиксируем три парадигмы:
• «утопический» проект общности жен41, отчасти реализовавшийся в революционных условиях и в годы военного коммунизма, но позже отброшенный (или по меньшей мере отложенный на неопределенный срок);
• фактическое и правовое уравнивание женщин с мужчинами на основе патриархального паттерна в социалистических обществах (что в целом повторяет парадигму обществ либеральных);
• проект полного преодоления пола в неомарксизме и киберфеминизме.
ГЕНДЕР В ФАШИЗМЕ
Социальные модели фашизма довольно разнились в Италии и Германии. Все разновидности фашистской и нацистской идеологии воспевали мужское начало, мускулиноидность, отвергали гендерное равенство в обществе и настаивали на подчиненной роли женщин в обществе. В этом смысле фашистские теории по факту в целом совпадали с общей ориентацией либеральных обществ, а также с социальной практикой обществ социалистических (СССР). Но жесткая и доктринальная ориентация на патриархат в фашистской Италии не изменила пропорций участия женщин в публичной жизни, свойственных дофашистской Италии, а в Германии, как это ни парадоксально, «нордизм» привел к расцвету особой формы феминизма. Во-первых, нацисты активно поощряли мускулиноидный тип в женщинах, которым доверялись высокие посты и ответственные задачи в управлении страной. А во-вторых, предоставление женщинам свободы и права полноценной реализации в рамках феминоидных сегментов общества — что воспроизводило до некоторой степени социальные условия гендера в Премодерне — соответствовало тем направлениям в феминизме, которые стремились не к равенству с мужчинами, но к открытию самобытного смысла и значения гендера.
Кроме того, в Третьем рейхе широкое распространение получила идея нордического матриархата, развивавшаяся последователем Бахофена профессором Германом Виртом (1885–1991), который утверждал, что протоиндоевропейская культура развертывалась вокруг фигуры женщины-жрицы, «белой Госпожи» (weisse Frau — weise Frau, «белая женщина — мудрая женщина» — нем.), и что воинственный индоевропейский патриархат был влиянием чужеродных «азиатских» элементов, исказивших изначальную «культуру круга Туле» с женским жречеством и сакральным руническим календарем, отражающим природные и временные явления арктических областей42.
Официальная позиция национал-социализма в вопросе гендера варьировалась между мускулиноидным воинственным патриархатом и «нордическим матриархатом». Однажды в этой связи СС провели специальную экспертизу текстов итальянского философа Юлиуса Эволы, защищавшего олимпийскую вирильность, на предмет их соответствия учениям национал-социализма. В результате занимавшийся этим делом по просьбе рейхсфюрера СС Гиммлера (1900–1945) нацистский мистик Карл-Мария Вилигут (1886–1946) пришел к выводу, что идеи Эволы «не соответствуют нацизму и принижают роль арийских женщин в нордической культуре».
ГЕНДЕР В ПОСТМОДЕРНЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ СВЯЗАН С ЛИБЕРАЛИЗМОМ
Гендерные идеи фашизма во второй половине ХХ века утратили всякую актуальность вместе с крахом фашистских режимов в Италии и Германии. СССР во второй половине своего существования в гендерном вопросе не особенно отличался от либеральных обществ — с той лишь разницей, что моральные нормы и семейные ценности в СССР были более консервативны и соблюдались более жестко — с моральным осуждением и определенным политическим и административным давлением на тех, кто ими пренебрегал. Параллельно этому в западном марксизме и фрейдомарксизме развивались радикальные идеи преодоления пола, которые несколько позже органично вошли в Постмодерн. Но нормативной средой для формирования Постмодерна стал именно либерализм в его западном — американо-европейском — выражении. Поэтому гендерная проблематика Постмодерна имеет прямую и магистральную филиацию с либеральной идеологией и тем направлением Модерна, который связан с буржуазно-демократическим обществом и его особенностями.
Только либерализм подошел вплотную к Постмодерну, создал для него все предпосылки и экстраполировал инерцию своего развития на сам Постмодерн, отчасти перейдя в него, но отчасти оставшись в Модерне. Этот переход надо рассмотреть особо, так как в вопросе гендера он имеет большое значение.
ПОСТМОДЕРН И ЛОГЕМА
При переходе к Постмодерну в истории гендера мы сталкиваемся с парадоксальным явлением, которое можно проследить на всех остальных уровнях философии и социологии Постмодерна. Победа либерализма и заложенных в нем социальных установок именно в тот момент, когда она становится полной, мгновенно оказывается двусмысленной и эфемерной, а сам либерализм фундаментально меняет свое качество. То же самое можно сказать и о Модерне: реализовав свой потенциал в максимальной степени и решив поставленные задачи, в миг наивысшего триумфа он обнаруживает свою недостаточность и начинает трансформироваться в Постмодерн43. В Модерне патриархат торжествует, но это полное и неопровержимое торжество длится ровно одно мгновение, практически немедленно превращаясь в нечто иное.
Чтобы проследить эту гендерную трансформацию в Постмодерне, необходимо ввести новое понятие (подробно рассмотренное нами в следующем разделе) — логема.
Логема — это самый дальний «родственник» логоса. Логема представляет собой перенос антитетического, различающего начала с индивидуального на субиндивидуальный уровень — уровень, дальней границей которого являются поверхность человеческого тела и прилегающие к ней вплотную (или почти вплотную) предметы — одежда, пища, кровать, стул, стол, очки, экран телевизора или компьютера и т. д. Логема патриархальна и стремится навести порядок в хаосе потока ощущений, декодирует этот хаос, выстраивает из него порядок. Но, в отличие от логоса (а также логики и логистики), этот порядок логемы имеет локальный и эмерджентный характер, развертывается в микропространстве и опирается не на социальное, но на индивидуальное. Диурн создает социум (патриархальный изначально и всегда). Созданный диурном социум с превращением диурна в логос меняет свои свойства, но остается социумом. Когда логос трансформируется в логику, параметры социальности меняются, но сама социальность остается (это Модерн), а патриархальность становится рассредоточенной по всей социальной системе. На последних стадиях Модерна начинают доминировать либерализм и логистика — общество сегментируется на экономические сферы, каждая из которых основана на доминации мужского упорядочивающего начала, но уже на локальном (в сравнении с социальным целым) уровне. Отсюда антисоциальность и стремление к умалению государственного вмешательства, составляющие суть либерализма. Но и здесь мускулиноидность доминирует — теперь как мускулиноидность менеджера.
На этой черте Модерн исчерпывает свой мужской потенциал. За этой чертой логистика превращается к логему, а масштаб социальной сферы применения мужского начала сужается до индивидуальной и субиндивидуальной сфер. Упорядочивающее насилие, заложенное в основе мускулиноидности, теряет социальное измерение и превращается в насилие в рамках микросистемы — индивидуума. Социальное измерение испаряется, и на его месте возникает новая система, центрированная на логеме. Логема тоже разделяет и насилует, борется и дробит, укрепляет себя и расчленяет «не себя», поэтому логема патриархальна. Но вместе с тем логема действует в таком микроскопическом объеме и с такой слабой интенсивностью, что ее качественная связь с диурном становится бесконечно малой. Логемы также отклоняются от закономерностей социума (человеческой мезозоны), как в квантовой механике корректируются законы ньютоновской Вселенной.
Логема в Постмодерне становится тотальной и распространяется на всех, включая женщин, детей, инвалидов (в том числе и психических), пожилых и выживших из ума людей и т. д., — в этом состоит окончательный аккорд патриархата, — но вместе с тем мускулиноидность качественно ослабевает до такой степени, что становится почти не отличимой от своей гендерной противоположности.
МУЖЧИНА-КОМПЬЮТЕР И ИНФЕМЫ
Логемный эрос приобретает отчетливо механический и виртуальный характер, сводится к аффективному или физиологическому точечному массажу, осуществляемому с помощью:
- обмена инфемами (микроскопическими квантами информации, не интегрируемыми в большие интерпретационные системы и представляющими собой обрывки сообщений — часто лингвистически искореженных — со смутным намеком на флирт или кокетство);
- зрительных образов сетевой порнографии;
- виртуальных сенсорных приборов;
- посредством других тел в офлайне (что в Постмодерне становится все более и более редким).
Если на первых этапах эротической симуляции виртуальная эротика воспроизводила образы эротики реальной, то постепенно именно виртуальность становится нормативом, который аффектирует эротические протоколы в офлайне. Во всем доминирует мускулиноидный паттерн, раздробленный до микроуровня и механического воспроизводства. Эротические чат и SMS-сообщения рассылают компьютерные программы и получают (считывают) тоже компьютерные программы; соединение (connect) двух компьютеров и даже простой факт подключения к сети парадигмально конституируют гендерные отношения в Постмодерне. Компьютер — это одна из разновидностей логемы, и код 1–0, на котором основаны все компьютерные операции, — это постмодернистское издание мужчины–женщины, то есть базовой гендерной пары. Эрос становится дигитальным на всех уровнях и поэтому всепроникающим и совершенно стерильным.
Для логики компьютер не нужен, наоборот, специалисты в логике разрабатывают компьютеры и программы для них. Для осуществления логистических операций компьютер чрезвычайно полезен и даже в некоторых аспектах необходим, то есть постепенно становится важной инстанцией — на равных с человеческим оператором (синергия). Логема человека в Постмодерне рассматривает компьютер как образец, как систему для подражания. При переходе к сетевым аггломератам компьютеров логема становится бесконечно малым элементом этой сети, а развитие системы сенсорно-нервных тактильных приборов в самое ближайшее время сделает сеть и киберпространство полноценной средой обитания (киберсреда).
Здесь следует заметить одну важнейшую деталь: компьютер — это мужчина (мускулиноид). Мускулиноидная диурническая структура организована на принципе антитезы, разделения, а логос и логика переводят эту диурническую антитетичность в дуальный код. Пара 1–0 — это минималистическое выражение героического мифа. Компьютер-мужчина становится парадигмой для мужчин и женщин Постмодерна. Моделирование корректной эмуляции сенсорных ощущений в развитии киберкоммуникаций поставит в этом вопросе полный знак равенства.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПАТРИАРХАТ
Если посмотреть на структуру социальности, мы видим, какой мощью обладал концентрированный диурн в развитии социальных структур и в частности — в подавлении или экзорцизме женского начала. Постепенно эта мощь переходила от интенсивного и вертикального состояния в экстенсивное и горизонтальное, становясь все менее эксклюзивной и более всеобщей, пока не рассеялась до микростатуса логем. Компьютер-мужчина так же подавляет, «надзирает и наказывает», как мужчина-герой (в частности, дигитальные технологии подавляют шумы — те моменты информации, которые пребывают в промежуточном пространстве между 1 и 0, между звуком и тишиной, между полутонами в музыке и т. д.), но только в иной размерности.
На микроуровне патриархат, таким образом, сохраняется и даже нарастает, так как в него включаются элементы, ранее никак не относимые к мускулиноидности, — дети и сумасшедшие, не говоря уже о женщинах, которым равные избирательные права (то есть статус гражданских мужчин, «права мужчин» — droits de l'homme) дали еще в Модерне. Но уровень реализуемого насилия и масштабность упорядочивания хаоса при этом все время умаляются, все более напоминая объем «человеческих» (то есть мужских) свойств, которые в традиционных обществах и даже на ранних уровнях Модерна были отнесены к области женской компетенции — организацию и упорядочивание малых предметов ближнего хозяйственного окружения.
ИЛЛЮЗИЯ МАТРИАРХАЛЬНОСТИ В ПОСТМОДЕРНЕ И ЕЕ ОСНОВАНИЯ
Ранее отмечалось, что гендерная оппозиция мужчина–женщина не являлась (особенно в традиционном обществе) абсолютной: и перед лицом подчеловеческих явлений (домашних животных, предметов и т. д.), и в локальном масштабе женщина легитимно выполняла мужские, упорядочивающие функции — распоряжалась детьми, скотом, домашними животными, в некоторых случаях — челядью и рабами, имея определенную и варьирующуюся в разных обществах степень свободы для применения оправданного и легитимного насилия (как минимум право пнуть кота, отшлепать ребенка, дать оплеуху нерадивой прислуге, отстегать вытоптавшего огород козла или зарезать курицу). Это «малое женское (на самом деле мужское) насилие» бледнело по сравнению с тем, что регулярно осуществляли мужья, воины племени, просто «мужики», и поэтому вполне могло быть причислено (по контрасту) к миролюбию и нежности. Но экстерминация «большого насилия» (масштабного и интенсивного мужского стиля) и борьба логоса и его производных против мифологического диурна постепенно привели к тому, что женский масштаб упорядочивающего и организующего действия стал потолком реализации маскулинности. Сама логистика и оптимизация хозяйства напоминает именно женский труд по наведению порядка в доме, во дворе, огороде или кухне — со всеми интендантскими и снабженческими проблемами, которые постоянно приходится решать в изменяющихся условиях. Логема же — это усилие и порядок, представляющие собой высший горизонт ленивой, праздной и нерадивой женщины.
На основании наблюдений за такой двойной симметрией некоторые ученые, в частности Юлиус Эвола44, выстроили гипотезу о матриархате Модерна. Для них был важен интенсивно героический мускулиноид в его мифологическом качестве, и отступление от этой интенсивной вирильности, мужественности, описывалось ими как движение в сторону матриархата, которое достигает своей кульминации в Модерне. Феминизм — раскрепощение женщин и получение ими равных прав с мужчинами — представляется в такой перспективе «доказательством» основного тезиса.
Измельчание диурна и логоса действительно дает некоторые феноменологические основания для подобной интерпретации гендерного процесса по линии Премодерн–Модерн–Постмодерн. Более того, качественное изменение модели мужского контроля от логоса к логеме открывает для феминоидных проявлений все больше лазеек, и хотя на формальном уровне социальных процессов эти проявления не учитываются в полной мере, они исподволь завоевывают себе все больше пространства.
Это проявляется в постепенном снятии табу с двух явлений, составляющих суть феминоидности, — эротики и питания. В архаическом обществе и то и другое обставляется множеством обрядов экзорцизма, прежде чем быть допущенным в социальную сферу. Кроме того, они носят чаще всего интимный, закрытый характер, ограниченный рамками дома, жилища, семьи. Публичность они приобретают только в строго определенные моменты обрядовых оргий и пиршеств, имеющих символическое значение обращения к хаосу для последующего обновления порядка.
В логоцентричных культурах (монотеизм) оргии и пиры либо отрицаются вовсе, либо делегитимизируются и маргинализируются. В пуританском буржуазном общество это табу сохраняется и только усиливается. И лишь в зрелом Модерне на пороге Постмодерна происходит перелом, и эротика и питание вырываются из области приватного или маргинального и вторгаются в публичную сферу. Это Эвола и интерпретировал как «явный признак матриархата». Действительно, только в Постмодерне можно среди бела дня в людном месте увидеть гигантский рекламный плакат с полуобнаженной девицей, рекламирующей гамбургер или чизбургер, то есть феминоидный культ «материнского» питания и женской плоти перемещается в зону дозволенного и социального. Также все более гибкими становятся нормативы публичной демонстрации эротических отношений, и постепенно элементы порнографии появляются в журналах, литературе, кинематографе, театре мэйнстримного направления.
При всем этом говорить о матриархате в данной ситуации все же совершенно некорректно, так как, во-первых, социальность, основанная на феминоидности как структурообразующем элементе, вообще невозможна, а во-вторых, проникновение феминоидных свойств в публичную культуру не отражается в правовом и государственном устройстве, даже несмотря на избрание порнозвезд или спортсменок легкого поведения в парламенты некоторых стран (в частности, Италии и России). В парламенте порнозвезды или спортсменки ведут себя как мужчины, только довольно глупые. Кроме того, вторжение феминоидности в дневную культуру организовано в соответствии с заказом мужской эротики — как объект потребления (женщины или пищи). Мать дает пищу, кормит; женщина видит мужчину как другого — вот такой субъектной феминоидности в культуре Постмодерна практически нет; продукты питания и женская плоть представлены как объект, как освобожденное вожделение опустившегося мужского начала, похотливого, эгоистического, хищного, агрессивного, алчного и избавившегося от стыда.
Намного корректнее описать проявление открытого вторжения феминоидности как спонтанный подъем ноктюрнических мифем, которые не сдерживаются более дисперсной мужской (компьютерной) логемой и вырываются на поверхность, разъедая еще больше и без того распадающуюся социальную ткань. Это явление есть, но это не матриархат. Говорить в этом случае о «диссолюции» (растворении), как делает тот же Эвола в других работах45, с социологической точки зрения намного точнее.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГЕНДЕРА
Продлевая траекторию трансформаций гендера от Модерна к Постмодерну, следует ожидать постепенного отказа от гендера в духе коммунистического преодоления пола или киберпанк-проектов ультрарадикальных феминисток (типа Донны Харауэй46). Логема или компьютер-мужчина практически исчерпывают порядкообразующую мускулиноидность диурна и не могут сдержать ноктюрнических мифем, поднимающихся на поверхность. Однако ноктюрн сам по себе не конституирует гендер, требующий контраста и четкого наличия диурнического начала. Оба пола появляются только вместе, и даже андрогинное преодоление пола сохраняет — по крайней мере в семье — гендерную реализацию по траектории каждого гендера, взятого отдельно.
Измельчание логемы и подъем ноктюрнического хаоса, если прогностически проследить развитие этих процессов в ближайшем будущем, приведут к растворению (диссолюции) гендера как социального явления, а анатомический пол — при свободе многократных трансгендерных операций и развития виртуальной эротики — потеряет смысл первичной (хотя и далеко не абсолютной, как мы видели) гендерной дифференциации. В результате мы получаем бесполого постчеловека, размножающегося клонированием наподобие раковой опухоли, воспроизводящей совершенно одинаковые и не нужные организму клетки злокачественной ткани (Ж. Бодрийяр47).
Контрольные вопросы
1. Каковы социологические основы патриархата?
2. Опишите трансформации гендерного кода в исторических типах обществ.
3. Что такое логема? Как она соотносится с мужским началом?
РЕЗЮМЕ
Подытожим основные положения данной главы.
1. Гендер есть пол, взятый как социальное явление. Анатомический пол относится к социальному полу как возможность к действительности или вероятность к фактическому положению дел. Мужчина и женщина становятся сами собой — то есть мужчиной и женщиной — только в обществе, в процессе гендерной социализации.
2. Пол есть социальный статус, частично врожденный, частично приобретаемый. Социальный пол можно изменить или утратить.
3. Социум построен на принципе симметричности и неравенства двух полов — мужского и женского. Мужской пол как гендер всегда означает социальное превосходство, доминацию, господство, управление, обладание, экспансию, вертикаль, публичность. Женский гендер — подчинение, согласие, исполнение, относительно объектный статус, горизонталь, приватность. Гендерное неравенство не историческая акциденция, но социообразующий закон, без которого общество невозможно. Гендер является фундаментальным инструментом неисчислимого множества социальных, культурных и религиозных таксономий.
4. В социальной и религиозной структуре зарезервирован социальный метод для преодоления гендерного дуализма — в форме андрогината, либо культового, либо семейного (таинство становления жены и мужа «плотью единой»).
5. Социальному гендеру соответствует гендер психоанализа. Полнее всего гендерные роли в структуре психики описаны и проанализированы в школе психологии глубин Карла Густава Юнга. Юнг утверждает, что Эго рассматривает бессознательное (само по себе бесполое, андрогинное) через фигуру души — anima/animus, — пол которой противоположен полу Эго. У мужского Эго душа женская (anima). У женского пола — мужская (animus). Женская и мужская фигуры могут выступать в трех архетипических возрастах, что характеризует общую психологическую структуру личности.
6. Жильбер Дюран дополняет классификацию Юнга концепциями двух режимов бессознательного — мужским диурном (мускулиноид) и женским ноктюрном (феминоид I, материнский, нутритивный, и феминоид II, эротический, копулятивный). Социальные и культурные типы могут иметь черты тех или иных мифологических структур с четко выделенной гендерной окраской.
7. Социум созидается из организации гендерных отношений в системе семьи, брака и обмена женщинами между родами. Обмен может быть ограниченным и обобщенным. В первом случае женщинами обмениваются только два рода. Во втором — три и более рода по установленной логике от A к B, от B к C, от C к D, от D к n, от n снова к A. Циркуляция женщин в обществе порождает социальную ткань и лежит в основе базовых социальных институтов. В семье мы встречаем все три типа основных социальных отношений (по П. Сорокину) — насильственные, договорные, родственные. Две семьи, обменивающиеся женщинами, представляют собой минимальный формат социума.
8. Любой социум представляет собой патриархат, гипотеза существования матриархата противоречит смыслу социальности как развертывания диурнических иерархических структур. Власть есть мужское начало, а мужское начало есть власть; это взаимозаменяемые понятия, поэтому кратос есть атрибут отцов.
9. В исторической синтагме Премодерн–Модерн–Постмодерн нарастает патриархат, переходя от диурна к логосу, логике, логистике и логеме, от вертикальности к горизонтальности и от эксклюзивной интенсивности к обобщенной экстенсивности. Феминизм и расширение политических прав и социальных полномочий женщин, подростков и умственно и физически неполноценных есть признак тотализации патриархата, а не его преодоления.
10. Три основные идеологии Модерна — либерализм, коммунизм и фашизм — имеют свои гендерные стратегии и типовые модели. На практике все они ведут к усилению патриархата, хотя либерализм формально декларирует равенство полов, коммунизм стремится к обобществлению жен и преодолению пола, а фашизм, начиная с открытого прославления мускулиноидности, заканчивает частичной реабилитацией феминоидных аспектов и активной интеграцией мускулиноидных женщин в систему власти.
11. В Постмодерне мужское начало становится одновременно тотальным и бессильным. Архетипом мужского начала выступает компьютер, оперирующий с мужской антитетичной парой — 1–0. Пролиферация логемы ведет к расширению объема виртуальной эротики и постепенному переходу только к ней. На поверхность выходит нецензурированный и не подвергшийся экзорцизму ноктюрн. Перспектива Постмодерна — упразднение гендера и дуального кода и переход к «недуальному» воспроизводству людей (методом клонирования, деления или искусственной конструкции киборгов).
1 «Прежде всего, люди были трех полов, а не двух, как ныне, — мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих; сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным, — андрогины, и из него видно, что они сочетали в себе вид и наименование обоих полов — мужского и женского. Кроме того, тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных частей две, а прочее можно представить себе по всему, что уже сказано. Передвигался такой человек либо прямо, во весь рост, так же, как мы теперь, но любой из двух сторон вперед, либо, если торопился, шел колесом, занося ноги вверх и перекатываясь на восьми конечностях, что позволяло ему быстро бежать вперед. А было этих полов три, и таковы они были потому, что мужской искони происходит от Солнца, женский — от Земли, а совмещавший оба этих — от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала. Что же касается шаровидности этих существ и их кругового передвижения, то и тут сказывалось сходство с их прародителями. Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов, и то, что Гомер говорит об Эфиальте и Оте, относится к ним: это они пытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть на богов». «Пир», цит. по: Платон. Сочинения: В 4 т. М., 1994. Т. 2.
2 Элиаде М. Мефистофель и андрогин. СПб., 1998; Юнг К.Г. Психология и алхимия. М., 1998.
3 «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже... мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Исусе». Послание святого апостола Павла к Галатам (гл. 3, ст. 27-28-28).
4 Элиаде М. Шаманизм. Киев, 1998.
5 Элиаде М. Мефистофель и андрогин. Указ. соч.
6 Эвола Ю. Метафизика пола. М., 1996.
7 Элиаде М. Космическое обновление // Конец света / Под ред. А.Г. Дугина. М., 1998; Он же. Миф о вечном возвращении. М., 2000.
8 Эвола Ю. Метафизика пола. Указ. соч.
9 Генон Р. Символы священной науки. М., 1997.
10 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.
11 Дугин А. Постфилософия. Указ. соч.
12 Хейзинга Й. Homo Ludens: Опыт определения игрового элемента культуры. М., 1992.
13 Аристотель. Политика // Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1983. Т. 4.
14 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М., 2006.
15 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. Указ. соч.
16 Lévi-Strauss C. Les Structures élémentaires de la parenté. Paris: PUF, 1949; Idem. La Pensée sauvage. Paris, 1962.
17 Павлов А. Номоканон при большом требнике, изданный вместе с греческим подлинником, до сих пор неизвестным, и с примечаниями издателя / С.М. Горчаков // Журнал гражданского и уголовного права . СПб., 1873.
18 Фрейд З. Я и Оно. Л., 1924.
19 Фрейд З. Вопросы общества и происхождение религии. М., 2008.
20 Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1987; Он же. Душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996.
21 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 2009.
22 Юнг К.Г. Психология и алхимия. М., 1997.
23 Эразм Роттердамский. Похвала глупости. М., 1991.
24 Эвола Ю. Метафизика пола. Указ. соч.
25 Эвола Ю. Метафизика пола. Указ. соч.
26 Борхес Х.Л. Собр. соч.: В 4 т. СПб., 2006. Т. 1. См. также: Borges J.L. El idioma de los argentinos. Buenos Aires, 1928.
27 Слезкин Ю. Эра Меркурия. Евреи в современном мире. М., 2005.
28 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983; Он же. Путь масок. М., 2001; Он же. Мифологики. Человек голый. М., 2007.
29 Мосс М. Очерк о даре // Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М.: Восточная литература; РАН, 1996.
30 См.: Лоренц К. Агрессия. М.,1994; Он же. Оборотная сторона зеркала. М., 1998.
31 Bachofen J.J. DasMutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur. Stuttgart, 1861.
32 Очерки традиционной культуры казачеств России / Под общ. ред. проф. Н.И. Бондаря. М.: Краснодар, 2002. Т. 1. С. 21.
33 Эвола Ю. Метафизика пола. Указ. соч.; Idem. Rivolta contro il mondo moderno. Roma, 1969.
34 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997.
35 Deraism M. Eve dans l’humanité, articles et conférences de Maria Deraismes, Préface d’Yvette Roudy.Angoulême, 2008.
36 Рэнд А. Атлант расправил плечи. М., 2008.
37 Чернышевский Н.Г. Что делать? М., 1969.
38 Цеткин К. Ленин и освобождение женщины. М., 1925; Она же. Женский вопрос. Гомель, 1925.
39 Цеткин К. Ленин и освобождение женщины. Указ. соч.
40 Коллонтай А.М. Дорогу крылатому Эросу! (Письмо к трудящейся молодежи) // Молодая гвардия. 1923. № 3.
41 Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте» пишут: «Коммунизму не нужно вводить общность жен, она почти всегда существовала. <…> В действительности буржуазный брак является общностью жен. Коммунистов можно было бы упрекнуть разве лишь в том, что они хотят поставить официальную, открытую общность жен на место лицемерно скрываемой» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.; Л., 1929–1931. Т. V). Цитата свидетельствует о том, что коммунисты открыто признают общность жен.
42 Wirth H. Der Aufgang der Menschheit. Jena, 1928; Idem. Die Heilige Urschrift der Menschheit. Leipzig, 1936. См. также: Дугин А. Знаки великого норда. М., 2008.
43 Дугин А. Постфилософия. М., 2009.
44 Эвола Ю. Метафизика пола. Указ. соч.
45 Эвола Ю. Оседлать тигра. СПб., 2005.
46 Haraway D. A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century. 1985.
47 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2006.
РАЗДЕЛ 11
ПОСТОБЩЕСТВО
ГЛАВА 11.1
СОЦИОЛОГИЯ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА
ВТОРОЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД
Постмодерн — это та парадигма, к которой в данный момент осуществляется переход от предыдущей парадигмы — Модерна. Переход происходит на наших глазах, поэтому актуальное общество (по крайней мере западное, но также и планетарное, в той мере, в какой на него распространяется западное влияние) есть общество переходное. Переходным в широком смысле является не только российское общество: та социальная матрица, которая в той или иной степени определяет жизнь человечества, сегодня также меняет свою качественную природу.
Этот переход (транзиция) происходит строго от Модерна к Постмодерну. При этом некоторые принципы Модерна уже отброшены, развенчаны, демонтированы, а некоторые еще остаются на месте. Параллельно этому определенные элементы парадигмы Постмодерна уже активно и повсеместно внедрены, а другие остаются в стадии проекта, «на подходе». Эта переходность осложняет корректный социологический анализ Постмодерна, так как наблюдаемая сегодня общая социальная картина представляет собой, как правило, комбинацию из частей уходящего Модерна и приходящего Постмодерна. При этом данный процесс идет не фронтально и равномерно, а варьируется от общества к обществу.
НЕОБХОДИМОСТЬ ЧЕТКОГО ПОНИМАНИЯ СТРУКТУРЫ ТРЕХ ПАРАДИГМ
В любом случае для того, чтобы анализировать с социологической точки зрения содержание общества Постмодерна, то есть для того, чтобы быть компетентным социологом XXI века, абсолютно необходимо оперировать с массивами социологических знаний в отношении всех трех парадигм — Премодерна, Модерна и Постмодерна, знать их ключевые моменты, понимать общую структуру соответствующих обществ, уметь реконструировать главные полюса, страты, статусы и роли каждого типа обществ. Это необходимо по следующим причинам.
1. Фазовый переход к Постмодерну затрагивает самые глубинные основы общества, включая те, которые, казалось бы, давно разъяснены и даже преодолены в Модерне. Смысл постмодернистской философии в том, чтобы доказать недостаточность и обратимость такого «преодоления». Постмодерн утверждает: «Общество Модерна не справилось со своей повесткой дня и не смогло полностью вытравить из себя Премодерн». Чтобы понять этот тезис, центральный для социологической и философской программы Постмодерна, следует заново и самым серьезным образом вдуматься: что же такое Премодерн?
2. Социальные структуры, которые подлежат радикальной трансформации в Постмодерне, закладывались отнюдь не на предыдущей исторической стадии: они представляют собой глубинные социологические, антропологические, психоаналитические и философские константы, которые оставались неизменными на всем протяжении истории и ярче всего проявляются в архаических обществах, исследованных под новым углом зрения структурализмом ХХ века. Это означает, что Постмодерн оперирует не просто с прошлым и историей, но с вечным и вневременным. Таким образом, давно забытая тема «мифоса» оказывается не просто актуальной, но центральной, а изучение архаических обществ из периферийной, почти музейной инициативы становится магистральным научным направлением.
3. Переход к Постмодерну предполагает столь же фундаментальные сдвиги в общей структуре общества, сопоставимые с теми, что происходили при переходе от Премодерна к Модерну. Более того, предыдущий фазовый переход имеет решающее значение по своему содержанию и своей модели для исследования того перехода, который осуществляется сейчас. Симметрия между ними (и содержание этой симметрии) центральна для всей парадигмы Постмодерна.
Эти аргументы, к которым можно добавить множество более локальных технических и прикладных соображений, позволяют осознать важнейший закон социологии XXI века: мы способны адекватно осмыслить то общество, в котором пребываем, с социологической точки зрения в том случае, если будем обладать не только набором базовых социологических инструментов, но пониманием всех социальных отличий между парадигмами Премодерна–Модерна–Постмодерна.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТА СОЦИОЛОГИИ В ПОСТМОДЕРНЕ
Нельзя забывать, что социология возникла в эпоху Модерна, и хотя она в огромной степени ответственна за критику Модерна и подготовку перехода к Постмодерну, она несет на себе многие концептуальные, философские, методологические и семантические следы именно Модерна, которые теряют свое значение и свою адекватность на наших глазах. Переход от социологии к постсоциологии неизбежен, а значит, уровень социологической рефлексии относительно самой социологии, ее принципов, ее оснований, ее аксиоматики сегодня актуален как никогда.
Это вытекает из следующего фундаментального явления. При переходе к Постмодерну меняется сам объект социологии. Конечно, общество меняется всегда и на всех этапах. И каждый раз его корректное исследование требует совершенствования соответствующего инструментария. Но при фазовом переходе меняется нечто более глубокое — меняется регистр дисциплин. Так, все социальные трансформации в парадигме Премодерна были связаны с изменениями внутри религий — их эволюцией, разделением или слиянием, их соотношением или сменой. При переходе к Модерну весь класс социальных процессов, институтов, учений, структур, связанных с религией (а он был не просто широк, но почти тотален), оказывается нерелевантным и смещается на периферию внимания. Как мы знаем, по мнению Огюста Конта, освободившееся место была призвана занять как раз социология как пострелигия.
В Премодерне изучение общества было почти тождественно изучению его религии, которая определяла в социальном контексте преобладающие свойства институтов, процессов, распределение статусов и т. д. В Модерне же религиоведение и социология религий стали весьма скромными направлениями, и лишь структурализм и психоанализ, а также некоторые отцы-основатели социологии (Дюркгейм, Мосс, Вебер, Зомбарт) напомнили нам об их фундаментальном значении — в основном через исследование социальных условий возникновения Модерна (Вебер, Зомбарт) или через изучение архаических обществ (поздний Дюркгейм, Мосс, Хальбвакс, Элиаде, Леви-Стросс). В любом случае, по обе стороны границы Модерна (предыдущего фазового перехода) лежат два совершенно разных типа общества — «традиционное общество» (Премодерн) и «современное общество» (Модерн).
Различия между ними настолько фундаментальны, а основные ценности и принципы настолько противоположны, что можно говорить об их полной антитетичности1. Если Премодерн — тезис, то Модерн — антитезис. А соответствующие общества во многих аспектах представляют собой не просто качественно различные, но противоположные объекты исследования. Не случайно Ф. Тённис вообще помещает общество (Gesellschaft) как объект социологии только в эпоху Модерна, тогда как Премодерну, по его учению, соответствует община (Gemeinschaft). Если принять теорию Тенниса, считающегося безусловным классиком социологии, то следовало бы разделить социологию на науку об обществе (Gesellschaft) и Модерне и на науку об общине (Gemeinschaft) и Премодерне («коммунологию»). И хотя такого разделения не произошло и социология в равной мере изучает и традиционные, и современные общества, трансформации объекта исследования на первом фазовом переходе Премодерн–Модерн настолько существенны, что идея разделить их на две дисциплины всерьез обсуждалась на этапе становления науки. В наше время к теме «коммунологии» вновь обратился известный французский социолог Мишель Маффесоли2, речь о котором пойдет ниже.
ПОСТОБЩЕСТВО И ПОСТСОЦИОЛОГИЯ
Нечто подобное происходит и при втором фазовом переходе — от Модерна к Постмодерну. Объект исследования — «общество» — снова необратимо меняется. То, во что превращается общество в Постмодерне, настолько же отлично от того, чем оно было в Модерне, насколько современное общество (Gesellschaft) отлично от традиционного (Gemeinschaft). Поэтому можно предварительно говорить о постобществе как о новом объекте исследования социологии. При этом и сама социология должна меняться, чтобы адаптировать свои методы и подходы к новому объекту. Так возникает перспектива постсоциологии, новой (пост)научной дисциплины, которая изучала бы новый объект.
В любом случае минимальная социологическая адекватность в исследовании процессов, развертывающихся при переходе к Постмодерну, напрямую связана с пониманием глубинной логики смены всех трех парадигм. А это, помимо всего прочего, делает исследование Премодерна со всеми его социологическими составляющими — мифом, архаикой, инициацией, магией, политеизмом, монотеизмом, этносом, дуальностью фратрий, структурами родства, гендерными стратегиями, иерархией и т. д. — необходимым условием профессиональной адекватности социолога, призванного дополнить таксономию объектов этой науки новым звеном — постобществом.
ПОПРАВКА АРХЕОМОДЕРНА
Вся ситуация осложняется еще и тем, что цепочка Премодерн–Модерн–Постмодерн действительна только применительно к западным обществам — к Европе, США, Канаде, Австралии и т. д. В зоне устойчивого и доминирующего развития западной цивилизации мы можем четко фиксировать переход общества по всем трем парадигмам, при том что утверждение каждой новой парадигмы тяготеет к фундаментальности, необратимости и очищению от остатков предыдущей. Процесс парадигмальных сдвигов для западной цивилизации является эндогенным, то есть двигателем его выступают внутренние факторы.
Для всех остальных обществ последовательное движение по цепочке смены парадигм (включая различные подциклы, которые мы описывали ранее) либо имеет внешний, экзогенный характер (происходит или через колонизацию, или через оборонную модернизацию), либо осуществляется частично (исламский монотеизм, более «современный», нежели политеизм и тем более архаические культы, никогда не пересекал черту Модерна, остановившись перед ней), либо вообще отсутствует (многие этносы Земли до сих пор живут в условиях устойчивых систем «вечного возвращения»). Но поскольку влияние Запада сегодня глобально, то экзогенная модернизация (или аккультурация) распространяется практически на все общества, привнося элементы Модерна даже в самые архаические племена. Это порождает явление археомодерна (о чем мы говорили в разделе 7)3.
АРХЕОМОДЕРН УСЛОЖНЯЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТИНУ
Проблема археомодерна в социологии существенно усложняет анализ обществ по линии исторической синтагмы Премодерн–Модерн–Постмодерн, так как добавляет к трем парадигмам множество гибридных вариантов, в которых на базис социологических структур, относящихся к Премодерну, искусственно и неорганично надстроены социальные фасады Модерна. При этом археомодерн специфичен еще и тем, что это сочетание архаического и современного совершенно не рефлектируется на уровне сознания — не осмысляется, не упорядочивается и не порождает обобщающих интерпретационных моделей, что создает феномен общества-свалки (П. Сорокин). Модерн блокирует ритмику архаики, архаика саботирует последовательную структурализацию Модерна.
Исследование обществ археомодерна представляет собой отдельный класс социальных задач, который может быть вынесен в особую отрасль социологии. Никакого нового содержания археомодерн не порождает, так как каждый его элемент можно достаточно легко привести к контексту либо традиционного общества (к Премодерну), либо общества современного (к Модерну). Оригинальными являются только ансамбли диссонансов, бессмыслицы и двусмыслицы, порождаемые тем или иным археомодерном, оговорки, сбои, погрешности и случайные совпадения, которые подчас приобретают статус социальных особенностей и в некоторых случаях становятся конститутивными. Так, неверно понятый социальный институт или технический предмет, заимствованный из Модерна, например парламент или мобильный телефон, могут функционировать в отрыве от контекста (при отсутствии в обществе демократии или сети мобильной связи) как частично переосмысленный применительно к местным реалиям, а частично просто не понятый элемент, выступающий в роли священного предмета малоизвестного назначения — подобно метеориту.
АРХЕОМОДЕРН И ПОСТМОДЕРН: ОБМАНЧИВАЯ ВИДИМОСТЬ СХОДСТВА
Археомодерн становится особенно трудной социологической проблемой при изучении второго фазового перехода — от Модерна к Постмодерну. Дело в том, что некоторые феноменологические свойства Постмодерна — в частности, ироничное обращение Постмодерна к архаике, с тем чтобы указать Модерну на то, от чего он не смог до конца освободиться, — внешне напоминают археомодерн. Но Постмодерн выстраивает свою стратегию сочетания несочетаемого (Премодерна и Модерна) искусственно, продуманно, с тонкой ироничной и критической, провокационной целью (от большого ума), а археомодерн осуществляет сходные операции сам по себе (от глупости).
Археомодерн — это Модерн, который не получился и скорее всего уже не получится. Постмодерн — это Модерн, который получился, но преодолевает самого себя, чтобы получиться еще больше. Отсюда очень тонкая социологическая дистинкция: Постмодерн имитирует отдельные стороны археомодерна в рамках своей постструктуралистской программы «просветить Просвещение», археомодерн принимает это за чистую монету и искренне не понимает, чем постмодернистский Запад, игровым образом включающий в себя темы и целые этносы (иммиграция) традиционного общества, в скором времени будет отличаться от археомодернистских обществ остального мира.
СОЦИОЛОГИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (ПОСТМОДЕРН И АРХЕОМОДЕРН)
Здесь складывается модель двухуровневой глобализации. Эта глобализация основана на юкстапозиции Постмодерна и археомодерна. Постмодерн воплощен в западном обществе, интегрирующем человечество по своим силовым линиям — по принципу пролиферации логем. Это информационное общество, декодирующее и перекодирующее потоки информации («океан инфем»). Во всем мире есть сегменты элиты, которые более интегрированы в Модерн, нежели все остальное общество, и которые хотя бы частично способны воспринять некоторые тенденции Постмодерна. Они становятся узлами глобализации в ее логичном, рациональном, стратегическом аспекте.
Человечество превращается в однородное поле с симметрично расположенными центрами-порталами, где концентрируются маршрутизаторы инфем. Здесь действуют законы Постмодерна и пребывают те, кто эти законы осознает (либо работающие вахтовым методом люди Запада, либо представители местных элит, освоившие каноны и нормативы постобщества).
Все остальное социальное пространство предоставлено археомодерну, который воспринимает ослабление модернизационного импульса (мучившего архаику в эпоху Модерна) как релаксацию и с радостью толкует глобализацию как «окно возможности» для локализации, то есть для обращения к привычным и необобщенным бытовым конкретным заботам, где архаичное и модернистское сосуществуют в форме сглаженного конфликта, как обжитая и ставшая уютной свалка. Для описания этого двоякого феномена современный социолог Роланд Робертсон4 предложил воспользоваться сленговым термином японского корпоративного бизнеса «глокализация», чтобы описать сцепленность в глобализации между собой двух процессов — укрепления глобальных сетей, действующих по программе Постмодерна (собственно глобализации), и архаизации региональных сообществ, тяготеющих к возврату к локальной культуре (локализация). Так Постмодерн перемешивается с археомодерном в один труднорасчленимый ком, корректная социологическая расшифровка которого требует высокого профессионализма и глубокого понимания механики функционирования каждой парадигмы, взятой в отдельности, а также их гибридных и переходных форм.
Контрольные вопросы
1. Что такое фазовый переход от Модерна к Постмодерну?
2. Что такое постобщество? С помощью каких методов его можно изучать?
3. Как соотносятся между собой Постмодерн и археомодерн?
ГЛАВА 11.2
ПОСТМОДЕРН И ЛОГОС
ЭТАПЫ ДИУРНА: ОТ ЛОГОСА К ЛОГИСТИКЕ
Проследим теперь судьбу логоса в Постмодерне. Чрезвычайно важно всегда помнить, что логос есть одно из проявлений героического мифа, то есть продукт режима диурна. Причем не единственный и не абсолютный. Логос включает в себя антитетические и плеоназмические стороны героического мифа (гетерогенизирующая гомогенизация) и доводит их до последнего предела. Но при этом оставляет в мифе (в бессознательном) такие аспекты диурна, как прямую бешеную волю к власти, пассионарность и гиперболизацию. Конечно, и эти стороны диурна — родственники логоса — проникают в логос, но не явно, а по инерции хреодического влечения героических мифем друг к другу (то есть не логически).
Выявление логоса из мифоса есть, как мы видели, первый шаг, который устойчивый и сбалансированный этнос делает в сторону Модерна. Но далеко не все общества, строящиеся вокруг логоса, доходят до Модерна, это тоже надо учитывать.
Следующий шаг в сторону Модерна — переход от логоса к логике. На этом этапе логос как кристаллизованный порядок еще дальше отходит от общего комплекса героического мифа и вырабатывает схему, описывающую основные параметры самого себя, — это наука логика и в значительной степени математика, геометрия и т. д. Хотя логика максимально точно, насколько это возможно, отражает структуру логоса, она многое оставляет за кадром. Так, в христианстве логос (Слово) является Богом, а Бог, естественно, выше логики — особенно факт его Воплощения, а также многие стороны христианского учения, основанные на высказываниях Христа-Логоса, но при этом содержащие в себе логические парадоксы.
В логике Аристотеля парадоксам места нет. Логика есть свойство такого общества, которое еще более приближено к Модерну. Христианское общество — безусловно общество логоса (точнее, Логоса с большой буквы). Логика активно проникает в христианство вместе с теологическими построениями восточных отцов церкви, и особенно вместе с расцветом схоластического аристотелизма. Но окончательный переход к обществу логики совершается только по мере отхода от христианского теизма — в Возрождении и особенно в эпоху Просвещения (как — мы показали в предыдущих главах). Общество Модерна основано на автономной и обобщенной логике, которая становится основой социального упорядочивания — процессов, отношений, институтов, правовых норм, политики, статусов, экономики и т. д. Развитый Модерн становится все более и более техничным и переносит центр внимания на экономическую сферу. Экономика становится «судьбой» западных обществ. Так, постепенно, по мере становления Модерна, логика превращается в логистику.
Логистика — армейский термин, означающий упорядочивание процессов снабжения войск продуктами питания, амуницией, жильем и т. д. Из области военной стратегии он перешел в современные теории менеджмента, где стал обозначать оптимизацию процесса производства, снижение издержек, повышение эффективности управления денежными и информационными потоками и т. д. Логика применяется к самым разным сферам деятельности — интеллектуальной, политической, научной, социальной и т. д. Логистика — это логика, примененная только к процессу управления материальными ресурсами в сугубо прагматических целях. Логистика намного уже и конкретнее логики, не говоря уже о логосе.
Экономическое общество — и капиталистическое, и социалистическое (в теории) — основано на примате логистики, и спор двух политэкономических систем в ХХ веке развертывался как раз вокруг того, чьи логистические системы более эффективны, оперативны и конкурентоспособны. Борьба двух лагерей была соревнованием двух логистик — рыночной и плановой. Конец этого противостояния и выигрыш рыночной логистики совпал с переходом к Постмодерну.
В логистике концентрация субъекта, составлявшая особенность диурна, рассеивается на множество субъектов — индивидуумов-менеджеров, каждый из которых становится автономной системой, осуществляющей свой экономический цикл в индивидуальном порядке. Менеджер — последнее издание диурна, маленький герой5, бьющийся с хаосом навалившихся на него товаров, трудовых ресурсов, биржевых котировок, финансовых бумаг, отчетов, налогов, которые он должен расставить по местам на складе, заставить работать максимально эффективно, разослать по инстанциям, рассортировать по папкам, передать к исполнению другим менеджерам. Каждый человек в обществе логистики мыслится как менеджер, то есть индивидуальный носитель разума, сведенного к навыкам совершения логистических операций. Гетерогенизирующая гомогенизация как основное свойство диурна сводится здесь к навыкам логистической адекватности, возведенной в норматив. Кто справляется с этим, тот — победитель. Кто не справляется — проигравший, loser.
ОТ ЛОГИСТИКИ К ЛОГЕМЕ
Итак, Постмодерн наступает в среде победившей рыночной логистики с нормативным типом менеджера. На каждом этапе по линии диурн–логос–логика–логистика героический миф утрачивал какие-то стороны, сужал свой мифологический потенциал. Логистика — то состояние, где от изначального диурна остается бесконечно мало, это атом диурна. Постмодерн, тем не менее, представляет собой тенденцию к еще большему дроблению логистического атома. В предыдущем разделе мы ввели это понятие как логему.
Логема в социологическом смысле есть дробление логистической рациональности на еще более мелкие — субиндивидуальные или дивидуальные — составляющие. Объектом упорядочивания для логемы является не близкое внешнее пространство (нуждающиеся в питании войска, интересы и модели оптимизации деятельности корпорации или разбросанные на складе товары), но принадлежащее индивидууму тело, психика и прилегающие к ним вплотную предметы — одежда, продукты питания, косметические средства, а также мельчайшие эмоции, переживания, ощущения.
Логема — это триумфальное умение справляться с самим собой: ходить прямо, подносить платок к носу, а чашку к губам, завязывать шнурки, усмирять желание до крови расчесать ногтями место комариного укуса и т. д. В этом тоже есть отголосок воли к власти и стремления к созданию порядка из хаоса, только на микроуровне. Это все тот же самый несгибаемый диурн, только сведенный к микроскопическому масштабу. Но микроскопичность этого масштаба (пока) не перетекает автоматически в антифразу и эвфемизм ноктюрна. Напротив, микрожелания и микропоползновения гиперболизируются, титанизируются, приобретают планетарный масштаб. Средство от себореи вырывается на огромные рекламные плакаты, затмевающие небо. Это последний всплеск героической паранойи: микроскопическое и ничтожное вырастает до пропорций «далекого» и «великого».
Феномен гламура точно вписывается в это направление. Гламур — это героизация логемы, придание комфорту, гигиене и микрожеланиям статуса социальной и имиджевой гегемонии, жесткой стандартизации тела и его пропорций, тоталитарный норматив образцовой внешности, возведенный в абсолют.
Переход от общества логистики к обществу логемы — наиболее важный и фундаментальный процесс Постмодерна.
НИЧТО И ЕГО СОЦИОЛОГИЯ
Одним из специфических продуктов логоса является ничто. Это логическое представление является развитием диурнического дуализма. Себя диурн отождествляет со «всем», а на обратном конце — как смерть — готовится место для ничто. Когда мы переходим на уровень логоса, ничто становится важнейшим звеном фундаментальной пары есть–нет — как обобщенное нет.
Параллельно этому ничто с необходимостью включается в основу монотеистических теологий, где из ничто создается мир. Логос как тождественный самому себе есть все. То, что ему не тождественно, есть ничто.
В логике двоичность есть–нет становится важнейшим операционным модулем, так как предопределяет структуру функционирования рационального сознания. Ничто приобретает постоянный технический характер.
В логистике ничто приобретает свойство рутинности — означает отсутствие товара, недостаток, потребность в заполнении графы, расход (кредит). Ничто становится банальным.
Но по мере дробления субъекта — носителя логоса в рамках развития диурна от Бога до менеджера (хозяйственника) — область ничто постоянно расширяется, перемещаясь с периферии (из-под дна творения) в центр социальной системы, пока наконец не банализируется в финансовом балансе (кредит) или маркетологических исследованиях (товар на складе отсутствует). Чем мельче фигура носителя логоса, тем крупнее зона ничто.
Впервые это обстоятельство было подмечено в философии Ницше, который определил нигилизм как основное свойство современной западной цивилизации. Ницше говорил «Пустыня растет. Горе тем, кто скрывает в себе пустыню»6. Рост «пустыни» — это рост зоны ничто, охватывающей мельчающего индивидуума со всех сторон. Более того, будучи однородным — так как не имеет свойств, — ничто, простертое вокруг индивидуума, сливается с ничто, простертым вокруг другого индивидуума, увеличивая объем «пустыни».
Подробно тему ничто вслед за Ницше развил Хайдеггер, а Жан Поль Сартр, в свою очередь, систематизировал хайдеггеровские интуиции в своем главном труде «Бытие и ничто»7. Рост внимания к ничто является прямым следствием рациональности и логичности западной культуры, которая все более отчетливо рефлектирует основные социологические тенденции в рамках присущей ей дуальной логики. Логос мельчает, ничто укрупняется.
При переходе к Постмодерну, когда диурну предстоит сделать скачок на еще более мелкий уровень, некоторые философы, в частности Жиль Делёз, провозглашают, что «настал момент перехода от ничто воли (болезнь нигилизма) к воле к ничто, от нигилизма незавершенного, болезненного и пассивного к нигилизму активному»8. Здесь очень тонкий момент. Одно дело — рост ничто (и нигилизма) по мере дробления носителя логоса, другое дело — ориентация логоса на ничто, то есть активное и сознательное стремление к своей противоположности. Это явно выходит за рамки диурна и предполагает переключение режима в пользу эвфемизма и, соответственно, ноктюрна.
С точки зрения логоса и даже логики и логистики ничто — это чистое ничто; не условное обозначение иного, но не обозначение ничего. Поэтому рост ничто проходит в пространстве числителя человеческой дроби — там, где находится логос. Ничто — это продукт логоса. Оставаясь в рамках числителя, западное общество имеет своим пределом ничто, с которым носитель рассудка пребывает в постоянном диалоге и взаимодействии. Ничто растет, носитель логоса умаляется. Но в рамках инерции социологической истории ничто есть последний предел логоса, за которым социальная история продолжаться не может. Уткнувшись в ничто, история заканчивается (об этом писал Ф. Фукуяма) и подменяется экономикой (логистикой).
Менеджер и есть законченный активный нигилист. Он не стремится более обобщить социальные, философские или научные данные, выстроить логический порядок. Он довольствуется тем, что выстраивает логистический порядок в пространстве своего окружения, не заботясь о всеобщих социальных закономерностях. Тем самым он фрагментирует социум и оптимистично продвигает ничто. Ничего более нигилистичного, нежели экономика, менеджмент и маркетинг, не существует. Рынок и есть чистая стихия нигилизма, где циркулируют циклы измельченной хозяйственной рациональности, и сама макроэкономика в либеральной теории есть не что иное, как генерализация атомарных микроэкономик, которые конститутивны в своем хаотическом — но логистическом при этом — движении.
Если разум начинает сознательно стремиться к ничто, то он указывает на совершенно иной маршрут, нежели экономист, предлагающий, неосознанно продвигая ничто, сосредоточиться на логистических циклах и успешно хозяйствовать в условиях «конца истории».
Тут мы подходим к самому важному моменту: если для логоса ничто — это ничто, то для мифоса ничто — это не ничто, это нечто, причем многообразное, насыщенное и живое, так как сам миф, загнанный в знаменатель, оказался в позиции ничто для логоса. Ничто логоса — это все мифоса, это полнота бессознательного, за исключением бесконечно малой части героического мифа, который постепенно трансформировался в малый логос завершающегося Модерна. И если представить себе, что логос сможет действительно не просто приблизиться к ничто, но и низринуться в него (как сам Делёз выбросился из окна), то он попадет прямо в миф.
Поэтому в воле к ничто мы можем распознать — вопреки интенциям самого Постмодерна — тайный импульс, идущий из бессознательного. Для разума безумие — это конец, для бессознательного остановка логических процедур сознания или их сбой — это всегда новое начало, новый цикл индивидуации, новый всплеск динамики мифа.
Поэтому мы рассмотрим ничто иначе, нежели представители рациональной философии от софиста Горгия (483 до н. э. — 380 до н. э.) до Сартра и Делёза, увидев в нем те аспекты мифа, которые не включаются в строгую рационализацию, не переносятся в логос. Отсюда следует важный вывод: нигилизм современной западной цивилизации, особенно нарастающий при переходе к Постмодерну, может быть рассмотрен с другой стороны — как консолидация энергий бессознательного, не находящих выхода в числитель легитимными способами и готовящих свое возвращение в тот момент, когда «репрессивные» структуры логоса окончательно ослабнут.
КОМПЕТЕНЦИИ ЛОГЕМЫ
Такой момент наступает вместе с переходом от логистики к логеме, то есть при следующем расщеплении носителя логоса и концентрации внимания на субатомарном уровне. Логема — это вынесенная из контекста повседневность, оторванная не просто от больших социальных циклов, но даже от примитивных и рутинных операций по менеджированию хозяйственных единиц. Менеджер, носитель логистики, еще сохраняет ответственность перед другими — конкурентами, партнерами, корпорацией, финансовыми и административными институтами, налоговой инспекцией, сотрудниками, продавцами, покупателями и т. д. Логема вступает в действие, когда целью становятся упорядочение отдельных импульсов и организация пространства, вплотную примыкающего к телу — снаружи и изнутри. Это забота о комфорте, здоровье, сытости, хорошем настроении и т. д. в отрыве от каких бы то ни было социальных целей, задач и обязательств. К разряду задач, решаемых на уровне логемы, относятся:
- шопинг;
- sight seеing;
- эпиляция;
- нанесение тату;
- выбор одежды;
- пирсинг;
- рефрешинг (выпивание освежающих напитков, кофе или чая);
- SMS-ing (посылка и прием (часто анонимных или сложно атрибутируемых) SMS-сообщений);
- ТВ-контемпляция;
- прием лекарств;
- дансинг;
- уик-эндинг;
- релаксация;
- спортинг;
- вождение автомобиля;
- курение;
- свимминг в бассейне;
- листание глянца;
- отпускные поездки;
- пользование средствами личной гигиены;
- макияж;
- пилинг;
- найт-клаббинг (посещение ночных клубов);
- лиснинг (ношение наушников с играющей музыкальной информацией);
- интернавтика (нажимание пальцами на баннеры и ссылки в сети Интернет);
- заполнение анкет;
- корректный и короткий ответ на несложные вопросы.
Структуры, с которыми оперирует логема, столь миниатюрны, что находятся на последнем уровне логического и грозят постоянно соскользнуть в ничто, то есть в бессознательное, в миф, в ноктюрн. На пересечении логического ультраминимализма, а то и чистого нигилизма, воплощенного в логеме, и осторожно поднимающегося из подполья режима ноктюрна может быть основана социология Постмодерна — систематический анализ того конгломерата носителей гаснущих логем, напоминающих огни святого Эльма или падающие метеориты, который приходит на место растворяющемуся обществу Модерна.
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ АЛЬФРЕДА ШЮЦА
Провозвестником такой социологии минимального был известный австрийско-американский социолог Альфред Шюц (1899–1959), основавший феноменологическое направление в социологии9. Шюц был учеником философа Эдмунда Гуссерля (1859–1938), создателя феноменологии. Сущность феноменологического подхода заключается в призыве к абстрагированию от обобщающих дедукционистских концепций, которые выводят малое из большого, частное из общего, и к сосредоточению внимания на малом, конкретном, эмпирически присутствующем. В частности, Гуcсерль призывал отталкиваться от конкретного мышления, как мы его встречаем у обычных людей, от «жизненного мира» (Lebenswelt) и только потом осторожно переходить к обобщениям и рационализациям. Этот феноменологический подход привел Мартина Хайдеггера, также ученика Гуссерля, к выявлению центральной для его учения философской категории — Dasein, с помощью которой он построил свою «фундаментальную онтологию». В случае Шюца феноменология привела к социологии повседневной жизни, изучающей микроявления человеческого поведения в окружающем мире, вплотную прилегающем к человеку.
Шюц показал, что поведение ординарного обывателя включает в себя широкий набор явлений, который по умолчанию считается само собой разумеющимся. Этот класс предметов, явлений, событий составляет важнейшие реперные точки в структуре повседневности. Шюц называет их taken for granted — нечто, что предполагается как гарантированное. Жизненный мир состоит из таких моментов. Обыватель настолько глубоко пропитывается taken for granted, что начинает проецировать эти очевидности на весь мир. Это Шюц называет типификацией, то есть процессом постоянного толкования неочевидного как очевидного. Подвергая типификации незнакомого прохожего на улице, обыватель проецирует на него комплекс представлений, которые сформировались у него до встречи и без всякой связи с ней. Он делает выводы на основании одежды, походки, возраста и пола и помещает незнакомца в широкую серию taken for granted, перечеркивая тем самым неизвестность или широкие социальные и философские обобщения. Жизненный мир обычного человека есть непрерывная типификация — всякое новое событие, явление, предмет или сообщение интерпретируются через цепи уже известных, освоенных и понятных вещей — taken for granted.
Другая градация поведения среднего человека состоит из двух типов мотиваций — мотивации цели и мотивации причины. Развивая идеи Вебера о целерациональной деятельности, Шюц считает, что мотивация цели концентрирует волю человека на достижении чего-то конкретного и поэтому ведет к действию. Тогда как мотивация причины лишь подготавливает почву и повышает вероятность осуществления действия, но не влечет его за собой с неизбежностью.
Другой социологически оперативной идеей Шюца является разделение сферы жизни обывателя на четыре горизонта:
- горизонт предшественников;
- горизонт потомков;
- горизонт близких пространственно людей (конспатиалов);
- горизонт людей, живущих в данное время, одновременно с данным индивидуумом (контемпоралов).
В рамках этих горизонтов индивидуум практикует два типа отношений — понимание-интерпретацию и действие-влияние. К предшественникам возможно применить только понимание-интерпретацию, к потомкам — только действие-влияние, а к близким пространственным и временным образом — оба типа отношений.
Социологическая формализация Шюца чрезвычайно важна тем, что она:
- выстроена исходя из минимальной фигуры обывателя и не обращается ни к каким социологическим системам, которые объясняли бы генезис самого этого обывателя, помещали бы его в конкретный социальный контекст и интерпретировали бы заведомо то, что он считает taken for granted, а что не считает и откуда это taken for granted взялось;
- не задается вопросом, каковы узлы типификации в разных обществах и как эта типификация действует;
- не исследует, как устроена структура целей и причин в данном обществе и почему именно так, а не иначе;
- не интересуется тем, как сконфигурированы четыре горизонта, что в них включается и как развертываются интерпретационно-понимающие и активно-влияющие модели отношений.
В полноценном обществе и в классической социологии, особенно структурной, феноменология Шюца оказалась бы пустой и бессодержательной, так как ничего не объясняла бы по существу и только описывала и систематизировала бы на первичном уровне банальные процессы. Но она обнаруживает свое важнейшее методологическое значение в тот момент, когда общество как явление заканчивается, его структуры подвергаются растворению, диссипации и на место его приходят микросущества, в отношении которых вообще не имеет значения, продуктом распада каких конструкций, социальных структур и религиозно-философских ансамблей они являются. У менеджера еще был (пусть остаточный) социологический профиль. У носителя логемы этого профиля нет, и в данном случае феноменологический подход Шюца обнаруживает свою значимость и релевантность. Он описывает обывателя, погруженного в структуру конкретных чувственных (жизненных) форм, как автономную фигуру, на месте пересечения основных «социологических» осей которой можно допустить самые причудливые и экзотические сочетания.
Данная методология, которая была бы неадекватной в обществе с сохранившимся социологическим фундаменталом — как в пространстве Модерна, так и в пространстве Премодерна, — в Постмодерне, напротив, обнаруживает свою релевантность и эвристический потенциал.
ПОВСЕДНЕВНОЕ СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПОВСЕДНЕВНЫМ
Малый феноменологический масштаб, предложенный Шюцем, в Постмодерне еще больше сокращается. Это видно, в частности, в вопросе исчезновения горизонтов. Первые два горизонта — отношение к предкам и к потомкам — практически исчезают или, по меньшей мере, становятся настолько второстепенными, что на структуру повседневности никак не влияют. Таким образом, у типичной фигуры Постмодерна остаются только два горизонта — конспатиалы и контемпоралы. При этом зона конспатиалов трансформируется в двух направлениях — она сужается ближе к сингулярной телесности (в ущерб социальным институтам, семейным связям после достижения определенной подростковой самостоятельности и т. д.), но распространяется по сетевому признаку — номинальная фигура (далекого) виртуального собеседника в онлайне или получателя SMS-сообщения интегрируется в ближнее пространство, откуда выпадает кровный родственник или соученик.
Так же расширяется и сужается зона контемпоралов. Так как на прошлое и будущее не обращается больше никакого внимания, некоторые значимые для обитателя Постмодерна темы из прошлого (будущего) переносятся в настоящее, голографически помещаются туда. Исторического персонажа, которого играет известный актер, отождествляют с самим актером, то есть плазматически помещают его в контемпоральность. С другой стороны, то из настоящего, что не затрагивает телесной сингулярности непосредственно, игнорируется и не включается в зону внимания, то есть вырезается из настоящего и помещается в «нигде» и «никогда».
Меняется и структура taken for granted, в нее включаются элементы праздника, бонусов, получения удовольствий в полном отрыве от труда, усилий и личных достижений. Это связано с общей тенденцией на расширение гражданских прав и социальных гарантий. При этом к социализации предъявляется все меньше требований. Чтобы стать полноценным гражданином, достаточно уметь считать до двух и говорить с акцентом «здравствуйте». Во многих европейских странах этого хватает для того, чтобы получить гражданство и социальное пособие.
Также меняется баланс между мотивацией цели и мотивацией причины. Измельчение логоса ослабляет волевой импульс, направленный к цели, релятивизирует цель, а значит, действие становится менее вероятным, более виртуальным. Сплошь и рядом интенция (намерение) остается на уровне виртуального пожелания и не достигает уровня деятельной реализации. А пробабилистская «мотивация причины», напротив, становится более значимой, так как «почему» относится и к действию, и к бездействию, и объяснение, почему кто-то сделал что-то (а чаще всего — почему он этого не сделал), становится успокоительным методом для тех все более сложных и болезненных ощущений, которые логема испытывает в отношении действия.
Шюц различает «акцию» (action) и «акт» (act), то есть процесс делания и (сделанное) дело. В Постмодерне, несомненно, преобладает акция, то есть делание чего-то, что в любой момент может прекратиться, так и не завершившись, либо перейти в иное состояние и открыться как иное делание, о котором на первом этапе никто (в том числе и сам делающий) не подозревал. Акт трудновыносим для логемы, он требует усилий и влечет за собой необратимость. Делание более приемлемо, но также должно в идеале совершаться легко, празднично и не иметь однозначного конца. Это можно уподобить разрыву и разрыванию. Разрыв — необратимое состояние (нить порвали, и все). Разрывание — это процесс натяжения, в котором нить уже тянут, но еще не порвали. Логема — это разрывание нити: нить тянут и тянут, но порвать не решаются.
МИШЕЛЬ МАФФЕСОЛИ: ЗАВОЕВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО
Методологию Шюца блестяще применил к исследованию (пост)современного западного общества, стремительно сдвигающегося в Постмодерн, другой социолог, Мишель Маффесоли (1944 г. р.), ученик Жильбера Дюрана, сочетающий в своих исследованиях принципы социологии воображения и феноменологический подход Шюца.
Согласно Маффесоли, общество Постмодерна характеризуется усталостью от нормативных образцов, помещенных в прошлом (в истории) или в будущем (в утопии). Именно поэтому в постмодерне начинается «завоевание настоящего»10. Постмодерн не доверяет масштабу — ни временному, ни социальному, не интересуется тем, что было раньше, и тем, что будет потом. Постмодерн делает акцент на мгновении, на близком и очень близком, на сейчас. Так возникают топосы новой социологии — микрособытие, реализация утопии здесь и сейчас, праздник, локальность. Логемы обывателя помещают сценарии «большого общества» — куда можно отнести как архаические племена, так и технологические цивилизации Модерна — на микроуровень, разыгрывают их в масштабе комнаты или компьютерного экрана. Повседневность становится эпической, грандиозной. Значение банальных событий гипертрофируется, и рутина превращается в праздник. Рациональность становится все более и более локальной, справляющейся с отдельными несложными операциями, но отказывающейся двигаться к обобщениям. То, что люди Постмодерна считают taken for granted, — наличие повсюду Wi-Fi сети, мобильной связи, Mc Do за углом и т. д. — носит характер причудливый и изолированный, фрагментарный.
На фоне этого измельчения логоса в пыль логемы Маффесоли фиксирует подъем мифа и конкретно — мифа о Дионисе11. Это чрезвычайно важное замечание, так как оно показывает, что утрата в Постмодерне хватки большого логоса и критический рост нигилизма возмещаются подъемом бессознательного и конкретно — структур ноктюрна.
Схема социологии Маффесоли такова: логоцентризм Модерна (который он иронично называет Постсредневековьем) и предшествующих ему социальных форм исчерпал себя, и в данный момент происходит новое обращение к мифу. Но это обращение носит, и с этим Маффесоли согласен, патологический характер, так как оно связано с предшествующим полным изгнанием мифа из сферы сознания, что сжимает пружину знаменателя до такой степени, что она спонтанно разгибается. В одном из интервью12 Маффесоли иллюстрирует это указанием на всплеск серийных убийств на Западе, и в первую очередь в США. Он подчеркивает, что серийные убийцы как социальное явление расцветают в обществах, где безопасность и, соответственно, стерилизация агрессии возведены в высшую ценность. Маффесоли приводит в пример нозокомиальные инфекции, то есть те инфекции или, шире, заболевания, которыми человек заражается при помещении в клинику для лечения от совсем других болезней. Современное общество, особенно американское, стремится к полной асептизации в сфере насилия, хочет излечиться от него во всех его проявлениях. Это порождает компенсаторную концентрацию спорадического насилия в отдельных точках — причем в гипертрофированных формах. Современное насилие носит нозокомиальный характер — оно рождается из чрезмерного стремления к его искоренению. Сам процесс лечения становится источником и причиной заболевания.
Так логема, будучи стремлением рационализировать мельчайшие аспекты жизни индивидуума, вызывает к жизни дионисийские всплески ноктюрнического мифа. Можно скзать, что миф приобретает в Постмодерне нозокомиальный характер и прорывается сквозь логемы, которые ему легче обойти, нежели более тотальные и бдительные структуры логистики. Миф прорывается потому, что логема приравняла его к ничто.
ПОСТМОДЕРНИЗМ МОЛОДЕЖНЫХ МАСС И «ОЛБАНСКИЙ ЯЗЫК»
Маффесоли считает, что современное европейское общество пребывает в двух регистрах. На уровне элиты и интеллигенции оно мыслит категориями Модерна, либеральными, а иногда и социал-демократическими нарративами. Для элит общество еще есть, они частично живут в Модерне. Но массы, и особенно молодежные массы, переставшие понимать «большие нарративы», с удовольствием погружаются в дионисийскую стихию социального разложения, дефрагментации, группируясь по маленьким коллективам (компаниям), за пределами которых мир и общество существуют гадательно и вероятностно. Молодежь уже больше не Модерн, она не понимает его дискурса. Молодежь — Постмодерн, она балансирует между ироничной игрой логем и поднимающихся из бессознательного разрозненных ноктюрнических образов и мифем. Отсюда стремление молодежи к искажению языка, к изобретению нового арго, который призван разрушить грамматические нормативы. С позиции логоса это чистые ошибки. Но с точки зрения мифа это попытка воссоздать риторику в ее фундаментальном качестве — как язык параллельной логики, язык мифа.
Интернет и «живой журнал» дают этому множество примеров. Распространенный в российском Интернете «олбанский язык», некоторое время назад чрезвычайно популярный в Live Journal, — яркий пример этого. Выражения «превед», «кросавчег», «аффтар жжот» и т. д. представляют собой насыщенные смутными, но выразительными мифемами возгласы, находящиеся между логемой (упорядочивающей с помощью таких интернет-похрюкиваний окружающий микромир, поднимающей настроение, утверждающейся в коллективной принадлежности к интернет-сообществу и т. д.) и чистым бессознательным. «Олбанский язык» — это спонтанное открытие мощи катахрезы, являющейся важнейшим тропом ноктюрна.
СЕТИ И ЛОГЕМЫ
Фиксация на локальностях, особенно заметно проявляющаяся в молодежной среде, позволяет понять устройство сетевого общества, которое является характерным признаком Постмодерна.
Сеть не имеет центра. Она развертывается одновременно от нескольких полюсов, причем эти полюса могут появляться и исчезать, перетекать один в другой, увеличиваться в количестве или сокращаться. Смысл полюса сети — сервера — в том, что он всегда локален, то есть ситуирован в малом пространстве, соразмерном логеме. Полюс организуется вокруг сингулярного тела и его простейших поползновений. Вместе с тем он может образовываться и вокруг отдельно взятой эмоции, настроения, образа. Самые обширные сети развертываются вокруг отдельного выражения: «олбанская» сеть — вокруг «превед, медвед!», движение emo — вокруг деланого подросткового всхлипывания. Более сложные сети — байкеры, брейк-дансеры, скинхеды и т. д. — имеют меньшее распространение именно в силу усложненности своих сетевых протоколов. Чем ближе протокол к логеме, тем больше шансов у сети получить широкий масштаб развертывания.
Когда полюс сети возникает, он начинает обрастать индустрией, эксплуатирующей этот импульс. Так развертываются пересекающиеся сети сопутствующих товаров, услуг, трансляций, производство гаджетов и значков, торговые площадки и центры распространения — вплоть до законопроектов и постановлений правительства. Количество полюсов теоретически неограниченно велико, и любая логема — то есть усилие распадающейся индивидуальности справиться с утекающим сквозь пальцы миром — имеет шанс стать таким полюсом, развернуть вокруг себя сеть или подключиться к уже существующим сетям. Оба эти действия — всплытие полюса и подключение к имеющимся сетям — в перспективе станут одним и тем же жестом: каждый новый пользователь сети одновременно становится и новым порталом, и новым «сервером». Он не только может смотреть реалити-шоу в прямом эфире, но и демонстрировать реалити-шоу со своего места у компьютера, и тогда все пользователи сети смогут увидеть, как он сидит перед экраном и смотрит, как кто-то другой сидит перед экраном и смотрит… И так в периоде. Для разнообразия можно состроить гримасу или хихикнуть. Так созидается новое минималистическое сетевое (пост)общество.
ТЕНЬ ДИОНИСА
Замечание Маффесоли о возвращении мифа через новый молодежный идиотизм (идиотизм с логической стороны) подводит нас к чрезвычайно важному выводу относительно структуры Постмодерна. Со стороны логоса Постмодерн представляет собой нигилизм и критическое размельчение носителя логоса до уровня логем. Но все-таки это есть не что иное, как развертывание программы Модерна в его высшей стадии, а следовательно, продолжение того делания, которое было начато диурническим мифом еще в архаические времена. Большинство философов-постмодернистов отнюдь не стремилось к возвращению мифа или к сворачиванию Модерна как временного недоразумения. Напротив, они хотели «просветить Просвещение» (Хоркхаймер), довершить миссию Модерна, с которой он не справился.
Постмодерн призван не подготовить возвращение мифа, но окончательно освободиться от мифа во всех его вариациях — вплоть до тех, которые остались в логосе, логике и даже логистике. Поэтому официальной программой Постмодерна являются только логема и в крайнем случае ничто; логема, взаимодействующая с ничто. Эта дихотомия логемы против ничто есть последнее издание диурнического дуализма: сегодня «герой, смотрящий в лицо смерти» выглядит как «юноша, пьющий пиво в подземном переходе» или «дама, загорающая в солярии». Человек Постмодерна — постчеловек — это микрорациональность, окруженная разросшейся пустыней. Уже не человек и смерть, но кусочек человека, отдельный орган и факт отделенности от остального, при том что остальное воспринимается не как «все», куда можно интегрироваться, но как ничто, куда интегрироваться нельзя. Судьба дивидуума в Постмодерне — трагедия протеза, выброшенного на помойку; протеза, на мгновение получившего квант сознания. Спасение в наркотиках, нетрадиционном сексе, скорейшем заражении ВИЧ-инфекцией и шансе «умереть молодым» (например, в автокатастрофе). Перспектив взросления нет, будущего нет («no future» — панк-лозунг 1980-х). Отсюда ювенильная антропология, распространенная теоретически на все возрасты, и отказ от взросления в западном обществе (где все чаще можно встретить дедушек и бабушек, одетых и ведущих себя как подростки)13.
Такой активный нигилизм есть положительная программа Постмодерна в его логическом измерении. Причем прежде, чем этот идеал будет реализован, предлагается потратить силы на борьбу с пережитками «тоталитаризма» в самом Модерне, мешающими реализации этого «идеала».
Но если признать правоту Маффесоли, то мы увидим всю картину с другой стороны. Ослабление логоса, его измельчание позволяют задавленным и репрессированным мифемам — особенно ноктюрническим, менее заметным и более гибким — постепенно подниматься из бессознательного и проникать в зону числителя под маской «ничто», с одной стороны, и под видом «совсем слабых» логем — с другой. Мифемы ноктюрна предлагают свою помощь локальному дивидууму и в том, чтобы упорядочить окружающий хаос, и в том, чтобы уладить отношения с ничто, которое может быть подвергнуто эвфемизации. При этом деятельность логемы становится экстатической, а ничто — сладким. Это и есть «тень Диониса», о которой говорит Маффесоли14. Мифема ноктюрна незаметно проникает в логему и трансформирует ее в нечто иное. В этом случае Постмодерн становится «возвращением мифа».
Но такая перспектива, особенно с учетом общей негативной бдительности Постмодерна к диурну, подлежащему асептизации, может привести только к мягкому растворению общества в промискуитетном «царстве матерей» (которое искал Фауст Гете), а значит, к погружению общества в бессознательное, в миф, причем в его ноктюрническом режиме. В таком случае это вполне может стать как завершением данного цикла диурна, так и прелюдией к началу следующего. Эти гипотезы рассматривали социологи П. Сорокин, Ж. Дюран, Ш. Лало и другие, считающие, что современное европейское (и глобальное) общество завершает свою очередную стадию (чувственную, дионисийскую, постклассическую и т. д.) и через серию потрясений, кризисов и катастроф на месте нынешнего человечества появится новое — с совершенно иными социальными установками (на «возвращение древних богов» или на новый «идеационный порядок»).
ПОСТМОДЕРН И АРХЕОМОДЕРН В ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Другим важным следствием из анализа Постмодерна в социологии Маффесоли является возможность соотнести между собой принципы собственно Постмодерна (в узком смысле — взгляд со стороны логоса) и археомодерна. В процессе глобализации, как мы показали, глобализирующийся Постмодерн накладывается на локализирующийся археомодерн. Это важное структурное замечание, поскольку оно описывает суть сети. Сеть интегрирует на уровне логем (Постмодерн) локальные полюса (серверы), имеющие природу археомодерна (то есть состоящие из расплывающихся логем, уже насыщенных поднимающимися ноктюрническими мифемами). Глобальная логема (собственно глобализм как проект One World, единого мира с мировым правительством, мировым электронным парламентом и т. д.) интегрирует на уровне слабых связей произвольное количество локальных полулогем-полумифем. Все они обмениваются по горизонтали и по вертикали инфемами, квантами ничего не означающей информации, что создает симуляцию действия и процесса при отсутствии какой бы то ни было поступательности или накопительности (этот путь «вперед» уже заблокирован выросшим до гигантских размеров ничто). Археомодерн совершенно не понимает глобальную логему и не солидарен с ней. Он живет в минимализированном «жизненном мире» Шюца, в пределах все более виртуальной конспатиальности и причудливой контемпоральности. И именно здесь происходит нецензурированный и относительно свободный подъем ноктюрнических мифем. Археомодерн является пунктом просачивания мифа в логос в структуре сетевого общества.
Сама сеть есть последнее издание логоса, но то, что она интегрирует, — это противоречивые и монстрообразные агломераты непереваренного Модерна вперемешку с неустраненными фрагментами мифа. Порталы — как отдельные сетевые инициативы, так и целые страны — это практически всегда археомодерн, то есть полулогемы-полумифемы. Тот факт, что они готовы интегрироваться в глобальную сеть с общим протоколом, свидетельствует об их покорности интегрирующему глобалистскому проекту Постмодерна (со стороны логоса). Но то, что они не собираются идти по пути логоса и модернизации и, напротив, намерены принести в сеть все противоречия и «несходимости» своей незаконченной модернизации в сочетании с уже разрушенной структурой мифа, свидетельствует о перспективе постоянного накопления в сети растущей массы мифологических элементов. И хотя на первом этапе эти элементы заведомо будут гротескными, разрозненными, хаотическими мифемами, по принципу хреода в какой-то момент, при определенной концентрации, они начнут выстраиваться в более упорядоченные мифологические конструкции. Возможно, в какой-то момент ничто примет очертания электронной «Великой Матери», «черной богини Кали», «багряной жены» Апокалипсиса или культовой «золотой бабы».
Контрольные вопросы
1. Опишите цепочку трансформаций логического начала от Премодерна к Постмодерну.
2. Какова наиболее адекватная сфера применения методов социологии повседневности?
3. В чем смысл теории «завоевания настоящего» М. Маффесоли?
ГЛАВА 11.3
КУЛЬТУРА АПОКАЛИПСИСА
СОЦИОЛОГИЯ АПОКАЛИПСИСА
Новая книга Мишеля Маффесоли «Апокалипсис»15 описывает фундаментальные перемены в современном обществе при переходе к парадигме Постмодерна. Маффесоли использует термин «апокалипсис» в изначальном смысле — в переводе с греческого это означает «откровение сокрытого», то есть ясное высказывание о том, что тайно составляет сущность актуальных процессов. Согласно Маффесоли, тайное содержание современного общества состоит в том, что оно отказывается от любого масштабирования трансцендентального императива, то есть не хочет быть ни «небом на земле», ни «адом на земле», но стремится быть «землей на земле», то есть выражать только самого себя через структуру строго имманентных ценностей. С его точки зрения, это и есть сущность дионисийской религии — утверждение экстатического равенства вещи самой себе, но не в логическом и не в риторическом смысле, а через процедуру экстатизации банального, возведения в ранг норматива «культурного идиота» (существование которого отрицает социология Гарфинкеля16) и его восприятия мира.
Это означает, что социальная история, на протяжении которой так или иначе (и даже до выведения логоса в числитель дроби человеческой) доминировал диурн, в Постмодерне фундаментально меняет свой регистр и переключается в режим ноктюрна, приглашает человечество вступить в большую ночь.
Апокалипсис, по Маффесоли, это интронизация банального, развертывание материнского имажинэра, опутывающего заведомым согласием любые дихотомии, уравнивающего все неровности, успокаивающего все неврозы и расстройства. Малые группы — урбанистические «племена» — отныне свободно растекаются по гладкому пространству, погружаясь в негу наступающей бессмысленности, коверкая язык и упраздняя социальные институты, лукаво пуская слюни и заставляя учителей принимать это за правильный ответ на экзамене. Снос трансценденции становится похоронами логоса и вместе с тем удостоверенным крахом диурна: его инициатива провалилась, логема несостоятельна, мир погружается в мать, мать восходит над миром. Здесь уместно вспомнить художественные пророчества русского поэта Николая Клюева в «Песне о Великой Матери» и в поэме «Мать-суббота»17.
Апокалипсис Маффесоли — это женский ноктюрнический Апокалипсис, означающий «триумф Диониса», даже не его самого, но его «тени»18.
АДАМ ПАРФРИ: ЗВЕРИНЫЙ ДОМ
Полюсом исследований явлений Постмодерна в США стал в 80-е годы ХХ века американский социолог, журналист и издатель Адам Парфри (1957 г. р.), создавший специальное издательство «Feral House», дословно — «Звериный дом», где опубликовал серию книг о постмодернистских явлениях в США, включая самые маргинальные и не упоминаемые широкой прессой. Парфри поставил своей целью каталогизировать все социально атипичное, странное, маргинальное, абсурдное, экстремальное в американском социуме — от социальных сетей цирковых лилипутов до сатанинских культов, от экстравагантных сект до субкультуры сумасшедших криминальных рокеров (таких как G.G. Allin), от энтузиастов теории заговора до искателей «снежного человека». Первый и наиболее известный сборник своих социологических зарисовок Парфри назвал «Apocalypse culture» («Культура Апокалипсиса»)19, и это название стало обобщающим концептом для целого спектра исследований: в американских книжных магазинах существуют специальные полки, отводящиеся под рубрику «Культура Апокалипсиса», где располагаются книги, написанные под влиянием Парфри и его направления в социологии Постмодерна. В этом же духе работал и В. Вэйл, издатель американского журнала «RE/Search», в котором публиковались систематизированные обзоры невероятно странной культуры (incredibly strange culture), включавшие невероятно странную музыку (incredibly strange musick), невероятно странное кино (incredibly strange cinema)20 и т. д.
МАГИСТРАЛЬНОСТЬ МАРГИНАЛЬНОГО
А. Парфри и В. Вэйл, а также их последователи и коллеги составили каталог тех направлений в искусстве, культуре, религии, политике, науке, которые в ХХ веке не укладывались в рамки «большого стиля», мэйнстрима, и были отвергнуты обществом в силу своей экстравагантности, неадекватности, а подчас и просто халтурности. Классическим примером этого типа является американcкий кинорежиссер Эд Вуд (1924–1978), признанный самым неудачливым и бездарным кинорежиссером за всю историю кино. А статусом самого глупого и провального кинопроекта ХХ века, по мнению некоторых критиков, следует наградить B-movie «Озеро зомби», которое начал снимать один бредовый (но культовый) кинорежиссер Джессо Франко (1930 г. р.), а закончил другой, еще более бредовый, — Жан Роллен (1938 г. р.).
С точки зрения Парфри и Вэйла, именно в таких законченных неудачниках, бездарностях, лузерах и чудаках (freaks) следует искать ключ к пониманию культуры Постмодерна, которая складывается на наших глазах. Те авторы, артисты, художники, которые нашли себе место в доминирующем социальном дискурсе, соответствовали внешним стандартам, а поэтому не несли ничего принципиально нового: они были на одном уровне с обществом и отражали его критерии. Маргиналы, неудачники, бездари и самовлюбленные недоумки развертывали в своем забытом, но воскрешенном усилиями Парфри и Вэйла творчестве новую систему координат, выстроенную не от общества в целом, а вопреки ему — стартуя от его минимальной ячейки, от его атома, пытавшегося интегрироваться в доминирующий дискурс, но свернувшего с полдороги или просто не сумевшего этого сделать. Такие фигуры, как Эд Вуд или Рэй Деннис Стеклер (1938–2009) (автор одного из самых неудачных в истории кино фильмов с названием «Невероятно странные существа, которые прекратили быть живыми и превратились в примешавшихся к людям зомби» 1964 года выпуска), воплощают в себе образы «культурных идиотов», у которых не хватило ума освоить законы социализации, и они остановились на полпути, направив свою энергию в немыслимо провальные произведения. Но именно эти «культурные идиоты» и их продукция и показывают в должном виде и с должными пропорциями судьбу логемы в Постмодерне — логемы как измельченного логоса, выброшенного на периферию и борющегося (с переменным успехом) с окружающим его стремительно растущим ничто.
Те, кто является маргиналами с точки зрения заканчивающегося Модерна, становятся ключевыми фигурами Постмодерна: их провал становится их успехом, их невнятность — новым критерием ясного послания. Вслед за исследователями маргинального эту линию подхватывают и крупные продюсеры. Так, об Эде Вуде ставится крупнобюджетный фильм Тима Бёртона с Джонни Деппом в главной роли, а поклонник Парфри Крис Картер запускает сериал «X-files», «Секретные материалы», с развитием самых нелепых конспирологических тем и сюжетов, впервые обозначенных Парфри.
СОЦИОЛОГИЯ ДЬЯВОЛА
Большую роль среди интересов Парфри и Вэйла играют явления современных сатанинских или околосатанинских сект. Эта тема является рекурсивной в различных секторах культуры Постмодерна. Так, метафору «бесовской текстуры» для определения характера постмодернистского текста (в отличие от структурированного дискурса Модерна, имеющего однозначное авторство) вводит Ролан Барт. Сатанизм, к которому апеллируют постмодернисты, как правило, не столько культовый, хотя они и обращаются к «Церкви Сатаны» Энтони Шандора Лавэя (1930–1997) или к парасатанинскому движению «Телема» Алистера Кроули (1875–1947), сколько эпистемологический, гносеологический и социологический.
В христианской религии — особенно в католичестве — фигура сатаны рассматривалась как антипод Христа-Логоса, как противник порядка и целостности, разрушающий единство и моральную выправку человека. В переводе с греческого «дьявол» (diaboloz) этимологически означает «разделяющий на части», «дробящий», «рассеивающий». Но именно это и происходит с логосом в Постмодерне — он рассыпается, дробится, рассеивается на множество составляющих логем. Перенос внимания на эти логемы и означает, по Барту, переход к «бесовской текстуре». Поэтому изучение сатанизма у американских социологов-постмодернистов имеет метафорическое значение. В конституированных неосатанинских сектах и течениях они видят выражение общего процесса, который в Постмодерне становится не маргинальным, а магистральным: разделение, дробление, рассеивание — эти атрибуты дьявола прилагаемы к постоянно возрастающему числу феноменов апокалиптической культуры.
К этому процессу относится и формальное описание подъема из бессознательного ноктюрнических мифем, которые несут в себе образы и фигуры, противоположные логосу и диурну и при определенном желании могущие быть отнесенными к неосатанизму или к неоведьмовству (течение WICCA, неоведьмовство, также является объектом исследований Адама Парфри).
В данном случае социологический термин «культура Апокалипсиса» приобретает еще одно, на сей раз буквальное, в отличие от использования этого термина Маффесоли, значение. Он описывает общество Постмодерна как общество секулярного сатанизма. «Бог умер», затем «умер человек», но дьявол остался. Он-то и дает о себе знать в новой постчеловеческой социологии.
«КУЛЬТУРНЫЙ ИДИОТ» КАК ПАРАДИГМА
В общем настрое «культуры Апокалипсиса» сатанинские культы и маргинальных артистов, «культурных идиотов» (обывателей, хаотическую молодежь, создателей новых «виртуальных племен» и т. д.), связывает между собой минимализированная социология Шюца. Общество исчезает, а на его месте возникают фрагментарные вспышки, мерцания-развертывания случайных и неструктурированных стратегий с виртуальной и пробабилистской каузальностью и невнятной субъектностью. Распыленные логемы сцепляются с поднимающимися из бессознательного ноктюрническими мифемами и образуют эфемерные экстатические топосы21, «места силы» (Маффесоли), блуждающие от интернет-форума к круглосуточному моллу, от бара к кинотеатру с попкорном, от дискотеки к месту перед домашним телевизором.
«Культурный идиот» начинает творить мир вокруг себя, не имея для этого ни диурнического логоса, ни чистого погружения в миф. Это и есть социологический сатанизм Постмодерна: здесь усталый логос все еще пытается удержать в подземелье расчлененный мифос, но уже не может с этим справиться, и на поверхность выходят первые случайные посланцы «подземного мира». Это «машина желаний», о которой говорят Делёз и Гваттари22, выпущенная на свободу, конфигурирующая ближнее — тело, эмоции, простейшие типификации — по случайным траекториям ризоматического процесса.
FREAK OUT SHOW
Интерес к маргинальному заставляет Постмодерн по-новому отнестись к периферийным социальным и человеческим типам. В центре внимания теперь находятся страдающие извращениями, больные, маньяки, а также уроды, калеки, карлики, горбуны, люди с физическими и психическими отклонениями. Выпячивание и подчеркивание порока, знаков вырождения и уродства, обыгрывание этих свойств или их сознательная имитация людьми «нормальными» вылилась в типично постмодернистское явление фрик-культуры — от английского freak, дословно — урод, извращенец. Freak занимает в социуме Премодерна и Модерна позицию на периферии общества, рассматривается как продукт неудачной социализации или инициации (в архаических обществах), зловещий знак сбоя в структуре человеческого и социального. Поэтому в архаических культурах и в народных массах вплоть до XIX века в России бытовали предания и мифы о связи «уродов» с нечистой силой. Рождение в семье калеки или карлика воспринималось как «подмена» — духи (лешие, русалки, упыри и т. д.) украли настоящего младенца и подложили в колыбель своего «демонического детеныша». Множество преданий повествуют о том, как «уроды», достигнув взрослого возраста, возвращаются назад к своим «настоящим» родителям, исчезая бесследно в лесу, на болотах или в речной стремнине. Физическое отклонение или психическое заболевание ставило таких людей в разряд «социологии сатанизма», зачисляло их потенциально в «свиту дьявола». Дьявольские процессии сопровождались поездом фриков, кривляющихся, беснующихся, выпячивающих свои уродства. В дионисийских оргиях принимали участия демоны — корибанты и вакханки, прообразы постмодернистских фриков.
В Постмодерне фигуры фриков, извращенцев, уродов и психопатов перемещаются с периферии в центр культурного внимания, определяют стандарты искусства, моды, стиля. Формально это оправдывается гуманизмом и соблюдением прав меньшинств в рамках общей идеи прав человека. Социологи Постмодерна показывают, что это, в свою очередь, есть поверхностная и ложная рационализация. На самом деле Постмодерн интересуется фриками по более глубокой причине. Фрик представляет собой фигуру, которая находится на субиндивидуальном уровне: совершить обычную индивидуальную интеграцию, доступную самому рядовому обывателю, для него почти нерешаемая проблема. Фрик есть воплощение взятой отдельно логемы, комбинация узнаваемо человеческих свойств, пока не выстроенных в цельность, сбившихся с пути, отклонившихся от цели, застрявших на полдороге. Это указывает на тот субатомарный социальный уровень, который вполне можно назвать подчеловеческим, недочеловеческим, где главной проблемой существа становится откладываемый и, возможно, никогда не достижимый идеал превращения в обычного среднего обывателя. Минимальная ячейка дезинтегрированного общества — культурный идиот — выступает для фрика тем, чем ранее общество как тотальное явление выступало для самого культурного идиота. Социализация во фрик-культуре снова меняет размерность. Отныне человек (точнее, уже недочеловек, фрик) стремится интегрироваться не в общество, но в полноценного человека, взятого вне социума. А критерии инклюзивности (способности включать в себя) все время расширяются. Поэтому полноценность применяется эвфемистически не только к тому, кто стремится выйти на нулевой уровень из глубокого минуса, но и к самому неполноценному статусу, взятому отдельно. Так, фрик поддерживается не в стремлении стать «не-фриком», но в своем статусе фрика, и этот статус теряет свое пейоративное (уничижительное) свойство, возводится в норму.
Поэтому, говоря о субатомарной социологии Постмодерна, мы можем говорить о фрик-социологии, где в центр внимания стоят уродство, вырождение и перверсия, принятые за норматив.
ФРИКИ В КИНЕМАТОГРАФЕ
Впервые к тематике фриков в кинематографе обратился американский режиссер Тод Браунинг (1880–1962), снявший еще в 1932 году знаменитый фильм «Freaks» («Уроды»), где снимались физически и умственно неполноценные актеры. Интерес к этому фильму возродился в 1980-е годы в русле «культуры Апокалипсиса», и старая версия получила широкое хождение в мэйнстрим-культуре.
В духе Браунинга были сняты фильмы постмодернистского режиссера Дэвида Линча (1946 г. р.) — в частности, «Человек-слон» (1980), о человеке, страдающем слоновьей болезнью, и «Голова-ластик» (1977), еще более абсурдная, галлюцинативная лента о недочеловеческом уроде, пытающемся справиться с минимальными жизненными ситуациями. Линч в своем творчестве постоянно обращается к комбинации логем. Персонажи его фильмов представляют собой получеловеческие атомы, заблудившиеся на подступах к индивидуальной целостности — каждый по своим причинам: наркотики, сумасшествие, психические и физические травмы — «Женщина с отрубленной ногой» (1974), криминал — «Синий бархат», проблемы с социализацией, уродство, инцестуальный импакт — Лора Палмер в «Твин Пикс» (1990–1991) и т. д. Один из последних фильмов Линча «Внутренняя империя» (2006) демонстрирует сложную цепочку подчеловеческих лабиринтов, наполненных логемами вперемешку с мифемами. Постепенно различие между людьми и животными стирается, и семейство кроликов на полных основаниях вплывает в сюжет, где номинально еще присутствуют люди — см. также короткометражную ленту «Кролики» (2002).
Тема фриков центральна и в творчестве культового режиссера Квентина Тарантино (1963 г. р.) и таких кинематографистов, как американец Роберт Родригес (1968 г. р.), японцы Такеши Миике (1960 г. р.) и Шинья Цукамото (1960 г. р.) и т. д. В отличие от Линча, который обращает внимание на внутренний мир персонажей и насыщает свои ленты образами ноктюрнических мифем, Тарантино и близкие к нему кинематографисты переполняют картины чрезмерной и подчас ироничной жестокостью. Героями становятся маньяки, гангстеры, представители японской «якудзы», оказывающиеся в центре распадающихся социальных связей и вынужденные организовывать подчеловеческое, субиндивидуальное пространство по микрозаконам неоправданного и бесцельного насилия. Насилие в кинематографии Постмодерна — это фрик-насилие. Оно изображается чрезмерным именно потому, что в логеме оно, напротив, ничтожно и имеет компенсаторный, остаточный, резидуальный, нозокомиальный характер (Маффесоли). Фрики Тарантино или Миике практикуют так много насилия на экране, потому что в стерилизованном асептизированном обществе его слишком мало. Диурн и его субпродукты (логос, логика и логистика) в Постмодерне подвергаются «чисткам», и сохранившейся после этих чисток логеме — как последнему отголоску воинственного героизма — остается обращать жалкие останки воли и мужества против самой себя (пирсинг, садо-мазо) или помещаться в гротескные и гиперболизированные образы фрик-злодеев большого экрана.
Помимо интеллектуального кино образы маньяков захлестнули и массовую кинопродукцию, ретранслируя те же основные социологические сюжеты — маниакальный фрик или дебил становится героем популярных лент: «Ганнибал» (2001 г. — про похождения маньяка-людоеда доктора Лектера, включая сиквелы), «Форрест Гамп» (1994 г. — про судьбу умственно неполноценного юноши) и т. д.
ФРИКИ И ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ БУДУЩЕГО
(«МНОЖЕСТВА» А. НЕГРИ И М. ХАРДТА)
Тема фриков, уродов как нормативных персонажей общества Постмодерна философски осмыслена в нашумевшей книге двух левых авторов Майкла Хардта и Антонио Негри «Империя»23. Они описывают новые условия Постмодерна и глобализации и дают им имя «империя», понимая под этим создание глобального мирового государства под эгидой США. В «империи» Негри и Хард выделяют два полюса: эксплуататоров (владельцев крупных корпораций, последних носителей власти и логистики) и множества (multitudes), которые создают ценности в ходе новых форм производства — в основном через компьютер, виртуальность и раскрепощение своих желаний и аффектов. Модели эксплуатации в «империи» иные, нежели ранее. Это общество контроля, а не дисциплинарного насилия. Множествам эксплуататоры предоставляют широкие права на том условии, что те будут формально следовать кодам и протоколам, установленным мировым правительством. «Империя» основана на сетевом признаке, в ней нет явного центра. Эксплуататоры группируются по наличию в них остатков логистики и логем. Множества все более тяготеют к освобождению от каких-либо логических свойств, стремятся высвободить аффект, спонтанную креативность и нецензурированные желания. Вместе с тем машины — компьютеры в первую очередь — выступают здесь двояко (как и в классическом капитализме): они повышают производительность труда и тем самым служат эксплуататорам, но могут стать и инструментом освобождения множеств, так как способны сконцентрировать в себе творческий потенциал и стать отправной точкой революции.
Так открывается возможность бегства людей в машины или сращивание с машинами, то есть создание гибридов между людьми и компьютерами, киборгов. С другой стороны, стирается граница между людьми и животными. Так, в серьезном социологическом и философском труде Негри и Хардта мы видим прямые призывы к активному формированию постчеловечества.
«Традиционные нормы внутри- и межгендерных телесных и сексуальных отношений все чаще ставятся под сомнение и видоизменяются. Сами тела преобразуются и приобретают новые качества, создавая новые постчеловеческие тела. Первым условием этого преобразования тел является признание того, что человеческая природа никоим образом не отделена от природы в целом, что не существует строгих и необходимых границ между человеком и животным, человеком и машиной, мужчиной и женщиной и так далее; это признание того, что сама природа является искусственной сферой, открытой всем новым мутациям, смешениям, гибридизациям. Мы не только сознательно ниспровергаем традиционные границы, одеваясь, к примеру, в рыболовную сеть, но мы к тому же перемещаемся в созидательной, неопределенной зоне аu milieu (в среде), в зазоре между этими границами, не обращая на них больше внимания. Сегодняшние процессы приобретения телами новых качеств составляют антропологический исход и представляют собой чрезвычайно важный, но все еще весьма двусмысленный элемент республиканской конфигурации, противостоящей имперской цивилизации»24.
Так Негри и Хард описывают фрик-общество будущего, когда к стилям одежды «под рыбу» добавятся люди-рыбы, выведенные в ходе генетических операций. По Негри и Хардту, это будет означать освобождение множеств от диктатуры «империи». Можно выразить это иначе: подъем ноктюрнических мифем и окончательное ниспровержение остаточных логем.
Негри и Хардт уточняют, каким должно быть тело «нового человека» («постчеловека») эпохи глобализации:
«Эксплуатация должна быть исключена из тела материальной рабочей силы, а также из социального знания и аффектов воспроизводства (рождения, любви, из всего спектра родственных и общественных отношений и так далее), которые объединяют стоимость и аффект в единую силу. Создание новых тел — вне эксплуатации — является основополагающим элементом базиса нового способа производства. <…> Мы нуждаемся в изменении собственных тел и себя самих, и, возможно, гораздо более радикальным способом, нежели тот, что воображают себе киберпанки. В нашем сегодняшнем мире теперь уже ставшие привычными эстетические телесные мутации — такие как пирсинг или татуировки, панк-мода, а также различные ее имитации — оказываются первым, ранним признаком этой телесной трансформации, хотя в конечном счете они являются лишь слабым подобием необходимой нам радикальной мутации. Воля быть против на самом деле нуждается в таком теле, которое будет совершенно неподвластно принуждению. Ей нужно тело, не способное привыкнуть к семейной жизни, фабричной дисциплине, правилам традиционной половой жизни и так далее»25.
Фигура фрика, телесность урода, вырожденца, калеки в сочетании с генетическими мутациями, сращиванием с машинами и раскрепощением биополитики желаний становится в таких проектах центром новой «постантропологии».
ПОСТМОДЕРН И АРХЕОМОДЕРН В СОВРЕМЕННОМ КИНО
Культура Постмодерна может быть рассмотрена двояко. С одной стороны, это последняя глава о метаморфозах диурна — о цепочке его трансформаций от героического мифа через логос, логику и логистику к логеме. Это одна линия генеалогии культуры; в этом смысле на постмодернистскую логему в смягченном виде переносится наследие солнечного диурна, социальности и религиозности. Это мы видим в той разновидности современной культуры, которая стремится утвердить и сохранить пусть минимальную, но преемственность именно логической части истории Запада. Американское и европейское кино, литература, живопись по большей части принадлежат к этому направлению, иронизируя над метаморфозами логоса или оплакивая их. Так, фильм «Нефть» («There will be blood») режиссера Пола Андерсона может рассматриваться как американская версия трагической истории солнечного героя Зигфрида или Геракла, хотя речь идет о грубой и ничтожной судьбе нефтепромышленника Плейнвью, носителя размывающейся логистики. Далее следуют уже герои Линча и Тарантино, представляющие собой логемы.
С другой стороны, археомодернистские общества Азии и других частей света легко имитируют постмодернистический трагизм измельчавшего логоса, но выражают теми же приемами нечто совсем другое — тоску мифоса, репрессированного плохо укоренившимся колониальным логосом. Это кино археомодерна. Яркий пример такого кино — серия фильмов Такеши Миике, которого можно назвать японским Тарантино (Тарантино появляется в качестве актера в фильме Миике «Сукияки Вестерн Джанго»), с той лишь разницей, что Миике представляет зрителям концентрированную боль задушенного модернизацией японского мифа, расчлененного на фрагменты и не способного собраться из отдельных мифем в нечто целое. При этом насилие, которого необычайно много в фильмах Миике, есть насилие мифологического диурна в его архаических формах, но связанного и дискредитированного внешним и чуждым логосом. Ключ к творчеству Миике — в фильме «Люди-птицы в Китае» (1998), где затерянный островок мифа и традиции описывается в самых нежных и искренних красках, выдавая творческую программу Миике — тоску человека общества археомодерна по цельности и свежести мифа, доступ к которому запрещен формальными рамками официального послевоенного социума. Другой японский художник, писатель и кинорежиссер Юкио Мисима (1925–1970), стремясь прорвать эти путы, попытался организовать традиционалистский антиамериканский мятеж в поддержку императора, но мятеж провалился, и Мисима совершил харакири.
Обобщая эти наблюдения, можно предположить, что в глобальном мире именно периферийные общества — общества археомодерна — будут систематическими поставщиками мифем в общее русло культуры, тогда как западная культура будет максимально долго хвататься за расплывающиеся логемы.
Контрольные вопросы
1. Что такое «культура Апокалипсиса»? Кто ввел этот термин?
2. В чем социологические особенности фигуры freak?
3. Какую роль играют множества в теориях Негри и Хардта?
ГЛАВА 11.4
ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАЧАЛ СОЦИАЛЬНОГО
В ПОСТМОДЕРНЕ
ОТ ОБЩЕСТВА К ПОСТОБЩЕСТВУ
Теперь рассмотрим, как трансформируются основные разобранные нами ранее темы в Постмодерне.
Общество, как его понимает большинство социологов вслед за Дюркгеймом, есть явление тотальное (это аксиома функционалистского подхода в социологии). Это значит, что социальные процессы полностью предопределяют все события, смыслы, явления общества, объясняют распределение статусов и заложенных в них ролей. Социальная структура есть структура абсолютная, которая снабжает смыслом, причинностью, телосом, значением и координатами любое явление. При этом общество всегда первично, а его члены — вторичны. Корректный социальный анализ общества скажет нам об этом обществе все, в том числе и то, что в нем понимается под человеком, субъектом, правом, гендером, индивидуумом, религией и даже временем и пространством.
Тотальность социума, его первичность и его фундаментальное предшествование всему остальному есть аксиома классической социологии. Социологический метод и есть выведение из социологической структуры отдельных фактов или цепочек фактов.
Однако уже с момента возникновения социологии в ее рамках развивались направления, которые пытались зайти с другого конца — оттолкнуться от индивидуума и систем, которые этот индивидуум структурирует вокруг себя в диалоге и взаимодействии с другими индивидуумами. Это и стали называть, вслед за Максом Вебером, понимающей социологией (мы обозначили это направление как социологический минимализм). Оно мало что объясняло в обществах Премодерна, архаических коллективах, и часто давало неадекватные результаты даже для современных обществ — по крайней мере пока эти общества руководствовались внятной социальной логикой или даже логистикой. Но в тех случаях, когда социальные системы существенно разряжались, утрачивали свое тотальное измерение (что имело место, например, в некоторых версиях либерально-демократического общества — в частности в США, и то лишь в ограниченной степени), понимающая социология оказывалась релевантной, так как путь от индивидуального случая — откуда метод case study социологов Барни Глезера (1930 г. р.) и Ансельма Штрауса (1916–1996) — к фундаментальным основаниям социальной матрицы был слишком далек и не поддавался корректной реконструкции.
Социум был тотальным изначально и остается таковым в своих основаниях до сих пор. Но если теоретически лишить общество свойства тотальности и первичности, то мы быстро придем к отрицанию общества вообще, к не-обществу. Нетотальное общество не есть общество. Если оно не первично, то его не существует, а на его месте можно гипотетически обосновать нечто иное. Этим иным и становится на наших глазах постобщество Постмодерна. Оно складывается как раз вокруг изолированных случаев, вокруг сингулярностей, не являющихся более частями никакого целого и не представляющих целое сами по себе. И в той ситуации понимающая социология, нерелевантная, когда общество есть, становится, напротив, внятной и конструктивной, когда общества больше нет и уже никогда не будет. Части чего-то, что забылось, скрылось за горизонтом и не в силах собраться воедино, как органы расчлененного тела, начинают действовать самостоятельно (такую картину описывал философ Эмпедокл Акрагантский (ок. 490 до н. э. — ок. 430 до н. э.), учивший, что раньше из земли росли отдельные органы — глаза, уши, ноги, руки, — которые лишь позже собрались в цельные организмы) и образуют вокруг себя причудливые и сингулярные узоры случайных связей. Доведение понимающей социологии, равно как и феноменологической социологии Шюца, до своих логических пределов дает нам метод для исследования постобщества как сетевой комбинации сошедших с ума обывателей; «культурных идиотов», получивших свободу и самостоятельность (от общества); шизомасс (Делёз и Гваттари); раскрепощенных множеств, радостно скрещивающихся с машинами и зверьми (Негри и Хардт); фриков и первертов, «излечивших» свою неполноценность возведением ее в норматив (А. Парфри) и т. д.
В Постмодерне общество как явление заканчивается, и вместе с ним заканчивается классическая социология. Ее ценность отныне ограничивается корректным описанием того, чем было общество и как оно было устроено, когда оно еще было. А из социологического минимализма постепенно вырастает социологический нигилизм, призванный описывать то явление, которое постепенно приходит на место общества. Пока оно может фигурировать под условным названием «постобщество», то есть то, во что превратится (частично превращается и уже превратилось) общество, когда перестанет быть самим собой. И в этом смысле при всех фундаментальных различиях, противоречиях и переворачиваниях смыслов и значений между Премодерном и Модерном обнаруживается, как это ни парадоксально, много общих черт. Самое главное, что и в Премодерне, и в Модерне общество есть, оно тотально и доминирует над всеми остальными формами человеческого (и нечеловеческого, раз «la natura e culturalmente condizzionata») бытия. В Постмодерне это более не так, но вместе с обществом исчезают или по меньшей мере подвергаются фундаментальной трансформации и многие сопутствующие явления — человек, время, пространство, сакральное, мышление, логос, мифос, бессознательное, сознание, пол, политика, природа и т. д.
ПОСТМОДЕРН И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
В данной книге мы постоянно подчеркивали двухэтажность научной топики, которой мы руководствовались, и гомологию социального и бессознательного, соучаствующих синхронно и гармонично (в большинстве случаев — по меньшей мере — взаимосвязанно) во всех рассматриваемых нами процессах, имеющих одновременно как социальное, так и психоаналитическое (имагинативное) измерение. Гипотеза Постмодерна о конце общества, неизбежно вытекающая из самой парадигмы Постмодерна, должна по принципу симметрии означать и конец бессознательного, конец имажинэра.
По Делёзу и Гваттари, наиболее авангардно мыслившим философам Постмодерна, именно это и должно произойти. С их точки зрения, репрессивные стратегии сознания, логоса (кроны древа) суть отражения неравенств, формирующихся в теле и порождающих вначале измерения глубины (корни), а затем неправомерно переводящих его в измерение высоты на уровне логоса, устанавливая тем самым ненавистные для постструктуралистов иерархии и территориализации. Деструкция структур логоса поэтому должна сопровождаться деструкцией структур бессознательного. В этом и состоит смысл постструктурализма: его задача — изгнать структуру как таковую и из области сознания, и из области бессознательного, лишить индивидуума или того, что от него останется, одновременно и измерения высоты (логос, рассудок), и измерения глубины (бессознательное). Этому посвящена книга Делёза и Гваттари «Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения»26, где авторы подвергают критике фрейдизм как подход, основанный на мужском взгляде на сексуальность и признающий в бессознательном четкую структурализацию, даже если речь идет о структурализации желания и мифа.
Задача Постмодерна — перейти от социальности (логос) и бессознательного (мифос) к поверхности (к черте человеческой дроби, которая разделяла логос и мифос), взятой отдельно — сама по себе. Эта поверхность должна стать местом плоскостных отражений мифоса и логоса, спроецированных с двух сторон на полупрозрачное полотно (экран). И только в таком качестве содержание логического (социального) и бессознательного (мифологического) может быть допущено в норматив Постмодерна — постобщество, лишенное измерений глубины и высоты. Это и есть ризома. Не просто бессознательное, но именно сплющивание логемы и мифемы до двухмерной проекции, образующей «тысячу плато» или причудливые напластования многослойного клубня.
Постмодернистская программа в психоанализе состоит отныне не в освобождении подсознания, но в освобождении от подсознания. В этом можно увидеть последнее пожелание логоса, коренящегося в великой программе развертывания диурна. Даже на последнем дыхании — в форме логемы — он требует ликвидации мифоса (вполне просвещенческое требование). Но сам логос — логема — тоже больше не в силах поддерживать вертикальность, он готов распластаться по поверхности с обратной стороны от мифемы — правда, при том условии, что и мифема откажется от своего глубинного измерения. Конкретика этого ризоматического договора прекрасно видна в фильмах Тарантино — логема в нем падает плашмя, но только при четком условии того, что мифема в свою очередь готова распластаться с другой стороны дробной черты, приклеиться к ней в страстном поцелуе через витрину, киноэкран или монитор компьютера.
Поэтому воля к ничто у Делёза — это воля именно к ничто, а не к бессознательному. Он прекрасно осознает возможность этой «ловушки» и поэтому тщательно дистанцируется от структурализма, оспаривает его подход, опровергает его стратегии. Делёз ясно понимает, что структурализм с его канонизацией мифа в любой момент готов просто заменить измельчавший логос апелляцией к вечному возвращению архетипов и тем самым закрыть цикл логоса. Именно этого-то Делёз и не хочет допустить ни при каких обстоятельствах. Миф для него — враг, а ничто — друг.
До какой степени удастся сохранить баланс и помешать всплытию архетипов — пусть даже в форме разрозненных мифем — со всеми их измерениями (превышающими два), трудно сказать заранее. Ставка Постмодерна и глобализации со стороны логемы делается на то, что это удастся. Археомодерн ставок не делает, так как себя не осознает, но явно собирается играть на противоположной стороне. При этом — реалистично это или нет — официальной программой глобализации является ликвидация бессознательного, совершенно в той же мере, как и ликвидация социума.
РЕЖИМЫ ВООБРАЖЕНИЯ И ПОСТМОДЕРН: «МУСИ-ПУСИ»
Если оставить в стороне программу-максимум Постмодерна по ликвидации бессознательного вообще, можно заметить, что наиболее частыми обращениями к мифемам в Постмодерне являются обращения к ноктюрну. Эвфемизм, хотя и противоположен логеме по определению, по мере остывания ее бдительности постепенно проникает повсюду. В худшем положении оказывается диурн. Он блокирован и в сфере логоса (логема противостоит и логистике, и логике, и логосу, и тем более чистому диурну — отсюда обязательный «антифашизм» Постмодерна), и в сфере мифоса, где начинают шевелиться именно наиболее донные пласты, подвергавшиеся дискриминациям и репрессиям начиная с самых архаических периодов развертывания социума. Отсюда характерные для Постмодерна обращения к Дионису и сатанизму, а также к прямым или косвенным феминоидным культам: откровенным, в форме неоведьмовства, — WICCA — и несколько завуалированным — в неофеминизме, а также в растущей индустрии для женщин (макияж, загар, стретчинг, спортинг, липосакция, подтяжки кожи, омоложение, средства гигиены, гормональная терапия и т. д.).
Ноктюрн, как мы видели, никогда не допускался в общество напрямую, он предварительно обязательно подвергался экзорцизму. Социум и ноктюрн — противоположности. Но когда общество самоликвидируется в пользу постобщества, у ноктюрна больше нет ограничений, и он наконец-то свободен занять позиции, которые ранее занимать никак не мог.
Два явных признака поднимающегося в Постомодерне ноктюрна — это индустрия еды и индустрия секса (об этом шла речь в предыдущем разделе). Питание и половые отношения были жестко регламентированы во всех типах обществ. Это следствие работы диурна и героического мифа, допускающего в социум живот, лоно (в обоих смыслах — и дигестивном, и эротическом) только через цепочку очистительных ритуалов. Ноктюрн и есть та сфера бессознательного, которая подвергается табу, а в случае разрешенности и очищения становится нао.
Постмодерн, ликвидируя общество, ликвидирует основания для цензурирования ноктюрна. Бесстыдство еды и бесстыдство секса идут в постобществе рука об руку. В рекламе, маркетологии, медийных стратегиях они тесно переплетаются. В этом смысле чрезвычайно показательна эстрадная песенка российской исполнительницы Кати Лель «Муси-пуси»27. Рефрен более чем выразителен:
Муси-муси, пуси-пуси, миленький мой,
Я горю, я вся во вкусе рядом с тобой.
Я как бабочка порхаю над всем, и всё без проблем
Я ночью тебя съем.
Здесь характерно сочетание эротического и нутритивного контекстов, которые совпадают по линии интеграции ноктюрнических мифем. Эротика и принятие пищи сливаются в общий комплекс «муси-пуси», что можно рассматривать как норматив постсоциологии. Это и есть работа усталой логемы, выстраивающей окружающее бытие вдоль сливающихся осей ноктюрна. Отсюда и эвфемизация бытия — порхающая «бабочка-душа» и «все без проблем». «Проблем нет» — это громко сказано. Проблемы есть, и они повсюду, но развертывающийся ноктюрн по формату антифразы обозначает имеющиеся проблемы формулами «нет проблем», «без проблем», «никаких проблем». С логической точки зрения проблемы от этого не решаются, а с точки зрения ноктюрнической мифемы — «решаются». Логема дрожит между тем и другим, она готова рухнуть в мифему и никогда больше не давать о себе знать. Впрочем, такие песни характерны для общества археомодерна, где сползание в эвфемизированный идиотизм — операция привычная и несложная.
Развивая эту линию, можно сказать, что постобщество должно и далее легитимировать питание и секс, снимая один запрет за другим. Это мы видим в тенденции мэйнстримного кино: постепенно туда включаются не просто эротические сцены, но прямая порнография, настаивающая на «художественном» значении соответствующих эпизодов. Сетевое общество Интернет демонстрирует повальный вирус виртуальной порнографии. Жующий гамбургер неопрятный осоловелый интернетчик, рассматривающий на экране (поверхность Делёза) порнокартинки, — классическая фигура постмодернистского постобщества.
Постмодерн — это тенденция построения общества на тех принципах, которые исключают общество: на еде и стерильном (все более и более извращенном) сексе, а также на сопровождающих их аксессуарах. Это (пост)общество ноктюрна, где диурн в чистом виде демонтирован, маргинализирован и криминализирован.
ПОСТВРЕМЯ И ПОСТИСТОРИЯ
Время как социальное явление в Постмодерне, то есть в постсоциальном контексте, утрачивает свое качество. Наступает период постистории [Ж. Бодрийяр, Дж. Ваттимо (1936 г. р.)], где исчезает событие, составлявшее сущность истории такой, какой ее знали монотеистические религии и Модерн. Вместе с тем постистория не есть возврат к мифу «вечного возвращения» архаического Премодерна, так как циклы представляют собой ритмическое развитие и свертывание определенных символических комплексов. Постистория — это длящееся само по себе время, в котором ничего не происходит, у которого нет смысла, нет символизма и нет последовательности. Оно возбуждается стохастически, приливами случайных энергетических волн, которые быстро иссякают, не оставляя следа и не порождая содержания. В постистории происходит постоянное рециклирование одного и того же, но так как субъектность постмодернистских шизомасс является текучей, непостоянной, то никто не способен засвидетельствовать, что нечто уже было или его уже показывали.
Если в Премодерне и Модерне созерцатель и актор были более или менее постоянными, а развертывающиеся ситуации — либо новыми, либо одинаковыми, то в Постмодерне созерцатель и актор постоянно видоизменяются и не могут судить внятно о том, было раньше или нет то, с чем они сталкиваются (так как никакой онтологии у раньше нет). Стратегия «завоевания настоящего», презентизм Маффесоли, ведет к экстатическому постулированию банального и обычного в качестве совершенно нового и невиданного, чудесного, так как для переменного субъекта, не конституирующего себя во времени, банального и обычного нет, поскольку нет той константы, с которой можно было бы что-то сравнивать.
Сюда же относится концепт Делёза о хроносе и эоне, который мы рассмотрели в разделе, посвященном социологии времени. История — в том числе и личная история — становится игрой, насыщенной только энергией настоящего и бессодержательного. Если энергии телесного настоящего сильны, личная история оказывается насыщенной, если слабы — вялой. Постистория включает в себя ризоматическую произвольность порождать условные «до» и «после» в любом порядке. В кинематографе нарушение хронологической и логической последовательности прекрасно иллюстрирует тот же Квентин Тарантино — «Криминальное чтиво» (1994).
В Постмодерне время перестает быть социальным. Но, само собой разумеется, оно не становится физическим временем естественных наук, так как сами эти науки социальны и упраздняются вместе с социумом — с социумом Модерна. Единственным временем, которое можно помыслить за пределом социальности, остается время-смерть как то, с чем сталкивается в примордиальном диалоге имажинэр и с чего начинается дифференциация режимов в коллективном бессознательном. Диурн жестко противопоставляет себя времени-смерти и отвечает на вызов развертыванием социальной оси вечности. Ноктюрн поступает иначе и эвфемизирует время-смерть как «жизнь». В обоих случаях возникает социальное или мифологическое время, насыщенное внутренней динамикой имажинэра.
В Постмодерне предполагается, что время-смерть обнаружит себя помимо всех стратегических социальных и мифологических содержаний — без событий, укрощений, фиксаций и эвфемизаций. То есть оно станет чистым временем-смертью — прерывностью антропологического траекта, — разделяющим могуществом извне, которому уже ничто не может противиться.
Одновременно в Постмодерне системный подход полностью вытесняет структурный. Время больше не вписывается ни в какую структуру, но вписывает все в самое себя. Системность постоянно меняется, а значит, все явления, события, факты и сущности рекомбинируются всякий раз по-новому. Так как любая нормативность комбинаций отвергается заведомо (это и есть отказ от структурного подхода), то каждая перегруппировка элементов интерпретируется по-новому — на основе эмерджентных критериев. Такой подход лежит в основе синергетики, развивавшейся Ильей Пригожиным и его последователями28, и точно соответствует стилю Постмодерна. Время (как пустое время-смерть) входит внутрь явлений, процессов, самого вещества. Само бытие становится функцией от времени, а значит, бытие мыслится как эвфемизация смерти.
ПОСТПРОСТРАНСТВО
Не менее важные трансформации происходят и с пространством29. Будучи тождественным имажинэру и траекту, пространство призвано исчезнуть. Пространство более не объединяет и не разъединяет, не «спасает», помещая в контекст синхроничности то, что обречено на уничтожение в цепи диахроничности. Пространство превращается во время, но не в социальном смысле, а в фундаментальном смысле времени-смерти. Пространства в Постмодерне нет.
По Делёзу, все подвергается детерриториализации, отрыву от ландшафта. И в то же время фиксированность пространства прерывается, оно начинает постоянно видоизменяться. Это пришедшее в движение, тронувшееся пространство становится функцией от времени-смерти, то есть топосом, в котором время-смерть настигает имажинэр. Социальная морфология рушится, уступая место свободному движению электронов «культурного идиотизма», которые создают своим беснованием квазипространство, виртуальное пространство, пространство «бесовской текстуры». В этом постпространстве развертываются серии «черных чудес»30 — того, чего не может быть, но что тем не менее есть. При этом в отличие от чудес Премодерна «черные чудеса» не несут в себе никакого смысла, ничего не означают, никак не интерпретируются, никуда не интегрируются. Эти «чудеса» просто сбивают с толку и ставят созерцающего на наклонную скользкую поверхность, где на другом конце зияет время-смерть. Это не пространство кладбища, это пространство бойни.
ОКОНЧАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ЦЕЛИ
Рассмотрим, что происходит в Постмодерне с человеком. В социологии человек есть фундаментальная структура, антропологический траект, развертывающий себя в социум, с одной стороны, и обобщающий бессознательное через процесс индивидуации — с другой. Социум и коллективное бессознательное предстают полностью симметричными явлениями и выступают как «большой человек», homo maximus.
У «малого человека» — конкретного носителя социального и бессознательного (который, впрочем, может масштабироваться по-разному в разных обществах — от силы, духа, группы до индивидуума, как мы видели в случае с меланезийским Dо Каmо) — есть одна задача: стать «большим человеком», то есть интегрировать внутренние и внешние структуры антропологического траекта (социум и бессознательное) в себя самого и расширить тем самым себя до масштаба «человеческого». Цель человека — стать человеком.
Этот процесс реализуется на двух уровнях — через социализацию (освоение на уровне сознания социальных нормативов и отношений, обретение статусов, исполнение ролей и т. д.) и через индивидуацию (перевод содержания коллективного бессознательного на уровень сознания — что чаще всего происходит в ходе инициации). С точки зрения социальной антропологии оба действия — социализация и индивидуация (инициация) — суть одно и то же действие, так как человек социален и мифологичен в самой своей сути. Так или иначе, данное соотношение сохраняется во всех типах общества — как бы они ни конфигурировали статусы, стратификацию, роли, какие бы социальные и политические институты ни учреждали и какими бы религиями и идеологиями ни руководствовались. Формула общества выглядит следующим образом.
ОБЩЕСТВО=БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ=ЧЕЛОВЕК
(АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАЕКТ)= СТРУКТУРА
Эта формула в общем виде действует и в условиях Премодерна (где она наиболее очевидна), и в условиях Модерна (где между членами равенства начинает проявляться асимметрия и от тождества мы переходим к подобию). В условиях Постмодерна эта формула рушится, и все равенство перестает быть верным.
Во-первых, необратимо трансформируется само общество, которое перестает быть развернутой структурой «большого человека». Фундаментальные свойства социума — тотальность, интегративность, холизм, первичность — отрицаются, а значит, общества — таким, каким его знали Премодерн и Модерн — более не существует. Во-вторых, Постмодерн ставит перед собой задачу изгнания структуры (постструктурализм), то есть окончательного перехода от структурного подхода к системному. В-третьих, бессознательное либо индивидуализируется, либо, как у Делёза, подлежит превращению в поверхность, сплющиванию. Легитимация идиотов, фриков и первертов в качестве норматива (шизомассы) лишает человека последней возможности нормативной индивидуации, так как исчезает представление об общей базе (коллективном бессознательном) и об императивном сценарии (социализации). Вместо человека как задания появляется человек как данность с экзистенциальным лозунгом «И так сойдет».
В результате исчезает «большой человек» как нормативная интегрирующая инстанция, которая ориентировала бы социализацию и индивидуацию по ясно обозначенному сценарию, отражающему основные параметры каждого конкретного общества, то есть конкретные издания «большого человека». Остается только «маленький человек», не равный ни обществу, ни бессознательному, ни структуре. Это значит, что он больше не может утвердить свое содержание, поскольку выпадает из всех языков. Он утрачивает свое коннотативное свойство — в сопоставлении с общим языковым полем, — выпадает из текста и превращается в пустой знак, не означающий ничего ни для других, ни для самого себя. От социального логоса у него остается фрактурированная логема; от бессознательного — набор разрозненных мифем. Перед ним простираются пустыни стремительно дезинтегрирующегося социума, который отступает, предоставляя «малому человеку» свободное пространство, заполненное временем-смертью.
ПОСТЧЕЛОВЕК: MAD MAX И ТЕТСУО
«Малый человек» имеет дело с комбинацией останков (residui) — как социальных, так и психических. Изнутри поднимаются ноктюрнические мифемы. Вовне — рвутся социальные связи и рассыпаются в прах социальные структуры. Утратив связь с историей, «малый человек», предоставленный сам себе, не понимает целей и причин многих технических, социальных и культурных объектов, которые начинает использовать не по назначению либо вообще утрачивать. Ситуация напоминает картины фильма «Mad Max» (1978 г., режиссер Джордж Миллер), где одичалые банды выживших после ядерной катастрофы людей, утративших культурные и цивилизационные коды, выстраивают постцивилизацию в бескрайней пустыне, испещренной случайно сохранившимися остатками технической инфраструктуры прежнего человечества. В Постмодерне это «новое варварство» (к которому призывают, в частности, Негри и Хардт) наступает не после «ядерной катастрофы», но вместо нее. Модерну трудно помыслить ситуацию, в которой демонтаж его привычных социальных структур придет изнутри него самого, а не извне, как следствие чрезвычайных обстоятельств. Снос этих структур, тем не менее, идет последние десятилетия полным ходом, и «малый человек», Mad Max, перестает быть гипотетическим персонажем грядущей дистопии, но незаметно становится типовой фигурой будничного постмодернистского пейзажа уже сейчас.
Такая антропологическая картина ставит на повестку дня появление постчеловека — киборга, клона, мутанта, человека-машины (фильм «Тетсуо. Железный человек» (1989) японского режиссера Шиньи Цукамото и т. д.). Одна из задач в выведении постчеловека — лишить его бессознательного, воспроизвести симулякр человека, его дубль. Дубль можно вооружить не только логемой (способностью отличать одно от другого и разрабатывать короткие стратегические циклы поведения), но и протезом мифемы — ассоциативными аппаратами, датчиками аффектов, эмуляторами желаний (все это с каждым днем становится все более осуществимо технически). Симуляцию человека, постоянно интегрирующегося в социум и постоянно индивидуализирующего коллективное бессознательное, осуществить невозможно. Но продукт фрагментации человека — «малый человек», постепенно соскальзывающий к недочеловеку, к полуживотному-полумашине, — имитации и техническому воспроизводству теоретически подлежит. Более того, в пределе между «культурным идиотом» естественного происхождения и рациональной и слегка чувствующей машиной большой разницы не будет ощущаться, разве что киборги будут несколько разнообразнее, спонтаннее, креативнее и естественнее, нежели натуральные «малые люди».
КОНЕЦ ИДЕОЛОГИЙ И ПОСТИДЕОЛОГИИ
Возникшие на пике Модерна идеологии в Постмодерне испаряются. Это уже в 60-е годы прошлого века провозгласил американский социолог Дэниел Белл (1919 г. р.) в книге с характерным названием «Конец идеологий»31. С тех пор это явление находило новые и новые подтверждения, так как идеологические модели требовали слишком большого напряжения и были под силу только логосу и логике. Белл предсказывал начало постиндустриального общества32, основанного на преобладании технического подхода и абсолютизации логистики. Он предрекал исчезновение культуры и искусства как слишком иррациональных факторов, мешающих чисто техническому и технологическому развитию, считая, что в будущем будут доминировать прагматика и оптимизация.
Идеи Белла, получившие широкий резонанс, с одной стороны, принадлежат к либеральной идеологии, но развивают лишь отдельные ее стороны, связанные чистой логистикой. Этот переход от либеральной логики (собственно идеологии) к либеральной логистике представляет собой промежуточный этап становления общества Постмодерна, где масштаб будет еще раз существенно уменьшен и где идеология практически растворится окончательно.
Проблема Постмодерна и его отношения к идеологии требует более пристального изучения. Постмодерн складывается на основании либеральной идеологии как последний и естественный вывод из ее предпосылок. Либерализм ставит во главу угла индивидуума («малого человека») с самого начала, хотя на первых этапах либералы сохраняют и общество, и государство, и мораль, и формы социальной мобилизации, и национальную идею. Социологический минимализм, тесно сопряженный с либерализмом, вводит конститутивную фигуру как важнейший теоретический конструкт еще до того, как этот изолированный индивидуум появится в социальной реальности. Тем самым либерализм и понимающая социология предвосхищают Постмодерн и его условия, но при этом несколько забегают вперед — подобно фантастическим фильмам или социальным прогнозам, моделирующим реальность на несколько шагов в будущее (self-fullfilled prophecy — «самосбывающееся пророчество» социолога Р. Мертона).
Постмодерн и центральная фигура периферийного «малого человека», «культурного идиота» моделируются в либерализме изначально и являются поэтому идеологическими и социологическими конструктами буржуазного общества. Реальностью они становятся тогда, когда потребность в мобилизующей идеологии отпадает. Противостояние с СССР снимается с повестки дня в 1991 году вместе с исчезновением СССР, и тезис Белла о «конце идеологий» становится очевидностью. Отныне либерализм меняет свой статус — из идеологии он превращается в бытовую практику, от уровня идей переходит на уровень фактов, вещей и процессов. Победив, либерализм становится излишним в качестве идеологии, перестает осознаваться как идеологическая форма, а его обобщающие предпосылки становятся необязательными и чрезмерными именно в силу того, что они уже выполнили свою миссию и более не оперативны.
Из этого следует важный социологический вывод: Постмодерн является либеральным по своему генезису, но не является идеологичным (даже в либеральном смысле) по своему статус-кво. Отсюда вытекает стилистика Постмодерна, где скрытые установки либерализма (свобода, рынок, равенство возможностей, оптимизация, индивидуализм и т. д.) соседствуют с ироническим обращением к тоталитарной эстетике, высмеивающим страхи либерализма предыдущего поколения (майки с коммунистом Че Геварой, игровая глорификация деятелей, близких к фашизму, например мюзикл «Эвита» 1996 года с Мадонной в роли жены аргентинского диктатора Хуана Перона (1895–1974), неототалитарная эстетика рок-групп «Лайбах» или «Раммштайн» и т. д.).
Постмодерн — это либерализм, который перестал быть идеологией, и это новое качество всемерно подчеркивается ироничной и провокационной эстетикой постмодернистской культуры.
С другой стороны, Постмодерн осмысляется как возможность реванша и некоторыми левыми кругами постмарксистов, фрейдомарксистов, анархистов и т. д. Делёз и Негри относят себя к левым, к «коммунистам», и видят в Постмодерне перспективы искоренения буржуазного начала.
Негри и Хардт сами воспринимали свою книгу «Империя»33 как новый манифест коммунистической партии, относящийся не к Модерну, но к Постмодерну. Негри и Хардт пытаются воспроизвести двусмысленность отношения Маркса к капитализму: считая капитализм абсолютным врагом пролетариата, он тем не менее признавал «прогрессивный» характер капиталистических революций и поддерживал буржуазные преобразования перед лицом сословного общества и остатков феодализма. Негри и Хардт так же относятся к победившему глобализму и планетарному либерализму, рассматривая их диалектически: одновременно и как зло (создание тотальной планетарной системы контроля), и как благо (выведение на авансцену закончившейся истории нового «революционного» класса — множества, разлагающейся массы, планетарных юзеров и лузеров, в которых энтропически агонизируют рассеянные блуждающие вялые желания, стремящиеся выйти из-под контроля всепронизывающего кода). Саботаж сетевых протоколов и апроприация компьютерных устройств, на которых «множества», «избавленные от власти имперских эксплуататоров», немедленно станут свободно рассылать вирусы и тонны нецензурируемой первертной порнографии, станут, по Негри и Хардту, аналогом коммунистических революций и победой «людей труда» в новых исторических условиях. Так «множества» смогут использовать либеральную, точнее постлиберальную, глобализацию в своих интересах.
В культуре Постмодерна обе эти тенденции — либеральная (постлиберальная) и неокоммунистическая — сливаются до неразличения, а эстетика глобализма и эстетика антиглобализма незаметно переходят одна в другую. Кассовое мэйнстримное искусство тиражирует антиглобалистские и левацкие сюжеты и темы, а сами антиглобалисты в обычной жизни представляют собой типичных законопослушных мелких буржуа, полностью подчиненных коду. При этом и глобалисты, и антиглобалисты вполне могут при случае вырядиться в нацистскую форму, чтобы блеснуть на дэнс-вечеринке или в закрытом клубе. Постмодерн берет от либерализма все, кроме либерального логоса и либеральной догматики; от коммунизма — юношескую протестность, стремление перевернуть и сжечь автомобиль, разбить витрину, проглотить пригоршню таблеток и прогулять занятия в институте; от фашизма — атрибуты садо-мазо-развлечений и униформы для гей-парадов.
ПОСТМОДЕРН И РЕЛИГИЯ (СИМУЛЯКР И САТАНИЗМ)
Религия в Постмодерне выступает в трех основных формах:
- симуляция религиозного возрождения;
- новая религиозность (культы, секты, синкретизм, оккультизм);
- сатанизм.
Видимость религиозного возрождения традиционных конфессий связана с ослаблением давления Модерна и свертыванием обязательной модернизации. Постмодерну в отличие от Модерна религия не опасна, так как Постмодерн наступает тогда, когда социальные связи прошли точку разрыва и никакие по-настоящему интегрированные тотальные социальные явления невозможны.
Религия, и особенно ее возрождение, была бы опасна для Модерна и, соответственно, недопустима тогда, когда сохранялось общество. Религия как социальное явление могла бы в таком случае конкурировать за внедрение своего социального кода, а это было бы несовместимо с программой Модерна и внедрением его парадигм. Отсюда жесткость Вандеи, гонения на русских староверов или антирелигиозная война в СССР. Модерн нетерпим к религии. Постмодерн развертывается тогда, когда уверенность в необратимом разрыве принципиальных общественных связей и демонтаже социальных структур достигнута и никакой фактор не способен собрать исчезнувшее общество вновь в нечто цельное и солидарное. Здесь-то антирелигиозный заслон снимается, и то, что было под прессом Модерна, выходит на поверхность.
Однако, выходя на поверхность, традиционные религии оказываются в двусмысленной ситуации. Пребывая на периферии, в социальном «подполье», в течение всего цикла Модерна, они обросли многими элементами мифа, которые исказили стройность их богословского логоса. Пребывая почти в бессознательном, они были не способны культивировать религиозное сознание, так как носители этого сознания не могли бы не проявиться вовне, став удобными жертвами для атеистических ликвидаторов. Религия смогла выжить в Модерне только за счет перехода в режим бессознательного, а еще точнее — в режим ноктюрна. Необходимость адаптации к социальным условиям, прямо противоположным тем, которые в религии считались нормативными, приводила к развитию эвфемизмов, двусмысленностей, риторических фигур в самой религии. Высказывание местоблюстителя Патриаршего престола, а позже — Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) в отношении атеистического, антихристианского режима Сталина и, шире, СССР — «Ваши успехи — наши успехи» — является ярким образцом антифразы («вы в нас плюйте, нам приятно»). Другим примером эвфемизма является Второй Ватиканский собор 1962 года, где без репрессий и гонений католики пошли навстречу требованиям Модерна в беспрецедентном объеме, отказавшись от большинства принципов, которые в течение почти двух тысячелетий составляли неизменную парадигму католицизма.
Естественно, что в Постмодерне, выходя на поверхность, религии, которым никто больше не угрожает, демонстрируют свойства, ставшие для них неотъемлемыми в условиях модернистского гетто. Они потеряли свой социальный логос (свою социальность) и лучше всего сохранились в своих ноктюрнических, эвфемистических, мифологических аспектах. Отсюда харизматизм и материальные культы в католицизме, мистицизм и старчество — в русском православии. Поднимаясь в таком виде из подполья, традиционные религии не могут выступать социальными интеграторами и представлять серьезную угрозу Постмодерну, уверенному в необратимости социальных разрывов. Другими словами, коль скоро религия утрачивает свое логосное и социальное измерение, она вполне может быть терпима в Постмодерне. Вместе с тем такая религия с точки зрения ее фундаментальной структуры есть не что иное, как симулякр.
Новая религиозность — другая форма проявления религии в Постмодерне. В ней либо реализуется стремление к экзотике (кришнаизм, йога, секта Муна и т. д.), либо сбитые с толку разрозненные интуиции собираются в случайные и необоснованные связки (оккультизм, теософизм, New Age), либо складываются искусственные синкретические системы, где есть всего понемногу: фрагменты традиционных религий, экзотические культы, колдовство, гадание, гимнастика, обещания поправить карму и т. д. Новая религиозность полностью соответствует стилю Постмодерна с его тяготением к сочетанию несочетаемого, вкусом к парадоксу, к абсурдному нагромождению разрозненных элементов.
Сатанизм, о котором мы говорили, также является явлением Постмодерна. Большинство сатанинских культов и течений — продукты Модерна. Они появились на периферии Модерна в декадентских салонах, вначале для развлечения скучающей от механической технократии богемы. Никакого отношения к сатанизму средневековому — чем бы он ни был, самостоятельным ли течением или сохранившимся вопреки христианизации языческим культом — он не имеет. Но социальную форму и определенную институциализацию новый сатанизм получил позже, при переходе к Постмодерну.
Сатанизм близок к Постмодерну за счет своей установки на:
- пародийность (дьявол — пересмешник, иногда он именуется «обезьяной Бога»);
- отказ от авторитетов (Люцифер пал из-за гордыни, а безусловная свобода есть норматив либерализма);
- раскрепощение желаний (сатана — соблазнитель по преимуществу);
- реабилитацию фриков и первертов (Вельзевул — король уродов) и т. д.
В сатанизме общие тенденции Постмодерна ритуализируются, концентрируются и систематизируются. То есть сама сущность Постмодерна находит в нем наиболее адекватное, хотя и несколько старомодное и наивное воплощение.
ПОСТПОЛИТИКА (ПОСТВЛАСТЬ)
Программа Постмодерна состоит в упразднении политики и, соответственно, в распылении вертикали власти. Это последний предел демократизации, переводящей инстанцию принятия решения на все более и более низкий уровень. Этому же соответствует и логика перехода по цепочке диурн–логос–логика–логистика–логема. «Принудительные отношения» (П. Сорокин), которые способен выстроить «малый человек», в Постмодерне должны иметь минимальный масштаб, а в перспективе — не превышать границ собственного тела. Человек (постчеловек) может в полной мере распоряжаться и командовать только своим телом. Можно продлить идею переноса центра власти на все меньшую размерность и представить себе ситуацию, когда центр власти сместится на субиндивидуальный уровень.
Отношение к власти в Постмодерне основывается на недоверии к диурну во всех его измерениях — от логоса до логемы. Сама логема, чтобы оправдать свое отдаленное родство с диурном, должна постоянно «каяться» и «очищаться от следов нетолерантности и эксклюзивизма». Оптимально это происходит в том случае, если логема в качестве официальной политической доктрины начинает исповедовать чистый нигилизм. Нигилизм, как мы видели, является продуктом логоса, а значит, принадлежит к сфере диурна и, соответственно, власти и политики. Поэтому логема, стремящаяся максимально соответствовать требованиям Постмодерна, должна быть максимально нигилистична. В этом случае она будет отвечать двум почти противоречащим друг другу требованиям — оставаться логемой, но в то же время быть максимально, насколько это возможно, далекой от диурна и логоса. Воля к ничто, о которой говорит Делёз, становится политической программой. Ничто — это единственная инстанция, которой можно доверить власть в Постмодерне, все остальные формы властвования и социальных стратификаций подлежат размыванию, а потом и отмене. «Малый человек» правит над собой, но и то только при ориентации этой власти на реализацию ничто.
Иными словами, у власти — даже над собой — не должно быть никаких социальных или бытовых объектов и никаких экстериорных целей, так как в противном случае власть приобретет социальное измерение, которое в Постмодерне неприемлемо. Поэтому властвование логемы должно научиться скользить по профилю ничто, постоянно принимая сторону, прямо противоположную приказу. Человек должен научиться не подчиняться собственным приказаниям, позволить себе расслабиться, перейти на сторону сопротивления. В прямом окружении «малого человека» Постмодерн также предполагает ликвидацию властных функций — никто никому не приказывает и никто никому не подчиняется. Сотрудник может не выполнять указания начальника, а начальник при этом не имеет права уволить подчиненного, так как у начальника нет прав быть начальником. Если он не понимает этого, он — «фашист». Другое дело, если начальник (условный) просит подчиненного (условного) что-то сделать, но если подчиненный все же распознает в этом завуалированную волю к власти, то имеет полное основание не выполнять просьбы.
Точно то же происходит и с контролем над собственным телом. До Постмодерна рассудок мог и отчасти должен был контролировать телесные проявления. Но в Постмодерне этот подход пересматривается в сторону расширения прав тела. Теперь тело само вправе решать в некоторых ситуациях, что ему делать, — подчас вопреки рассудку.
Это называется «давать волю чувствам», то есть освобождать чувства, аффекты, желания из рабского состояния и делиться с ними полнотой власти. Но снова ограничителем здесь является диурн, который должен контролироваться особенно тщательно. Поэтому «воля» дается только ноктюрническим чувствам.
Такое отношение к власти и политике в Постмодерне можно назвать ноктюрнократией. Такого явления не знало ни одно общество, так как всегда социальные структуры строились вокруг оси диурна, и даже если живой импульс диурна стушевывался под влиянием ноктюрнических мифов, все равно именно диурн выступал нормативом власти в любом обществе, включая матриархат (с той поправкой, что такой системы не было). Идея ноктюрнократии возникает только сейчас и является исключительным открытием Постмодерна. Она возможна только в постобществе, где демонтированы все основные структуры, институты, отношения и парадигмы политики, отменена властная вертикаль. Ноктюрнократия есть учреждение властной горизонтали. Философ А. Кожев в «Очерке феноменологии права»34 описывал это как синтез Господина и Раба, который наступит при конце истории после планетарной победы либерализма. Этот синтез Господина и Раба Кожев называл Гражданином, но, исходя из очевидной ноктюрничности такой фигуры, корректнее назвать его Гражданкой.
ГЕНДЕР В ПОСТМОДЕРНЕ
В Постмодерне пол должен исчезнуть и как социальное (гендер), и как биологическое явление. Мускулиноид и феминоид как полюса структурирования воображения создают фундаментальные предпосылки для развертывания социума и отмечают главный сценарий индивидуации — по Юнгу, как мы показали, пол Эго является обратным полу души. Так как в Постмодерне измерение глубины (бессознательное) подлежит демонтажу, так же как и измерение высоты (рассудок, логос), для гендера не остается места. Гендер — вызов для Постмодерна, с которым он должен справиться.
Справляется он с этим следующими способами:
- релятивизацией гендера (возможность трансгендерных операций придает полу игровой и амбивалентный характер);
- внедрением стиля asexue (unisex), предлагающего товары и одежду для лиц обоих полов без различия;
- производством андроидного (бесполого) киборга (в духе идей феминистки Донны Харуэй).
Релятивизация гендера не только означает возможность поменять пол, но в принципе отменяет пол как структуру и в социуме, и в психологии, поскольку половой дифференциал стирается и его структурализация превращается в нечто излишнее и необязательное. Меняя гендерные роли мужчина–женщина–мужчина–женщина и т. д., один и тот же «малый человек» отдает себе отчет, что за этой игровой дуальностью стоит только общее и нерасчленимое желание, то, что Фуко называет диспозитивом сексуальности, предшествующим делению людей по принципу пола. Общая для мужчин и женщин недифференцированная и никак не ориентированная сексуальность и ее символизации становятся заменой гендерных стратегий. Гендер отменяется как явление, сексуальность приобретает недифференцированный постсоциальный характер.
Стиль asexue подчеркивает амбивалентность полов и приучает людей Постмодерна воспринимать окружающие тела как потенциальных андрогинов. Здесь меняется гендерная типизация (Шюц). Обыватель Модерна проецировал на основании костюма, одежды, фигуры и т. д. на неизвестного прохожего представления о гендерной идентичности. Юбка или платье вызывали вполне определенные ассоциации с женщиной, по которым достраивался весь тип и намечались связанные с ним бытовые стратегии. Стиль «asexue» ломает эту типизацию по предметам одежды, фигурам, жестам, отучая людей Постмодерна от упрощенных клише. Юбка, замеченная издалека, например, ночью в Париже в кварталах, прилегающих к Булонскому лесу, вообще ни о чем не говорит, равно как и мешковатые штаны, бандана и кожаная куртка.
Создание бесполых киборгов как последний аккорд в борьбе с «мужским шовинизмом» также является телосом культуры Постмодерна, направленным на снятие гендерной дуальности.
ПОСТМОДЕРН КАК СЕРЬЕЗНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Общество Постмодерна, каким мы его описали, принадлежит к настоящему лишь отчасти. В значительной степени это описание того, к чему в скором времени приведут те социальные процессы, которые сегодня уже запущены и развиваются по инерции и по своим довольно строго определенным траекториям. Пока мы живем в обществе, которое есть и которое только еще намеревается перейти к постобществу, когда общества больше не будет.
Сегодня есть и человек, и социум, и власть, и идеология, и религия (не до конца превратившаяся в симулякр), и гендеры, и властная вертикаль, и остатки внутреннего измерения в человеческой психике, есть и социальное время, и пространство как социальная морфология. Пока все еще действует легитимность Модерна, а также — для большинства человечества, за вычетом западной цивилизации — археомодерна. Легитимность археомодерна состоит в том, что в этих обществах мы может довольно легко обнаружить и те мифологические и структурные установки, которых в классическом и аутентичном Модерне просто не могло бы быть. Но дело идет к Постмодерну.
В такой ситуации есть соблазн воспринять Постмодерн как утрированную пародию на некоторые существующие тенденции, как сатиру, иронию, карикатуру, сгущение красок. Иными словами, есть соблазн принять Постмодерн как парадигму за постмодернизм как провокационный стиль в искусстве и философии. Большинство не готово признать Постмодерн как нечто серьезное, неизбежное и фундаментальное и поэтому отмахивается от него как от досадной и неудачной шутки, как от «черного юмора». Но такое отношение отражает чрезмерную ангажированность устаревшими социологическими и гносеологическими конструкциями, инерциальной привязанностью к Модерну, страхом признать важнейшие и естественные следствия пути развития западной цивилизации.
Постмодерн еще не наступил, но он непременно наступит, так как именно к этому ведет вся логика развертывания западной цивилизации — от мифа о диурне и истоков общества до минимализированной логемы. Постмодерн серьезен и неотвратим, потому что он вписан в фундаментальную историческую синтагму Запада, а так как Запад так или иначе претендует — и с некоторыми основаниями — на силовую доминацию в планетарном масштабе, то с Постмодерном придется столкнуться всем обществам, даже самым далеким от Модерна и самым археомодернистическим.
Чем быстрее сознание интеллектуальной элиты, и в первую очередь социологов, перейдет к осмыслению условий Постмодерна, тем более адекватными будут ее рецепты, прогнозы и анализы.
Однако для того, чтобы адекватно справиться с осмыслением постобщества, недостаточно тщательно изучить (пост)социальную феноменологию «культурных идиотов» — даже на основании адекватных методов «понимающей социологии», теорий Шюца или Маффесоли. Надо иметь общую картину того, как люди дошли до такого состояния, от чего они стартовали и что этому предшествовало. Только будучи помещенным в историческую синтагму, где объяснены и осмыслены предыдущие парадигмы Премодерна и Модерна, а также диалектические противоречия между ними, смысл Постмодерна откроется нам во всем его значении, а процессы, протекающие в нем, могут быть корректно осмыслены, объяснены и классифицированы.
Контрольные вопросы
1. Какие основные режимы бессознательного преобладают в Постмодерне?
2. Что такое постистория у Ж. Бодрийяра?
3. Каковы трансформации гендера в Постмодерне?
РЕЗЮМЕ
Подытожим содержание заключительного раздела.
- Мы находимся в состоянии фазового перехода от общества Модерна к обществу Постмодерна. Это объясняет лишь частичную адекватность классической социологии и потребность в выработке новых социологических методов и критериев, которые соответствовали бы новым условиям и новому объекту исследований — постобществу, наступление которого влечет за собой создание постсоциологии.
- В качестве наиболее адекватных методов исследования постобщества следует взять социальную феноменологию Шюца, «понимающую социологию» Вебера, социологическую теорию «отвоевывания настоящего» Маффесоли, шире — все разновидности социологического минимализма, которые почти не адекватны при исследовании обществ Премодерна и Модерна, но, напротив, приемлемы и релевантны для изучения Постмодерна.
- Постмодерн завершает собой историю диурна, развернувшего историческую цепочку логос–логика–логистика–логема. В Постмодерне от логоса остается логема — «электрон логоса», субатомарная способность к минимальной рационализации и упорядочиванию предметов и явлений, непосредственно прилегающих к телу и нервным окончаниям «малого человека».
- Логема оперирует с категорией ничто, которая становится важнейшей в организации постобщества. Нигилизм превращается в позитивную (социально-политическую) программу.
- Ослабление цензуры логоса позволяет подниматься из бессознательного мифемам режима ноктюрна — микромифам, связанным с едой и эротикой в недифференцированном виде. Так как Постмодерн ставит своей целью снос не только рациональности (высота), но и бессознательного (глубина), то мифемам предлагается распластаться по поверхности — снизу черты дроби человеческой, отделяющей числитель (на сей раз — логему) от знаменателя (на сей раз — мифемы).
- В Постмодерне упраздняются общество, человек, содержательное событийное время, качественное пространство, идеологии, религии (они превращаются в симулякр), власть, политика и гендеры. На это место приходит ноктюрнократия, власть обессиленных микроскопических логем в сочетании с обрывками ночных мифов.
- Постмодерн в качестве нормативных фигур своей парадигмы постулирует фриков, первертов, уродов, маньяков, сатанистов и калек, для которых интеграция в цельную индивидуальность не представляется возможной. В этой нормализации анормального проявляется работа эвфемизма, соответствующая ноктюрну и его стратегиям.
1 См.: Генон Р. Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм Данте. М., 2003; Дугин А. Философия традиционализма. М., 2002.
2 Маффесоли М. Околдованность мира или божественное социальное // СОЦИО-ЛОГОС. М.: Прогресс, 1991. См. также: Maffesoli M. La Dynamique sociale. La société conflictuelle. Thèse d’Etat. Lille: Service des publications des theses, 1981; Idem. Le Temps des tribus. Paris, 1988.
3 См.: Дугин А. Радикальный Субъект и его дубль. Гл. «Археомодерн». М., 2009.
4 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London, 1992.
5 Гипертрофированная (гиперболизированная) картина героизированных менеджеров (менеджеров как титанов) дана у Айн Рэнд. См.: Рэнд А. Атлант расправил плечи. М., 2008.
6 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 2009.
7 Сартр Ж.П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М., 2004.
8 Делёз Ж. Ницше. СПб.: Аксиома, 1997.
9 Schutz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Wien, 1932.
10 Maffesoli M. La Conquête du présent. Pour une sociologie de la vie quotidienne. Paris, 1979.
11 Maffesoli M. L’Ombre de Dionysos. Paris, 1982.
12 «Lacrise n’existepar!» interview de m.maffesoli agitateurdidee.bgnt.net/test2/suite.php?art=99
13 См. труд французского социолога и историка Филиппа Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке» (Екатеринбург, 1999), где подробно описаны процессы изменения социологического отношения к детству и юношеству от средневекового европейского общества, основанного на нормативном типе взрослого (ребенок и юноша мыслились как «несовершенные взрослые»), в сторону «обнаружения детства» как явления, с соответствующим переходом к нормативной ювенильной антропологии в обществе современном (Модерн). В другой книге, «Человек перед лицом смерти» (М., 1992), тот же автор подробно показывает, как меняется социология смерти, и соответственно, «пункт назначения взрослой жизни», «процесса взросления» перемещается от центральной позиции в традиционном обществе на крайнюю периферию — вплоть до исчезновения за социальным горизонтом в эпоху Модерна.
14 Maffesoli M. L’Ombre de Dionysos. Op. cit.
15 Maffesoli M. Apocalypse. Paris, 2009.
16 Известный социолог Гарольд Гарфинкель (1917 г. р.) ввел концепцию «культурного идиота» для подчеркивания того, что участники социальных процедур, например суда, считающиеся номинально объективными, не могут быть свободными от социологических значений, получаемых помимо процесса обучения их профессии, а значит, привносят культурный багаж, заимствованный непосредственно из общества, в принятие решений в отношении чисто социальных случаев, связанных с абстрактными ситуациями, которые необходимо — номинально — разбирать в изолированном контексте. В данном случае термин «культурный идиот» используется для обозначения абстрактной фигуры, свободной от влияния больших социальных нормативов. Такая фигура не существует в обществе (как справедливо подмечает Гарфинкель), но появляется в постобществе, то есть в Постмодерне.
17 Клюев Н.А. Стихотворения и поэмы. М., 1991.
18 Maffesoli M. L’Ombre de Dionysos. Op. cit.
19 Apocalypse Culture edited by Adam Parfrey. Los Angeles, 1988.
20 RE/Search № 10: Incredibly Strange Films. RE/Search Publications, 1986; RE/Search № 14: Incredibly Strange Music. Vol. I. RE/Search Publications, 1993, и т. д.
21 См. разделы «Постситуация постмодерна» и «Постпространство и черные чудеса» в кн.: Дугин А. Радикальный Субъект и его дубль. М., 2009; Он же. Постфилософия. М., 2009.
22 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007.
23 Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004.
24 Хардт М., Негри А. Империя. Указ. соч.
25 Хардт М., Негри А. Империя. Указ. соч.
26 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007.
27 Об этой исполнительнице см.: Дугин А. Поп-культура и знаки времени. СПб., 2005.
28 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986; Он же. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991. № 6.
29 См.: Постпространство и черные чудеса в кн.: Дугин А. Радикальный Субъект и его дубль. Указ. соч.; Он же. Постфилософия. Указ. соч.
30 Там же.
31 Bell D. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. N.Y., 1965.
32 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999.
33 Хардт М., Негри А. Империя. Указ. соч.
34 Kojev A. Esquisse d’une phenomenologie du droit. Exposé preliminaire. P., 1981.
БИБЛИОГРАФИЯ
БАЗОВЫЕ УЧЕБНИКИ СОЦИОЛОГИИ
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15 т. М., 2003.
Кравченко А.И. Социология: Хрестоматия. М., 1997.
Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. М., 1994.
НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ АВТОРА СПЕЦКУРСА
Дугин А.Г. Обществоведение для граждан Новой России. М., 2007.
Дугин А.Г. Основы геополитики. М., 2000.
Дугин А.Г. Постфилософия. М., 2009.
Дугин А.Г. Философия политики. М., 2004.
Дугин А.Г. Философия традиционализма. М., 2002.
Дугин А.Г. Эволюция парадигмальных оснований науки. М., 2002.
Основы евразийства / Под ред. А.Г. Дугина. М., 2002.
МОНОГРАФИИ АВТОРА СПЕЦКУРСА
Дугин А.Г. Абсолютная Родина. М., 1999.
Дугин А.Г. Геополитика Постмодерна. СПб., 2007.
Дугин А.Г. Конспирология. М., 2006.
Дугин А.Г. Метафизика Благой Вести. М., 1996.
Дугин А.Г. Поп-культура и знаки времени. СПб., 2007.
Дугин А.Г. Проект «Евразия». М., 2006.
Дугин А.Г. Пути Абсолюта. М.,1990.
Дугин А.Г. Радикальный Субъект и его дубль. М., 2009.
Дугин А.Г. Русская вещь: В 2 т. М., 2001.
Дугин А.Г. Символы великого Норда. М., 2008.
Дугин А.Г. Четвертая политическая теория. СПб., 2009.
Дугин А.Г. Философия войны. М., 2006.
Конец Света: альманах по истории религий / Под ред. А.Г. Дугина. М., 2008.
УЧЕБНИКИ СОЦИОЛОГИИ
Анурин В.Ф. Основы социологических знаний. Н. Новгород: НКИ, 1998.
Асп Э.К. Введение в социологию: Пер. с фин. СПб.: Алетейя, 1998.
Бергер П.Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива: Пер. с англ. М.: Аспект Пресс, 1996.
Гиддингс Ф.Г. Основания социологии. Киев; Харьков, 1898.
Гидденс Э. Социология: учебник 90-х годов (реферированное издание). Челябинск, 1995.
Голубева Г.А., Дмитриев А.В. Социология: Учеб. пособие. М.: Собрание, 1999.
Кравченко А.И. Социология: Словарь: Учеб. пособие для студ. вузов. М.: Издательский центр «Академия», 1997.
Кравченко А.И. Социология: Хрестоматия для студ. вузов. М.: Издательский центр «Академия», 1997.
Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов. М.: Центр, 1996.
Смелзер Н. Социология: Пер. с англ.; науч. ред. В.А. Ядов. М.: Феникс, 1998.
Социология: Основы общей теории: Учеб. пособие для вузов / Отв. ред. Г.В. Осипов. М.: Аспект Пресс, 1998.
Харчева В. Основы социологии: Для сред. спец. учеб. заведений. М.: Логос; Высш. шк., 1999.
ЛИТЕРАТУРА ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
Августин А. О граде Божьем. М.: АСТ, 2000.
Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. М., 1977.
Агурский М. Идеология национал-большевизма. М., 2003.
Адорно Т. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10.
Адорно Т. Социология музыки. М.; СПб.: Университетская книга, 1999.
Адорно Т. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001.
Адорно Т. Проблемы философии морали. М.: Республика, 2000.
Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М.: Серебряные нити, 2001.
Акаев В. Чечня. Суфийские братства и ваххабиты // Азия и Африка сегодня. 1998. № 6.
Алексеев Н.Н. Русский народ и Государство. М., 2000.
Американская социологическая мысль: тексты / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц: Пер. с англ. М.: Изд-во МГУ, 1994.
Американская социология. Перспективы, проблемы, методы / Под ред. Т. Парсонса. М., 1972.
Аналитическая психология: Прошлое и настоящее / К.Г. Юнг, Э. Сэмюэлс, В. Одайник, Дж. Хаббек. М., 1997.
Андреева Г.М. Социальное познание: проблемы и перспективы: Избр. психол. труды. М.: Моск. психол.-соц. ин-т; Воронеж: МОДЭК, 1999.
Андреева Г.М., Никинин Е.П. Метод объяснения в социологии // Социология в СССР. М., 1965. Т. 1.
Андреева Г.М. О соотношении микро- и макросоциологии // Вопросы философии. 1970. № 7.
Андреева Г.М. Программа конкретного социального исследования // Лекции по методике конкретных социальных исследований. М., 1972.
Антология русской классической социологии: Тексты / Сост. и коммент. Д.С. Клементьева, Л.Н. Панковой. М.: Изд-во МГУ, 1995.
Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996.
Аристотель. Политика // Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1.
Аристотель. Собр. соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1975.
Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993.
Арон Р. Мнимый марксизм. М., 1993.
Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1992.
Арсеньев А.С., Библер В.С., Кедров Б.М. Анализ развивающегося понятия. М., 1967.
Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург, 1999.
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.
Афанасьев А.Н. Народные русские сказки: В 3 т. М., 1984.
Афанасьев А.Н. Славянская мифология. М.; СПб., 2008.
Бальзак О. Серафита. М., 1996.
Баразгова Е.С. Американская социология: Традиция и современность: Курс лекций. Екатеринбург: Деловая книга; Бишкек: Одиссей, 1997.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989.
Бартоломью Д. Статистические модели социальных процессов. М., 1985.
Батай Ж. Проклятая доля. М.: Гнозис; Логос, 2003.
Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в социологии. М.: Наука, 1986.
Бауман З. Социологическая теория постсовременности // Социологические очерки: Ежегодник. М., 1991.
Бауман З. Философия и постмодернистская социология // Вопросы философии. 1993. № 3.
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.
Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная культура Ренессанса и Средневековья. М., 1965.
Башляр Г. Вода и грезы. М., 1998.
Башляр Г. Грезы о воздухе. М., 1999.
Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987.
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999.
Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
Бентам И. Избранные сочинения. СПб., 1867. Т. 1.
Бенуа Ален де. Хайек: Закон джунглей // Элементы. 1994. № 5.
Бергер П. Понимание современности // Социол. исслед. 1990. № 7.
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
Бердяев Н.А. Новое Средневековье. М., 1992.
Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.
Бердяев Н.А. Философия свободного духа: Проблематика и апологетика христианства. М., 1994.
Берк Э. Размышления о революции во Франции. М., 1993.
Бехтерев В.М. Основы общей рефлексологии. Петербург, 1923.
Бехтерев В.М. Объективная психология. М.: Наука, 1991.
Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1997.
Биографический метод в социологии: история, методология и практика / РАН. Ин-т социологии. М., 1994.
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986.
Блок М. Короли-чудотворцы. М., 1998.
Боас Ф. Ум первобытного человека. М., 1933.
Боден Ж. Метод легкого познания истории. М., 2000.
Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М., 2004.
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006.
Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. М., 2006.
Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2006.
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2006.
Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция // Философия эпохи постмодерна: Сб. переводов и рефератов. Минск, 1996.
Бодрийяр Ж. Эстетика иллюзий, эстетика утраты иллюзий // Элементы. 1998. № 9.
Бродель Ф. Структуры повседневности. М., 1986.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв.: В 3 т. М.: Весь мир, 2007.
Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973.
Бромлей Ю. Очерки истории этносов. М., 1983.
Бромлей Ю. Современные проблемы этнографии. М., 1981.
Бубер М. Хасидские предания. Первые наставники / Пер. с иврита. М., 1997.
Булгаков С.Н. Карл Маркс как религиозный тип // Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1993.
Булгаков С.Н. Религия человекобожия у Л. Фейербаха // Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1993.
Булгаков С.Н. Свет невечерний. М., 1994.
Бурдье П. Социология политики. М., 1993.
Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. М., 1999.
Бутенко И.А. Социальное познание и мир повседневности. Горизонты и тупики феноменологической социологии / Отв. ред. Л.Г. Ионин. М.: Наука, 1987.
Бэкон Ф. Новая Атлантида // Соч.: В 2 т. М., 1972.
Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI в.: Пер. с англ. М.: Логос, 2003.
Валлерстайн И. После либерализма. М.: УРСС, 2003.
Вандам А.Е. Геополитика и геостратегия. М.: Кучково поле, 2002.
Введение в изучение социальных наук: Сб. ст. под ред. Н.И. Кареева. СПб.: Брокгауз–Эфрон, 1903.
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2006.
Вебер М. История хозяйства. Город. М.: Канон пресс-Ц, 2001.
Вебер М. Аграрная история древнего мира. М.: Канон пресс-Ц, 2001.
Вейль Г. Симметрия. М., 1968.
Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. Международный философский журнал. 1992. № 1.
Вернадский Г.В. Начертание русской истории. Прага, 1927.
Вернадский Г.В. Опыт истории Евразии. Берлин, 1934.
Вивенза Ж.М. От формальной доминации капитала к его реальной доминации // Элементы. 1995. № 7.
Вико Дж. Собрание сочинений. М., 1986.
Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками: В 2 т. СПб., 1908.
Витгенштейн Л. Философские работы: В 2 ч. М., 1994.
Войнова В.Д., Чернакова Н.Е. Групповой опрос // Методы сбора информации в социологических исследованиях. М., 1990. Кн. 1.
Воронин Н.Н. Медвежий культ в Верхнем Поволжье в ХI веке // Краеведческие записки. Ярославль, 1960. Вып. IV.
Гаадамба Ш. Cокровенное сказание монголов как памятник художественной литературы XIII века. М., 1961.
Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: Социология М. Вебера и веберовский ренессанс. М.: Политиздат, 1991.
Гваттари Ф. Язык, сознание и общество (О производстве субъективности) // ЛОГОС. Кн. 1. Л., 1991.
Гегель Г.В.Ф. Соч.: В 3 т. М., 1986.
Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб., 1993.
Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Сочинения. М., 1959. Т. IV.
Гезель С. Естественный экономический порядок. М., 2005.
Генон Р. Восток и Запад. М., 2005.
Генон Р. Духовное владычество и мирская власть // Волшебная Гора. 1997–1998. № 6–7.
Генон Р. Кризис современного мира. М., 1991.
Генон Р. Символы священной науки. М., 1997.
Генон Р. Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм Данте. М., 2003.
Генон Р. Царь мира. Коломна, 1993.
Генон Р. Человек и его осуществление согласно веданте. Восточная метафизика. М., 2004.
Гердер И.Г. Избранные сочинения. М.; Л., 1959.
Гесиод. Теогония // Эллинские поэты. М., 1963.
Гёте И.В. Фауст. М., 1982.
Гидденс Э. Социология: Пер. с англ. 2-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2005.
Гидденс Э.Э. Постмодерн //Философия истории. М., 1995.
Гитлер А. Mein Kampf. М., 2002 (издание запрещено к распространению).
Глюксман А. Достоевский на Манхэттене. М., 2006.
Гобино Ж.А. Опыт о неравенстве человеческих рас. М.: Самотека, 2007.
Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 т. М., 1964.
Годинер Э.С. Политическая антропология о происхождении государства. Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. М., 1991.
Голосенко И.А. Питирим Сорокин: судьба и работы. Сыктывкар, 1991.
Голосенко И.А. Русская социология: Ее социокультурные предпосылки, междисциплинарные отношения, основные проблемы и направления // Из истории буржуазной социологической мысли в дореволюционной России / Редкол. Ю.В. Гридчин и др. М.: ИС АН СССР, 1986.
Голосенко И.А. Социологическая литература России второй половины XIX — начала XX века. Библиографический указатель. М.: Онега, 1995.
Голосенко И.А. Социология в дореволюционной России (науковедческие аспекты) // Филос. науки. 1988. № 1.
Голосенко И.А. Социология Питирима Сорокина. Русский период деятельности. Самара: Социол. центр «Социо», 1992.
Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX–XX вв. М., 1995.
Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI–XIX веков. М., 1991.
Горюнов В.П. От цивилизации к постцивилизации: Постановка проблемы в свете теории соц. относительности // Человек и современный мир: методологические и методические вопросы. СПб., 1977.
Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М.: Мартис, 1995.
Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности. М., 2003.
Гройс Б. Да, апокалипсис, да, сейчас // Вопросы философии. 1993. № 3.
Громыко М.М. Дохристианские верования в быту сибирских крестьян ХVII–ХIХ веков // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства в ХVII — начале ХХ в. Новосибирск, 1975.
Греймас А.Ж. Размышления об актантных моделях // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1996. № 1.
Греймас А.-Ж. Структурная семантика. М., 2008.
Гумилев Л. В поисках вымышленного царства. М., 2002.
Гумилев Л. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1992.
Гумилев Л.Н. О термине «этнос» //Доклады отделений комиссий Географического общества СССР. Вып. 3. 1967.
Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории. СПб., 1992.
Гумилев Л.Н. «Тайная» и «явная» истории монголов XII–XIII вв. // Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977.
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989.
Гумплович Л. Социология и политика. М., 1895.
Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени // Собр. соч. Т. 1. М., 1994.
Гуссерль Э. Философия как строгая наука. М.: Сагуна, 1994.
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию. СПб.: Владимир Даль, 2004.
Гуссерль Э. Идея феноменологии. М.: Гуманитарная академия, 2008.
Давыдов Ю. Современность под знаком «пост»// Континент. 1996. № 89.
Давыдов А.А. Модульный анализ и конструирование социума / Ин-т социологии РАН. М., 1994.
Давыдов А.А. Системная социология. М.: Эдиториал УРСС, 2006.
Давыдов A.A. Социология как мультпарадигмальная наука // Социол. исслед. 1992. № 9.
Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского социологического учения. М.: Мартис, 1998.
Даль Р. Введение в теорию демократии. М., 1992.
Данилевский Н. Россия и Европа. М., 1991.
Дарендорф Р. Дорога к себе: демократизация и ее проблемы в Восточной Европе // Вопросы философии. 1990. № 9.
Дебор Ги. Общество Спектакля. М., 2000.
Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998.
Декарт Р. Сочинения. М.: Наука, 2006.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007.
Делёз Ж. Кино: Кино 1. Образ-движения; Кино 2. Образ-время. М., 2004.
Делёз Ж. Логика смысла. М.; Екатеринбург, 1998.
Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки. СПб., 1999.
Делёз Ж. Ницше. СПб., 2001.
Делёз Ж. Ницше и философия. М., 2003.
Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М., 1997.
Делёз Ж. Переговоры. 1972–1990. СПб., 2004.
Делёз Ж. Различие и повторение. СПб., 1998.
Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома // Философия эпохи постмодерна: Сб. переводов и рефератов. Минск, 1996.
Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность: Опыт о человеческой природе по Юму; Критическая философия Канта: учение о способностях; Бергсонизм; Спиноза. М., 2001.
Данте. Божественная комедия. СПб.: Амфора, 2008.
Деррида Ж. Московские лекции. Свердловск, 1991.
Джемаль Г.Д. Революция пророков. М., 2003.
Джемс У. Многообразие религиозного опыта. СПб., 1992.
Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1997.
Джентиле Дж. Введение в философию. СПб.: Алетейя, 2000.
Джессен Р. Методы статистических обследований: Пер. с англ / Под ред. и с предисл. Е.М. Четыркина. М.: Финансы и статистика, 1985.
Докторов Б.З. О надежности измерения в социологическом исследовании. Л., 1979.
Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях. М., 1998.
Драйзер Т. Титан. Л., 1988.
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.
Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст. СПб.: Евразия, 2001.
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991.
Дюркгейм Э. Самоубийство: социол. этюд. СПб., 1998.
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение: Пер. с фр. М.: Канон+; Реабилитация, 2006.
Евангелие от Матфея. М., 1991.
Ельмеев В.Я. Социологический метод: теория, онтология, логика. СПб.: Петрополис, 1995.
Ермакова В.В., Пациорковский В.В., Шереги Ф.Э. Повторные исследования в прикладной социологии // Социол. исслед. 1982. № 1.
Жоль К.К. Социология: (В систематическом изложении): Учеб. пособие. 2-е изд. М.: ЮНИТИ-Дана, 2004.
Замятин Д.Н. Метагеография: пространство образов и образы пространств. М., 2004.
Завгородний А.И., Шахматова Н.В. Методика эмпирических исследований в социологии: Учеб. пособие / Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1995.
Западная экономическая социология: Хрестоматия соврем. классики: Пер. с англ., фр., нем. / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев. М.: РОССПЭН, 2004.
Зеньковский С. Русское старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века. Мюнхен, 1970.
Зиммель Г. Избранное: В 2 т. М.: Юристъ, 1996.
Зиммель Г. Из «Экскурса о социологии чувств». М., 2007.
Зомбарт В. Буржуа. М., 1994.
Зомбарт В. Собр. соч.: В 3 т. СПб., 2005.
Зомбарт В. Современный капитализм. Т. 1–2. М., 1903–1905. Т. 3. М.; Л., 1930.
Зомбарт В. Социализм и социальное движение в 19 столетии. СПб., 1902.
Зомбарт В. Социология. М., 2003.
Зомбарт В. Роскошь и капитализм. Война и капитализм. СПб.: Владимир Даль, 2005.
Ибн Араби. Аль-Футухат аль-маккиййа (Мекканские откровения). Т. 1. Каир, 1859.
Иванов В.В. Двоичная символическая классификация в африканских и азиатских традициях // Народы Азии и Африки. 1969. № 5.
Иванов В.В. Дуальная организация первобытных народов и происхождение дуалистических космогоний (рец. на кн. А.М. Золотарев, 1964) // Советская археология. 1968. № 4.
Иванов В.В. Заметки о типологическом и сравнительно-историческом исследовании римской и индоевропейской мифологии // Semeiotike. Труды по знаковым системам. Т. 4. Тарту, 1969.
Иванов В.В. Лингвистика и гуманитарные проблемы семиотики. ИАН СССР. Серия языка и литературы. Т. 27. 1968. № 8.
Иванов Вяч.В. Бинарные структуры в семиотических системах // Системные исследования. Ежегодник. 1972. М., 1972.
Иванов В.В. Категория времени в искусстве и культуре XX века // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
Иванов В.В., Лекомцев Ю.К. Проблемы структурной типологии // Лингвистическая типология и восточные языки. М., 1965.
Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.
Иванов В.В. К лингвистическому и культурно-антропологическому аспектам проблем антропогенеза // Ранняя этническая история народов Восточной Азии. М., 1977.
Иванов В.В. Клод Леви-Стросс и структурная антропология // Природа. 1978. № 1.
Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965.
Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
Ильин В.В. Социология как фундаментальная наука // Социол. исслед. 1994. № 3.
Ильин В.В. Теоретическое и эмпирическое в социологии: смена парадигмы? // Социол. исслед. 1996. № 10.
Ильин В.В. Теория познания. Эпистемология. М.: Изд-во МГУ, 1994.
Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
Ионин Л.Г. Понимающая социология. Историко-критический анализ / Отв. ред. Ю.Н. Давыдов. М.: Наука, 1979.
Ионин Л.Г. Социология Георга Зиммеля // История буржуазной социологии ХIХ — начала ХХ века. М., 1979.
Иранская революция 1978–1979: Причины и уроки / Под ред. А.З. Арабаджяна. М., 1989.
Ислам в современной политике стран Востока. М., 1986.
История первобытного общества. М., 1988. Т. 1–3.
История буржуазной социологии XIX — начала XX в. / Под ред. И.С. Кона. М., 1979.
История буржуазной социологии первой половины XX в. / Под ред. И.С. Кона. М., 1979.
История русской социологии (дооктябрьский период). Вып. 7. Саратов: Изд-во СГУ, 1994.
История социологии в Западной Европе и США: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Осипов. М.: НОРМА; ИНФРА-М, 1999.
История становления советской социологической науки в 20–30-е гг. / Под ред. З.Т. Голенковой. М., 1989.
История теоретической социологии: В 5 т. Т. 1: От Платона до Канта: Предыстория социологии и первые программы науки об обществе / Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. М.: Наука, 1995.
История философии: Запад–Россия–Восток (книга четвертая. Философия XX в.). М.: Ю.А. Шичалина, 1999.
Кабыща А.В., Тульчинский М.Р. Структура социологического знания и ее изменение в 1984–1990 гг. М., 1993.
Каграманов Ю.М. Клод Леви-Стросс и проблема человека // Вопросы философии. 1976. № 10.
Кальвин Ж. Наставления в христианской вере: В 3 т. М., 1998.
Канетти Э. Масса и власть // Человек нашего столетия. М., 1990.
Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1969.
Капитализм и шизофрения: Беседа Катрин Клеман с Ж. Делёзом и Ф. Гваттари // Ежегодник. Ad Marginem. М., 1994.
Кастельс М. Россия в информационную эпоху / М. Кастельс, Э. Киселева // Мир России. 2001. № 1.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.
Качанов Ю. Начала социологии. М.; СПб., 2000.
Качанов Ю.Л. Что такое социологическая теория? // Социол. исслед. 2002. № 12.
Качественные методы в социальных исследованиях: фокус-группа: Учеб. пособие: Пер. с англ. / Алтайский регион. центр Сиб. отделения Рос. акад. образования и др. Барнаул, 1995.
Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: Эксмо, 2007.
Кереньи К. Дионис. Прообраз неиссякаемой жизни. М.: Ладомир, 2007.
Кереньи К. Элевсин. М.: Рефл-бук, 2000.
Киркегор С. Страх и трепет. Киев, 1994.
Клюев Н.А. Стихотворения и поэмы. М., 1991.
Ковалевский М. Социология на Западе и в России // Новые идеи в социологии. 1913. № 1.
Кожев A. Введение в чтение Гегеля. Идея смерти в философии Гегеля. М., 1998.
Кожев А. Понятие власти. М.: Праксис, 2006.
Кожев А. Атеизм. М.: Праксис, 2007.
Козин С.А. Сокровенное Сказание Юань Чао Би Ши. М.; Л., 1941.
Кокрен Ч. Методы выборочного исследования. М., 1976.
Кола Д. Политическая социология: Пер. с фр. М., 2000.
Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. СПб., 2000.
Количественные методы в социологии / Редкол. А.Т. Аганбегян, Г.В. Осипов, В.Н. Шубкин. М., 1966.
Коллинз P. Социология: наука или антинаука // THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и система. Альманах. Научный метод. М., 1994. Т. 2. Вып. 4.
Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980.
Коллонтай А.М. Дорогу крылатому Эросу! (Письмо к трудящейся молодежи) // Молодая гвардия. 1923. № 3.
Кон И.С. Позитивизм в социологии. Л., 1964.
Кон Н. В погоне за тысячелетием. Лондон, 1972.
Конт О. Дух позитивной философии. Ростов н/Д: Феникс, 2003.
Конт О. К 200-летию со дня рождения / Под ред. А.О. Бороноева и И.А. Голосенко. СПб.: Петрополис, 1998.
Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936.
Конец Света (альманах по истории религии). М., 1998.
Конрад Н.И. Запад и Восток. М., 1966.
Конт О. Позитивизм и наука. М., 1975.
Конфуций. Уроки мудрости. М., 2000.
Коплстон Ф. История философии. Средние века. М., 2003.
Корбен А. Драматический элемент в гностических космогониях // Волшебная Гора. 2007. № 8.
Корбен А. Световой человек в иранском суфизме // Волшебная Гора. 2002. № 8.
Корбен А. Свет Славы и Святой Грааль. М.: Волшебная Гора, 2006.
Корбен А. Социальные эманации// Ароматы и запахи в культуре. М.: НЛО, 2003.
Коржева Э.М. Социологическая теория познания Э. Дюркгейма // Из истории буржуазной социологии ХIХ–ХХ веков. М., 1968.
Крюков М.В. Формы социальной организации древних китайцев. М., 1967.
Кузанский Н. Об ученом незнании // Кузанский Н. Соч.: В 2 т. М., 1979.
Кузанский Н. Соч.: В 2 т. М., 1979–1980.
Кукса Л.П. Интегральная социология: В 6 кн. Кн. 1: Предметная область и ее философско-теоретическое обоснование. Кн. 2: Основная проблема и система понятий. Новосибирск: Мысль, 2006.
Кукушкина Е.И. Русская социология XIX — начала XX века. М.: Изд-во МГУ, 1993.
Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок. М.: Идея-Пресс, 2001.
Куликов Л.М. Основы социологии и политологии. М., 1999.
Култыгин В.П. Классическая социология. М., 2000.
Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
Кутырев В.А. Современное социальное познание: Общенаучные методы и их взаимодействие. М.: Мысль, 1988.
Лазарсфельд П. Методологические проблемы социологии // Социология сегодня. М., 1965.
Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.
Лакатос И. Доказательства и опровержения. М., 1967.
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.: Медиум, 1995.
Лапаева В.В. Социология права: Кр. учеб. курс. М., 2000.
Ларионов И.К. Социальная теория: Общие основы и особенности России: Учеб. пособие. М., 2001.
Левада Ю. Уроки «атипичной» ситуации: попытка социол. анализа // Мониторинг обществ. мнения. 2003.
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.
Лебон Г. Психология народов и масс. М.: Макет, 1995.
Лебон Г. Психология социализма. М.: Макет, 1995.
Леви-Стросс К. Мифологики. Сырое и приготовленное. М.; СПб., 1999.
Леви-Стросс К. Мифологики. Происхождение застольных обычаев. М.: Флюид, 2007.
Леви-Стросс К. Мифологики. Человек голый. М.: Флюид, 2007.
Леви-Стросс К. Путь масок. М.: Республика, 2001.
Леви-Стросс К. Печальные тропики. М.: АСТ, 1999.
Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983.
Лейбниц Г. Соч.: В 4 т. М., 1988–1989.
Лекторский В.А., Швырев В.С. Методологический анализ науки (типы и уровни) // Философия. Методология. Наука. М., 1972.
Ленин В.И. Избранные сочинения: В 10 т. М.: Политиздат, 1984–1987.
Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. М., 1876.
Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. Философская и политическая публицистика. Духовная проза. М., 1996.
Лиотар Ж.-Ф. Заметка о смыслах «пост» // Иностранная литература. 1994. № 1.
Лиотар Ж.-Ф. Ситуация постмодерна. СПб., 1998.
Лиoтap Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998.
Лист Ф. Национальная система политической экономии. М.: Европа, 2005.
Лифшиц М. Критические заметки к современной теории мифа // Вопросы философии. 1973. № 8, 10.
Логика и методология науки. М., 1967.
Логика и эмпирическое познание. М., 1972.
Логика социологического исследования / Отв. ред. Г.В. Осипов. М.: Наука, 1987.
Логическая структура научного знания. М., 1965.
Локк Д. Соч.: В 3 т. М., 1988.
Лоренц К. Агрессия. М., 1994.
Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М., 1998.
Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1990.
Лосский В.Н. Догматическое богословие. М., 1991.
Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф–имя–культура. ТЗС. 1973. Т. 6.
Лукач Д. К онтологии общественного бытия. М., 1991.
Лукач Д. Литературные теории XIX века и марксизм. М., 1937.
Лукач Д. К истории реализма. М., 1939.
Лукач Д. Борьба гуманизма и варварства. Ташкент, 1943.
Лукач Д. Своеобразие эстетического. М., 1985. Т. 1; 1986. Т. 2, 3; 1987. Т. 4.
Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М., 1987.
Лукач Д. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М., 2003.
Луман Н. Общество общества. М., 2005.
Лютер М. 95 тезисов. М., 2002.
Макиавелли Н. Избранные произведения. М., 1982.
Малиновский Б. Магия, наука, религия // Магический кристалл: Магия глазами ученых и чародеев. М., 1998.
Малыхин В.И. Социально-экономическая структура общества. Математическое моделирование. М., 2003.
Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
Марков Б.В., Шаронов В.В. Очерки социальной антропологии. СПб., 1995.
Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения: В 9 т. М., 1985. Т. 2.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. М., 1985. Т. 3.
Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. М., 1955–1981.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.; Л., 1929–1931. Т. V.
Маркс К. Капитал: В 2 т. М.: Терра, 2009.
Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1.
Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. Из ранних произведений. М., 1956.
Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Киев, 1995.
Маршалл Т.Х. Социальный класс: предварительный анализ // Личность, культура, общество. 2004.
Масионис Д. Социология. 9-е изд. СПб.: Питер, 2004.
Маффесоли М. Околдованность мира или божественное социальное // Социо-логос. Вып. 1. М.: Прогресс, 1991.
Медушевский А.Н. История русской социологии: Учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., 1993.
Мелентьева Н.В. Общая теория восстания Герда Бергфлета // Элементы. 1993. № 4.
Мелентьева Н.В. Социалисты филадельфийского обряда // Элементы. 1997. № 8.
Мелентьева Н.В. Фашизм как стиль // Элементы. 1994. № 5.
Мелетинский Е.М. Клод Леви-Стросс и структурная типология мифа // Вопросы философии. 1970. № 7.
Мелетинский Е.М. Клод Леви-Стросс. Только этнология? // Вопросы литературы. 1971. № 4.
Мелетинский Е.М. Мифологические теории XX века на Западе // Вопросы философии. 1971. № 7.
Мелетинский Е.М. Сравнительная типология фольклора (историческая и структурная) // Philologica. Исследования по языку и литературе. Л., 1973.
Мелетинский Е.М. Структурная типология и фольклор. Контекст-73. М., 1974.
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976.
Мендра А. Основы социологии: Учеб. пособие: Пер. с фр. М., 2000.
Мережковский Д.С. Собр. соч.: В 4 т. М.: Правда, 1990.
Мерло-Понти М. В защиту философии. М., 1996.
Мерфи Р. Американский город. М., 1972.
Методология науки: человеческие измерения и дегуманизирующие факторы научного познания: Сб. / Под ред. А.К. Сухотина. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1996.
Мид Дж. и др. Американская социологическая модель. М.: МГУ, 1994.
Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М., 1988.
Миллс Ч.Р. Властвующая элита: Пер. с англ. М.: Иностранная литература, 1959.
Милый Ангел (альманах по истории религий). 1990. № 1.
Милль Дж.С. О свободе. СПб., 1906.
Милютин Д.А. Первые опыты военной статистики: В 2 кн. СПб.: Типография военно-учебных заведений, 1847–1848.
Мир нашего завтра: Антология соврем. классической прогностики / Ред.-сост. и авт. предисл. И.В. Бестужев-Лада. М.: Эксмо; Алгоритм, 2003.
Михайлова Л.И. Социология культуры: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Дашков и Ко, 2004.
Михельс Р. Социология политических партий в условиях современной демократии. СПб., 1911.
М.М. Ковалевский в истории российской социологии и общественной мысли. К 145-летию со дня рождения М.М. Ковалевского: Сб. ст. / СПбГУ. Рус. социол. об-во им. М.М. Ковалевского. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996.
Мольер Ж.Б. Мещанин во дворянстве. М., 2009.
Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. М., 1955.
Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы: Пер. со шв. СПб.: Нотабене, 1992.
Морено Дж. Театр спонтанности. Красноярск, 1993.
Морено Дж. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе. М., 2001.
Морено Дж. Психодрама. М., 2001.
Моска Г. Правящий класс: Пер. с англ. // Социол. исслед. 1994. № 12.
Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М., 1996.
Мосс М. Очерк о даре // Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М.: Восточная литература; РАН, 1996.
Мосс М. Социальные функции священного. Избр. произв. СПб., 2000.
Мулуд Н. Современный структурализм. М., 1973.
Мэхэн А.Т. Влияние морской силы на историю, 1660–1783. М.: ACT; СПб.: Terra Fantastica, 2002.
Мюллер ван ден Брук А. Миф о вечной империи и Третий рейх. М.: Вече, 2009.
Нарта М. Теория элит и политика. М., 1978.
Нации и национализм: Сборник: Пер. с англ. и нем. М.: Праксис, 2002.
Начала практической социологии / П. Шампань, Р. Ленуар, Д. Мерлье, Л. Пэнто. М., 1996.
Николова М. Основные философские проблемы французского структурализма. М., 1975.
Ницше Ф. Воля к власти. М., 1994.
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990.
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1996.
Новикова С.С. История развития социологии в России: Учеб. пособие. М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО МОДЭК, 1996.
Новиков А.В. Социальный контроль в условиях трансформации российского общества. М.: Наука, 1999.
Новикова С.С. Введение в прикладную социологию. Анкетирование: Учеб. пособие. М., 2000.
Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии: Пер. с нем. / Под ред. Н.С. Мансурова. М.: Прогресс, 1978.
Образцов И.В. Советская военная социология. История и современность // Социол. исслед. 2003. № 12.
Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки: Ее генезис и обоснование. М.: Наука, 1988.
Огурцов А.П. Исторические типы дискуссий и становление классической науки // Роль дискуссий в развитии естествознания. М., 1986.
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3.
Осипов Г.В. Введение. Развитие социологической науки в СССР // Советская социология. М., 1982. Т. 1.
Осипов Г. История социологии в Западной Европе и США. М., 2001.
Осипов Г.В. Теория и практика социологических исследований в СССР. М.: Наука, 1979.
Осипов Г.В. Возрождение социологии в России. Как это было на самом деле // Социол. исслед. 2008. № 6.
Осипов Г.В. Социология в России. Как это было на самом деле // Социол. исслед. 2008. № 1.
Осипов Г.В. Российская социология в XXI веке // Социол. исслед. 2004. № 3.
Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. Критический анализ теоретико-методологических концепций. М., 1977.
Основы теории коммуникации: Учебник для вузов по спец. «Социология» / Под ред. М.А. Василика. М.: Гардарики, 2003.
Отто Р. Священное. СПб., 2008.
Очерки по истории социологии: Учеб. пособие / [С.Н. Яременко и др.]. Ростов н/Д: Изд. центр Дон. гос. техн. ун-та, 1994 (1995).
Очерки социальной антропологии / Отв. ред. В.В. Шаронов. СПб., 1994.
Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества. М., 1989.
Панарин А.С. Политология. М., 2003.
Панарин А.С. Философия политики. М., 1996.
Парето В. Компендиум по общей социологии. М., 2008.
Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000.
Парфри А. (под ред.) Аллах не любит Америку. М., 2003.
Паскаль Б. Мысли. СПб.: Северо-Запад, 1995.
Паунд Э. Путеводитель по культуре. М., 2001.
Печчеи А. Человеческие качества. М., 1985.
Плавинская Н.Ю. Вандея // Исторический лексикон. XVIII век. М., 1996.
Платон. Соч.: В 3 т. М., 1968–1973.
Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. М., 1938.
Поздняков Э.А. Нация, национализм, национальные интересы. М., 1994.
Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1998.
Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 1–2.
Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.
Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989.
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986.
Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991. № 6.
Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев. Сухуми, 1988.
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 1986.
Пропп В.Я. Морфология сказки. М.: Лабиринт, 1998.
Пропп В.Я. Русский героический эпос. М.: Лабиринт, 1999.
Пропп В.Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976.
Пфанцагль И. Теория измерений. М., 1976.
Радин П. Трикстер. СПб.: Евразия, 1999.
Радугин А.А. Социология: Курс лекций / А.А. Радугин, К.А. Радугин. 3-е изд. М., 2000.
Развитие социологии в России (с момента зарождения до конца XX в.) / Под ред. Е.И. Кукушкиной. М.: Высш. шк., 2004.
Райх В. Психология масс и фашизм. СПб., 1997.
Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности / Отв. ред. В.А. Попов. М., 1995.
Рассел Б. История западной философии. M., 1959.
Ратцель Ф. Народоведение: В 2 т. СПб., 1900–1901.
Религиоведение: Хрестоматия / Под ред. А.Н. Красникова. М., 2000.
Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное. М.: Эксмо, 2007.
Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М., 1995.
Рикёр П. Человек как предмет философии // Вопросы философии. 1989. № 2.
Ритцер Д. Современные социологические теории: Пер. с англ. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002.
Розенберг А. Миф ХХ века. М., 1998.
Рормозер Г. Кризис либерализма. М., 1996.
Popти Л. Постмодернистский буржуазный либерализм // Рубежи. 1997. № 10/11.
Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. М., 1961.
Руткевич Е.Д. Феноменологическая социология знания. М., 1993.
Руткевич М.Н. Макросоциология: Методические очерки. М., 1995.
Руткевич М.Н. Общество как система: Социол. очерки. СПб., 2001.
Руткевич М.Н. Материализм и субъективизм в социологии // Социол. исслед. 1999. № 11.
Рэнд А. Апология капитализма. М.: НЛО, 2003.
Рэнд А. Концепция эгоизма. М.: Макет, 1995.
Савицкий П.Н. Континент Евразия. М., 1997.
Саганенко Г.И. Надежность результатов социологического исследования. Л., 1983.
Саганенко Г.И. Социологическая информация. Л., 1979.
Самарин Ю.Ф. Статьи. Воспоминания. Письма (1840–1876). М., 1997.
Самнер У. Протекционизм, или Теория происхождения богатства от непроизводительного труда. М.: Социум, 2006.
Сартр Ж.П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М., 2004.
Семашко Л.М. Социология для прагматиков. От монизма к тетрализму: Учеб. пособие. Ч. 1. СПб., 1999.
Семашко Л.М. Тетрасоциология — социология четырех измерений. К постановке проблемы // Социол. исслед. 2001. № 9.
Синицина Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции. М., 2003.
Слезкин Ю. Эра Меркурия. Евреи в современном мире. М., 2005.
Словарь античности. М., 1993.
Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. М., 1935.
Снесарев А.Е. Философия войны. М.: Финансовый контроль, 2003.
Современная американская социология. М.: Изд-во МГУ, 1994.
Современная западная социология: классические традиции и поиски новой парадигмы. М., 1990.
Современная западная теоретическая социология: Реф. сб. Толкот Парсонс (1902–1972) / РАН. ИНИОН. Лаб. социол. М.: ИНИОН, 1994.
Современная зарубежная социология (70–80-е годы): Реф. сб. / Редкол.: Н.Л. Полякова, Л.В. Гирко. М.: ИНИОН, 1993.
Соколова Г.Н. Социология труда: Учебник. М.; Минск, 2002.
Соколова Г.Н. Экономическая социология: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.; Минск, 2000.
Сорель Ж. Введение в изучение современного хозяйства. СПб., 1908.
Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
Сорокин П.А. Социология вчера, сегодня и завтра // Социол. исслед. 1999. № 7.
Сорокин П.А. Социология революции. М.: АСТ, 2008.
Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008.
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006.
Сорокин П.А. Преступление и кара. Подвиг и награда. М.: Астрель, 2006.
Сорокин П.А. Социальная мобильность. М., 2005.
Сорос Дж. Алхимия финансов. М.: Инфра-М, 2001.
Сорос Дж. Открытое общество. Реформируя глобальный капитализм. М., 2001.
Социальная стратификация российского общества / Под ред. З.Т. Голенковой. М.: Летний сад, 2003.
Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М.: Комкнига, 2006.
Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 2: Н–Я. М., 2003.
Социологический энциклопедический словарь: На рус., англ., нем., фр. и чеш. яз. М., 1998.
Социологические исследования в России: Реф. сб. Вып. 2. 1991–1992 гг. / РАН. ИНИОН. Лаб. социол. М., 1993.
Социологические исследования в СССР. М.: ИНИОН, 1978.
Социологические исследования в СССР, 1990–1991 гг.: Реф. сб. / Ред.-сост. и авт. предисл. И.Ф. Рековская. М.: ИНИОН, 1993.
Социологические исследования: Вып. 17. Указатель литературы, изданной в СССР в 1989 году / ИНИОН АН СССР; Сост. Ю.А. Калика. М.: ИНИОН АН СССР, 1994.
Социология: Учебник / Под ред. Ю.Г. Волкова. М., 2000.
Социология в России: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.А. Ядова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998.
Социология в СССР. Т. I–II / Под ред. Г.В. Осипова. М.: Мысль, 1965.
Социология: Хрестоматия / Авт.-сост. О.Н. Козлова, Э.И. Комарова, В.В. Панферова. М.: Соц-полит. журн., 1993.
Социология на пороге XXI века: Новые направления исследований / Под ред. С.И. Григорьева. М.: Интеллект, 1998.
Социология потребления. СПб., 2001.
Социология сегодня: Проблемы и перспективы (Американская буржуазная социология середины XX века) / Сост. и общ. ред. В.В. Винокурова, А.Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1965.
Спенсер Г. Личность и государство. М., 2007.
Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. М., 1998.
Староверов О.В. Отдельные модели экономической социологии. М.: Наука, 2006.
Стивенсон Р.Л. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. М.: АСТ, 2003.
Структурно-функциональный анализ в совре-менной социологии. Информационный бюлле-тень ССА и др. № 6. Вып. 1. Серия: переводы и рефераты. М., 1968.
Сырых В.М. Социология права: Учеб. пособие. М., 2001.
Тан-Богораз В.Г. Распространение культуры на земле. Основы этнографии. М., 1928.
Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступления толпы. М.: Инфра-М, 2008.
Тард Г. Происхождение семьи и собственности. М.: УРСС, 2007.
Тард Г. Социальная логика. М., 1996.
Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. 2-е изд., испр. М.: NOTA BENE, 1999.
Тэйлор Э.Б. Введение к изучению человека и цивилизации: (Антропология). М., 1924.
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.
Терборн Г. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая деятельность: объяснение в социологии и социальной науке // THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и система. Альманах. Научный метод. М., 1994. Т. 2. Вып. 4.
Тённис Ф. Общность и общество. СПб.: Владимир Даль, 2002.
Тихомиров Л. Монархическая государственность. Мюнхен, 1923.
Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский мир, 1997.
Тишков В.А. Реквием по этносу. М.: Наука, 2003.
Тишков В. О нации и национализме // Свободная мысль. 1996. № 3.
Тойнби А. Постижение истории. М., 1991.
Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М.; СПб., 1985.
Токвилль А. де. Демократия в Америке. М., 1992.
Томсон Д.Л. Социология: Вводный курс / Д.Л. Томсон, Д. Присти. Львов; М., 1998.
Тоталитаризм в Европе ХХ в. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. М., 1996.
Тоффлер О. Эра смещения власти // Философия истории: Антология. М., 1994.
Тощенко Ж.Т. Возможна ли новая парадигма социологического знания? // Социол. исслед. 1991. № 7.
Тощенко Ж.Т. Методологические проблемы социологии как основа построения курса // Социол. исслед. 1993. № 10.
Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс: Учеб. пособие. М., 1998.
Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М., 2000.
Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.
Угроза ислама — угроза исламу? Материалы конференции. М., 2001.
Устрялов Н.В. Национал-большевизм. М., 2003.
Ушакин С.А. Речь как политическое действие // Полис. 1995. № 5.
Федорова М.М. Модернизм и антимодернизм во французской политической мысли XIX века. М., 1997.
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.
Феминизм: перспективы социального знания / Под ред. О. Ворониной. М., 1992.
Феномен восточного деспотизма: структура общества и власти (отв. ред. Н.А. Алексеев). М., 1993.
Феофанов К.А. Никлас Луман и функционалистская идея ценностно-нормативной интеграции: конец вековой дискуссии // Социол. исслед. 1997. № 3.
Ферреоль Ж. Социология: Терминологический словарь: Пер. с фр. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003.
Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983.
Филиппов Л.И. Структурализм (Философские аспекты) // Буржуазная философия XX века. М., 1974.
Филиппов Л.И. Структурализм и фрейдизм // Вопросы философии. 1976. № 3.
Фихте И.Г. Избранные сочинения. М., 1916.
Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М., 1990.
Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
Фрагменты ранних греческих философов / Отв. ред. И.Д. Рожанский. М.: Наука, 1989.
Французское Просвещение и революция / М.А. Киссель, Э.Ю. Соловьев, Т.И. Ойзерман и др. М.: Наука, 1989.
Фрейд З. Введение в психоанализ. М., 1989.
Фрейд З. Вопросы общества и происхождение религии. М., 2008.
Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. М., 1925.
Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989.
Фрейд З. Толкование сновидений. Минск, 1997.
Фрейд З. Тотем и табу. М., 1923.
Фрейд З. Я и Оно. Л., 1924.
Фридман М. Капитализм и свобода. М., 2006.
Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать. М., 2007.
Фролов С.С. Социология: Учебник. 3-е изд., доп. М., 2000.
Фролов С.С. Социология: сотрудничество и конфликты: Учеб. пособие. М., 1997.
Фролов С.С. Социология организаций: Учебник. М., 2001.
Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.
Фромм Э. Психоанализ и культура. М., 1995.
Фроянов И.Я. Драма Русской Истории. СПб., 2007.
Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Былинная история: Работы разных лет. СПб.: Изд-во СПбУ, 1997.
Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1980.
Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.
Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996.
Фуко М. Герменевтика субъекта // Социо-Логос. М., 1991. № 1.
Фуко М. Забота о себе. История сексуальности. Киев, 1998.
Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и интервью, 1970–1984. М., 2006.
Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности. СПб., 2004.
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997.
Фуко М. Жизнь: опыт и наука // Вопросы философии. 1993. № 5.
Фуко M. Надзирать и наказывать. M., 1999.
Фуко М. Ницше, генеалогия, история // Ступени. 2000. № 1 (11).
Фуко М. Правительственность (идея государственного интереса и ее генезис) // Логос. 2003. № 4–5.
Фуко М. Рождение клиники. М., 1998.
Фуко М. Слова и вещи. М., 1977.
Фуко M. Что такое Просвещение // Вопросы методологии. 1995. № 1–2.
Фуко М. Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999.
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2004.
Фукуяма Ф. Америка на распутье: Демократия, власть и неоконсервативное наследие. М., 2007.
Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI в. М., 2006.
Хабермас Ю. Модерн незавершенный проект // Вопросы философии. 1992. № 4.
Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993.
Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
Хайдеггер М. О существе понятия в «Физике» Аристотеля. М., 1995.
Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Избранные статьи позднего периода творчества. М.: Высш. шк., 1991.
Хайдеггер М. Статьи и работы разных лет. М.: Гнозис, 1993.
Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. Томск: Водолей, 1997.
Хайдеггер М. Что это такое — философия? Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1992.
Хайдеггер М. Положение об основании / Лаб. метафиз. исслед. при филос. фак. СПбГУ. СПб.: Алтейя, 1999.
Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1997.
Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001.
Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина. СПб.: Академический Проект, 2003.
Хайдеггер М. Ницше. Т. 1–2. СПб.: Владимир Даль, 2006–2007.
Хайдеггер М. Ницше и пустота. М.: Алгоритм; Эксмо, 2006.
Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М.: Русское феноменологическое общество, 1997.
Хайдеггер М. Парменид: [Лекции 1942–1943 гг.]. СПб.: Владимир Даль, 2009.
Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М.: Академический Проект, 2007.
Хайдеггер М. Что такое метафизика? М.: Академический Проект, 2007.
Хайек Ф. Дорога к рабству. М., 1999.
Хайек Ф. Судьбы либерализма в XX веке. М., 2009.
Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980.
Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолидации // Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 6.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и переделка миропорядка // Pro et Contra. М., 1997.
Хардт М., Негри А. Империя. М.: Праксис, 2004.
Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи. М., 2006.
Хаусхофер К. О геополитике: Работы разных лет. М.: Мысль, 2001.
Хейзинга Й. Homo Ludens: Опыт определения игрового элемента культуры. М., 1992.
Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988.
Хейс Д. Причинный анализ в социологических исследованиях. М., 1981.
Хомский Н. Новый военный гуманизм: Уроки Косова. М., 2002.
Хомский Н. Картезианская лингвистика. Глава из истории рационалистической мысли. М., 2005.
Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.; СПб.: Медиум; Ювента, 1997.
Цеткин К. Ленин и освобождение женщины. М., 1925.
Цеткин К. Женский вопрос. Гомель, 1925.
Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989.
Чаттерджи С., Датта Д. Древняя индийская философия. М., 1954.
Челлен Р. Государство как форма жизни. М.: Роспэн, 2008.
Чепарухин В.В. В.Э. Ден и современная Россия // Известия РГО. 1994. № 2.
Чернышевский Н.Г. Что делать? М., 1969.
Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924.
Чижевский А.Л. Теория гелиотараксии. М., 1980.
Чуковский К. Сказки. М., 2006.
Шарков Ф.И. Социология массовой коммуникации: Учеб. пособие: В 2 ч. Ч. 1: Техника и технология сбора и обработки информации. М., 2003.
Шеллинг Ф.В.И. Соч.: В 2 т. М., 1987. Т. 1.
Шереги Ф.Э. Социология политики: приклад. исслед. М.: Центр соц. прогнозирования, 2003.
Широкогоров С.М. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Шанхай, 1923.
Шмитт К. Диктатура: от истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. СПб., 2005.
Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. М., 2006.
Шмитт К. Новый номос земли // Элементы. 1993. № 3.
Шмитт К. Планетарная напряженность между Востоком и Западом // Элементы. 1997. № 8.
Шмитт К. Политическая теология. М., 2000.
Шмитт К. Политический романтизм. М., 2006.
Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 1.
Шмитт К. Эпоха деполитизаций и нейтрализаций // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 1.
Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. Иерусалим, 1989.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1993. Т. 1, 2.
Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993.
Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002.
Шпанн О. Философия истории. СПб., 2005.
Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. М., 1927.
Штернберг Л.Я. Первобытная религия. Л., 1936.
Штирнер М. Единственный и его собственность. СПб.: Азбука, 2001.
Штомпка П. Много социологий для одного мира // Социол. исслед. 1991. № 2.
Штраусс Л. Что такое политическая философия? // Зарубежная политическая мысль XX в. М., 1997.
Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007.
Шуон Ф. Очевидность и тайна. М., 2007.
Эвола Ю. Люди и руины; Критика фашизма: Взгляд справа. М., 2007.
Эвола Ю. Метафизика пола. М., 1996.
Эвола Ю. Мистерия Грааля // Милый Ангел. 1990. № 1.
Эвола Ю. Оседлать тигра. СПб., 2005.
Эвола Ю. Пришествие «пятого сословия» // Элементы. 1994. № 5.
Эвола Ю. «Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера. СПб., 2005.
Эвола Ю. Фашизм: критика справа. М., 2005.
Эвола Ю. Языческий Империализм. М., 1994.
Эйзенштадт М. Революция и преобразование обществ: Сравнительное изучение цивилизаций. М., 1999.
Элиаде М. Азиатская алхимия. М., 1998.
Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2005.
Элиаде М. Залмоксис, исчезнувший бог // Бронзовый Век. 1998. № 22.
Элиаде М. История веры и религиозных идей. М., 2001.
Элиаде М. Йога: бессмертие и свобода. СПб., 2004.
Элиаде М. Король и коронация // Элементы. 1996. № 8.
Элиаде М. Космическое обновление // Конец света / Под ред. А.Г. Дугина. М.: Арктогея, 1998.
Элиаде М. Космос и история. М., 1987.
Элиаде М. Миф о вечном возвращении. М., 2000.
Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М., 1996.
Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 2000.
Элиаде М. Оккультизм, колдовство и моды в культуре. Киев, 2002.
Элиаде М. Религии Австралии. СПб., 1998.
Элиаде М. Священное и мирское. М., 1995.
Элиаде М. Священные тексты народов мира. М., 1998.
Элиаде М., Кулиано И. Словарь религий, обрядов и верований. М.; СПб., 1997.
Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М., 2002.
Элиаде М. Трактат по истории религий: В 2 т. СПб., 2000.
Элиаде М. Шаманизм. Киев, 1998.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 2009.
Энциклопедия постмодернизма / Сост. А.А. Грицанов, М.А. Можейко. Минск, 2001.
Эразм Роттердамский. Похвала глупости. М., 1991.
Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. М., 1998.
Юдин Ю.И. Русская бытовая сказка. М.: Академия, 1998.
Юнг К.Г. AION. Исследование феноменологии самости. М., 1997.
Юнг К.Г. Mysterium coniunctions. М.; Киев, 1997.
Юнг К.Г. Алхимия снов. СПб., 1997.
Юнг К.Г. Аналитическая психология. Прошлое и настоящее. М., 1997.
Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1987.
Юнг К.Г. Бог и бессознательное. М., 1998.
Юнг К.Г. Божественный ребенок. М., 1997.
Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. Киев, 1994.
Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996.
Юнг К.Г. Дух Меркурия. М., 1996.
Юнг К.Г. О современных мифах. М., 1994.
Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. СПб., 2002.
Юнг К.Г. Психологические типы. СПб., 1996.
Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1994.
Юнг К.Г. Психология и алхимия. М., 1997.
Юнг К.Г. Синхронистичность. М., 1997.
Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуации. М., 1996.
Юнг К.Г. Тавистокские лекции. Киев, 1995.
Юнг К.Г. Человек и его символы. СПб., 1996.
Юнгер Э. Националистическая революция. М.: Скименъ, 2008.
Юнгер Э. Рабочий и гештальт. М.: Наука, 2002.
Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, методы. М.: Наука, 1987.
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. М.: Добросвет; Книжный дом «Университет», 1998.
Ядов В.А. Социология в современной России // Социология. 1996. № 12.
Якобсон Р.О. Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии // VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. М., 1970. Т. 5.
Яковец Ю.В. Формирование постиндустриальной парадигмы: истоки и перспективы // Вопросы философии. 1997. № 1.
Яновская С.А. Методологические проблемы науки. М., 1972.
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
БИБЛИОГРАФИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
Adam B. Time in Social Theory. Philadelphia: Temple University Press, 1990.
Apocalypse Culture edited by Adam Parfrey. Los Angeles, 1988.
Bachelard G. L'Air et les songes: essai sur l'imagination du mouvement. J. Corti, 1943.
Bachelard G. L'Eau et les rêves : essai sur l'imagination de la matière. J. Corti, 1942.
Bachelard G. Le nouvel esprit scientifique. Paris, 1934.
Bachelard G. La Psychanalyse du feu. Gallimard, 1949.
Bachelard G. La Terre et les rêveries de la volonté: essai sur l'imagination de la matière. J. Corti, 1947.
Bachelard G. La Terre et les rêveries du repos: essai sur les images de l'intimité. J. Corti, 1948.
Bachelard G. La Poétique de l'espace. PUF, 1957.
Bachelard G. La Poétique de la rêverie. PUF, 1960.
Bachofen J.J. DasMutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur. Stuttgart, 1861.
Bachofen J.J. Mutterrecht und Urreligion. Stuttgart, 1927.
Barkun M. A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America. Los Angeles, 2003.
Bastide R. Ethnohistoire du nègre brésilien. Paris: Bastidiana, 1993.
Bastide R. Les Amériques noires. Paris: Éditions L'Harmattan, 1996.
Bastide R. Les Religions africaines au Brésil. Paris: Presses universitaires de France, 1995.
Bastide R. O Candombé da Bahia. Sao Paolo: Companhia das Letras, réédité en 2001.
Bastide R. Poètes et Dieux. Études afro-brésiliennes. Paris: Éditions L'Harmattan, 2002.
Beggs D. Postliberal Theory // Ethical Theory and Moral Practice. Vol. 12. No. 3. Springer Netherlands, 2008.
Bell D. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. N.Y., 1965.
Bergmann W. The Problem of Time in Sociology // Time & Society. Vol. 1. No. 1, 81–134 (1992).
Bonaparte M. Chronos, Eros, Thanatos. Paris, 1952.
Boulainvilliers H. de. Histoire de l'anciein gouvernement de la France. T. 1–3. La Haye; Amst., 1727.
Braudel F. Le Temps du Monde. Armand. Colin. 1979. T. III.
Bultmann R. Kerygma und Mythos. Bd. 1–5. Hrsg. von H.-W. Bartsch. Hamburg, 1948–1955.
Caillos R. Le mythe et l'homme. Gallimard, 1938.
Clark G. Space, Time and Man. A Prehistorian's View. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Cooper R. Corporate Treasury and Cash Management. Palgrave Macmillan, 2004.
Corbin H. Le paradoxe du monothéisme. Рaris: L'Herne, 1981.
Corbin H. Temps cyclique et gnose ismaélienne. Paris, 1982.
Corbin H. Face de Dieu, face de l'homme. Paris: Flammarion, 1983.
Corbin H. L'Alchimie comme art hiératique. Paris: L'Herne, 1986.
Corbin H. Philosophie iranienne et philosophie comparée. Paris: Buchet/Chastel, 1979.
Corbin H. Corps spirituel et Terre céleste: de L'Iran mazdéen à l'Iran shî'ite. 2e éd. entièrement révisée. Paris: Buchet/Chastel, 1979.
Corbin H. Histoire de la philosophie islamique. Paris: Gallimard, 1964.
Corbin H. En Islam iranien: aspects spirituels et philosophiques. 2e éd. Paris: Gallimard, 1978. Vol. 4.
Corbin H. L'Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn'Arabî. 2e éd. Paris: Flammarion, 1977.
Corbin H. Temple et contemplation. Paris: Flammarion, 1981.
Corbin H. L'homme de lumière dans le soufisme iranien. 2e éd. Paris: Éditions Présence, 1971.
Deraism M. Eve dans l'humanité, articles et conférences de Maria Deraismes, Préface d'Yvette Roudy. Angoulême, 2008.
Dumezil G. Heur et malheur du guerrier: aspects mythiques de la fonction guerrière chez les Indo-Européens. Flammarion, 1996.
Dumezil G. Les Dieux des Indo-europeens. Paris, 1952.
Dumezil G. Loki. Paris: Flammarion, 1995.
Dumezil G. Mythe et épopée. I, II, III. Paris, 1995.
Dumezil G. Esquisses de mythologie: Apollon sonore — La Courtisane et les seigneurs colorés — L'Oubli de l'homme et l'honneur des dieux — Le Roman des jumeaux, Collection Quarto.Gallimard, 2003.
Durand G. Beaux-arts et archétypes. La religion de l’art. Paris: PUF, 1989.
Durand G. Champs de l'imaginaire. Grenoble: ELLUG, 1996.
Durand G. Figures mythiques et visages de l'oeuvre: de la mythocritique à la mythanalyse. Paris: Dunod, 1992.
Durand G. L'imaginaire. Essai sur les sciences et la philosophie de l'image. Paris: Hatier (Optiques), 1994.
Durand G. L'imagination symbolique. Paris: PUF, 1964.
Durand G. Introduction à la mythodologie. Paris: Albin Michel, 1996.
Durand G. La Foi du cordonnier. Paris: Denoël, 1984.
Durand G. L'Âme tigrée. Paris: Denoël, 1980.
Durand G. Le Décor mythique de la Chartreuse de Parme. Paris: José Corti, 1961.
Durand G. Les Mythes fondateurs de la franc-maçonnerie. Paris: Dervy, 2002.
Durand G. Sciences de l’homme et tradition. Le nouvel esprit anthropologique. Paris: Albin Michel, 1975.
Durand G. Les Structures anthropologiques de l'imaginaire. Paris, 1960.
Durand Y. Une technique d’étude de l’imaginaire.Paris: L’Harmattan, 2005.
Durkheim E. Les formes e elementaries de la vie religieuse. Paris, 1960.
Durkheim E. The Elementary Forms of the Religious Life. New York: Free Press, 1965.
Eliade M. L'Epreuve du Labyrinthe. Paris, 2006.
Everett D. Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pirahã // Current Anthropology.Vol. 46. No. 4. August–October. 2005.
Evola J. Cavalcare la tigre. Milano: Vanni Scheiwiller, 1961.
Evola J. La dottrina del risveglio. Milano, 1965.
Evola J. L’arco e la clava. Roma, 1995.
Evola J. La Rivolta contro il mondo moderno. Roma, 1998.
Evola J. La tradizione ermetica. Roma, 1971.
Evola J. L’imperialismo pagano. Bari, 1924.
Evola J. Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo. Roma, 1971.
Evola J. Metafisica del sesso. Roma, 1994.
Evola J. Mistero del Graal. Roma, 1994.
Evola J. Orientazione. Bari, 1956.
Evola J. Rivolta contro il mondo moderno. Milano: Hoepli, 1934.
Evola J. Scritti sulla massoneria. Roma, 1984.
Evola J. Teoria dell’Individuo assoluto. Roma, 1974.
Evola J. Yoga della potenza. Roma, 1995.
Franck G. How time passes. On conceiving time as a process // The Nature of Time: Geometry, Physics and Perception / Ed. by R. Buccheri, M. Saniga and W.M. Stuckey. Dodrecht: Kluwer, 2003.
Friedman J. The Past in the Future: History and the Politics of History // American Anthropologist. 1992. 94(4).
Frobenius L. Die Geheimbünde Afrikas. Hamburg, 1894.
Frobenius L. Weltgeschichte des Krieges. Hannover, 1903.
Frobenius L. Unter den unsträflichen Athiopen. Berlin, 1913.
Frobenius L. Paideuma. Münich, 1921.
Frobenius L. Dokumente zur Kulturphysiognomik. Vom Kulturreich des Festlandes. Berlin, 1923.
Frobenius L. Erythräa. Länder und Zeiten des heiligen Königsmordes. Berlin, 1931.
Frobenius L. Kulturgeschichte Afrikas. Zürich, 1933.
Gell A. The Anthropology of Time. Cultural Construction of Temporal Maps and Images. Oxford; Providence: Berg, 1992.
Gentile G. Introduzione alia filosofia. Firenze: Sansoni, 1952.
Gentile G. La riforma della dialettica hegeliana. Firenze: Sansoni, 1975.
Gentile G. Che cosa с il fascismo: discorsi e pole-miche. Firenze: Vallecchi, 1925.
Gide A. Le Prométée mal enchainé. Paris, 1899.
Giddens A. Central Problems in Social Theory. London: Macmillan, 1979.
Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990.
Goody J. Time: Social Organization [1968] // D.L. Sills (ed.). International Encyclopedia of Social Scences 16. New York: Macmillan, 1991.
Gosden Ch. Social Being and Time. Oxford: Blackwell, 1994.
Guenon R. Apercus sur l'Initiation. Paris, 1985.
Guenon R. Autorite spirituelle et pouvoir temporel. Paris, 1976.
Guenon R. Lés Etudes Sur La Franc-Maçonnerie. Et Le Compagnonnage. T. 1–2. Paris, 1999.
Guenon R. L'esoterisme de Dante. Paris, 1925.
Guenon R. Formes traditionnelles et cycles cosmiques. Paris, 1970.
Guenon R. Introduction generale а l'etude des doctrines hindoues. Paris, 1964.
Guenon R. La Franc-Maconnerie et le Compannonage. Paris, 1975.
Guenon R. La Grande Triade. Paris, 1995.
Guenon R. L'Homme et son devenir selon le Vedanta. Paris, 1974.
Guenon R. Le Regne de la Quantite et les Signes des Temps. Paris, 1970.
Guenon R. Le roi du monde. Paris, 1973.
Guenon R. Le Symbolisme de la Croix. Paris, 1996.
Guenon R. Les etats multiples de l'etre. Paris, 1984.
Guenon R. Les Principes du Calcul Infinitesimal. Paris, 1973.
Guenon R. Melanges. Paris, 1976.
Guenon R. Orient et Occident. Paris, 1976.
Guenon R. Symboles fondamentaux de la Science sacree. Paris, 1962.
Gumplowicz L. Der Rassenkampf: Sociologische Untersuchungen. Innsbruck, 1883.
Günter H.F. Rasse und Stil. Gedanken uber ihre Beziehungen im Leben und in der Gesitesgeschichte der europeischen Volker. Munich, 1926.
Gurvitch G. The Spectrum of Social Time. Dordrecht: Reidel, 1964.
Gurvitch G. Traite de sociologie. Paris: PUF, 1960.
Haraway D. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century, 1985.
Hastrup K. Presenting the Past. Reflections on Myth and History. 1987. Folk 29.
Heidegger M. Sein und Zeit. Tubingen, 2006.
Hill J.D. Introduction: Myth and History // J.D. Hill (ed.). Rethinking history and myth: indigenous South American perspectives on the past. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1988.
Holtorf C.J. Towards a Chronology of Megaliths: Understanding Monumental Time and Cultural Memory // Journal of European Archaeology. 4. 1996.
Howe L.E.A. The social determination of knowledge: Maurice Bloch and Balinese time. Man (N.S.) 16. 1981.
Hughes D.O., Trautmann Th.R. (eds.). Time. Histories and Ethnologies. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995.
Hugo V. La Fin de Satan. Paris, 1886.
Husserl E. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins / Ed. R. Bohm. The Hague: M. Nijhoff, 1905.
Jonker G. The Topography of Remembrance. The Dead, Tradition and Collective Memory in Mesopotamia. Leiden etc.: Brill, 1995.
Julian Th. Time, Culture and Identity. An interpretive archaeology. London: Routledge, 1996.
Jung E.J. Die Herrschaft der Minderwertigen. Berlin, 1930.
Karlsson H. (еd.). It's about Time. The Concept of Time in Archaeology. Göteborg: Bricoleur Press, 2000.
Klages L. Der Geist als Widersacher der Seele. Berlin, 1929.
Lagarde P.A. de. Ueber das Verhältniss des deutschen Staates zu Theologie. Kirche und Religion. Gott., 1873.
Lapouge G.V. L’Aryen, son role social, cour libre de science politique, protesse l’Universite de montpellier (1889–1890). Paris: A. Fontemoing, 1899.
Lapouge G.V. Race et milieu social: essous d’anthroposociologie. Paris, 1909.
Leenhardt M. Do Kamo la personne et le mythe dans le monde melanesien. Paris, 1947.
Levine R. A geography of time. New York: Basic Books, 1997.
Levine R., Wolff E. Social time: The heartbeat of culture // E. Angeloni (еd.). Annual editions in anthropology 88/89. Guilford, CT: Dushkin, 1988.
Levi-Strauss С. La pensee sauvage. Paris, 1962.
Levi-Strauss C. Les Structures elementaires de la parenté. Paris, 1949.
Lévy B.-H. L'idéologie française. Paris, 1981.
Linton R. The study of man. New York; London: D. Appleton-Century Company, incorporated, 1936.
Mackinder J.H. The Geographical Pivot of History // Geographical Journal. London, 1904.
Mackinder J.H. The Round Planet and the winning of the Peace, 1943.
Martino E. de. Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo. Torino, 1997.
Maffesoli M. Apocalypse. Paris, 2009.
Maffesoli M. La Conquête du present. Pour une sociologie de la vie quotidienne. Paris, 1979.
Maffesoli M. La Dynamique sociale. La societe conflictuelle. Thèse d'Etat, Lille, Service des publications des theses, 1981.
Maffesoli M. (dir.). La Galaxie de l’imaginaire. Derive autour de l’œuvre de Gilbert Durand. Paris: Berg international, 1980.
Maffesoli M. Le Temps des tribus. Paris, 1988.
Maffesoli M. L'Ombre de Dionysos. Paris, 1982.
Maistre J. de. Les Soirees de Saint-Pétersbourg. Paris: Guy Tredaniel-editions de la Maisnie, 1991.
Mead G.H. The Individual and the Social Self: Unpublished Essays. Chicago. University of Chicago Press, 1982.
Mead M. Sex and Temperament in Three Primitive Societies. New York, 1935.
Mills C.W. Sociological Imagination. New York: Oxford University Press, 1959.
Mittag A. Zeitkonzepte in China // K.E. Müller, J. Rüsen (eds.). Historische Sinnbildung. Problemstellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien. Reinbek: Rowohlt, 1997.
Moore W.E. Man, Time, and Society. New York: Wiley, 1963.
Mosca G. Element did sienna political. Rome, 1895.
Müller K.E. Zeitkonzepte in traditionellen Kulturen // K.E. Müller, J. Rüsen (eds.). Historische Sinnbildung. Problemstellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien. Reinbek: Rowohlt, 1997.
Munn N.D. The cultural anthropology of time: a critical essay. Annual Review of Anthropology. 21. 1992.
Newmann D. Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life Thousand Oaks. CA: Pine Forge Press, 2006.
Nisbet R. Social Change and History. New York: Oxford University Press, 1969.
Nisbet R. History of the Idea of Progress. New York: Basic Books, 1980.
Parsons T. Toward a General Theory of Action. New York: Harper & Row, 1951.
Parsons T. The Social System. Glencoe: Free Press, 1964.
Parsons T. Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1966.
Parsons T. The System of Modern Societies. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1971.
Pauli Wolfgang and C.G. Jung. Ein Briefwechsel 1932–1958. Berlin: Springer Verlag, 1992.
Piganiol A. Essai sur les origines de Rome. Paris, 1917.
Radin P. Monotheism among Primitive Peoples. London, 1924.
Radin P. Social Anthropology. New York, 1932.
Radin P. The World of Primitive Man. The Life of Science Library. No. 26. New York, 1953.
Rahn O. Lucifer's court. Rochester, 2008.
Rand A. Anthem. Los Angeles: Pamphleteers, Inc., 1946.
Rand A. For the New Intellectual: The Philosophy of Ayn Rand. New York: New American Library, 1961.
Rand A. The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism. New York: New American Library, 1964.
Rand A. The Voice of Reason: Essays in Objectivist Thought. New York: Meridian, 1990.
Rand A. We The Living. New York: Macmillan, 1936.
Rappaport J. The Politics of Memory: Native historical interpretation in the Colombian Andes. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
Ratzel K. Anthropogeographie. Stuttg., 1882–1891. Bd. 1–2.
Ratzel K. Politische Geographic. Munch.; Lpz., 1897.
Ratzel K. Raum und Zeit in Geographie und Geologie: Naturphilosophische Betrachtungen / Hrsg. v. P. Barth. Lpz., 1907.
RE /Search. № 10: Incredibly Strange Films. RE/Search Publications, 1986; RE/Search. № 14: Incredibly Strange Music. Vol. I. RE/Search Publications, 1993.
Riese B. Zeitstrukturen in Mesoamerika // K.E. Müller, J. Rüsen (eds.). Historische Sinnbildung. Problemstellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien. Reinbek: Rowohlt, 1997.
Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London, 1992.
Schmitt C. Legalitat und Legitimitat. Munich, 1932.
Scholem G. Alchemy and Kabbala. Connecticut: Spring Publications, 2006.
Scholem G. Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition. New York: JTS Press, 1965.
Scholem G. Kabbala. New York: Dorset Press, 1974.
Scholem G. Major Trends in Jewish Mysticism. New York: Schocken Books, 1941.
Scholem G. The Messianic Idea in Judaism and Other Essays. New York: Schocken Books, 1971.
Scholem G. On the Kabbalah and its Symbolism. New York: Schocken Books, 1969.
Scholem G. On the Possibility of Jewish Mysticism in Our Time. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1997.
Scholem G. The Origins of Kabbala. Princeton: Princeton University Press, 1992.
Scholem G. Sabbatei Sevi: The Mystical Messiah 1626–1676. Princeton: Princeton University Press, 1973.
Schutz A. The Phenomenology of the Social World. Evanston: Northwestern University Press, 1967.
Schutz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Wien, 1932.
Shakespeare W. King Henry IV. Part 2. Kindle Edition, 2007.
Shanks M., Tilley Ch. Social Theory and Archaeology. Cambridge: Polity, 1987.
Shils E. Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
Simmel G. Philosophie des Geldes. Berlin, 1900.
Skinner B. Was ist Behaviorismus? Reinbek bei Hamburg: Rohwolt, 1978.
Sohravardi Shihaboddin Yahya. L'Archange empourpre. Paris, 1976.
Sombart W. Deutscher Sozialismus. Charlottenburg, 1934.
Sorokin P.A., Merton R.K. Social Time: A Methodological and Functional Analysis // American Journal of Sociology. 1937. No. 42.
Spykman N. Geography of peace. Harcourt Brace and Company, 1944.
Spykman N. America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power. New York: Harcourt Brace and Company, 1942.
Spykman N. The Social Theory of Georg Simmel. Chicago: University of Chicago Press, 1925.
Sztompka P. The Sociology of Social Change.Blackwell, Oxford and Cambridge, 1993.
Sztompka P. System and Function. New York: Academic Press, 1974.
Time: A social construction? // Zeit und Geschich-
te / Time and History, Beiträge der österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft / Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. Bd. / vol. XIII, hg. von / ed. by Friedrich Stadler & Michael Stöltzner. Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2005.
Tiryakian E.A. Collective effervescence, social change and charism: Durkheim, Weber and 1989 / International Sociology. Vol. 10. No. 3. 1995.
Tiryakian E. A Model of Social Change and Its Lead Indicators. In The Study of Total Societies edited by S. Klausner. Garden City; N.Y.: Anchor, 1967.
Toulmin S., Goodfield J. The Discovery of Time. London: Hutchinson, 1965.
Tracy D.A. de. Elements d'ideologie: ideologie proprement dite. Paris, 1995.
Turner T. Ethno-Ethnohistory: Myth and History in Native South American Representation of Contact with Western Society // J.D. Hill (ed.). Rethinking history and myth: indigenous South American perspectives on the past. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1988.
Volmat R. L'art psychopatologique. Paris, 1956.
Walras M.-E.-L. Elements of Pure Economics, or the theory of social wealth. London, 1954.
Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Tübingen, 1976.
Wendorff R. Zeit und Kultur: Geschichte des Zeitbewußtseins in Europa. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1985.
Whorf B. Language, thought and reality. Cambridge, MA: MIT Press, 1956.
Wirth H. Der Aufgang der Menschheit. Jena, 1928.
Wirth H. Die Heilige Urschrift der Menschheit.Leipzig, 1936.
Zerubavel E. Hidden Rhythms: Schedules and Calendars in Social Life. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
Zerubavel E. The Seven Day Circle: The History and Meaning of the Week. New York: Free Press, 1985.
SUMMARY
The tutorial for sociological course on the «sociology of imagery». The principles and methodes of the double hermeneutics (simultaniously sociological and psychoanalytical, based on Jungian school) are exposed and applied to the study of classical sociological subjects, such as society, man, social processes and structures, stratification, gender, ethnos, ideology, politics and political systems, social perception of space and time. The theories of French sociologist Gilbert Durand (the three groups of archetypes — «diurne», «dramatical nocturne», «mystical nocturne») are for the first time introduced to the russian sociological society, deeply explored and used to interprete the different social phenomena. The concept of «imagery» is described and regarded as a priori to the the distiction between the imaginating person and imaginated thing. As the antropological center of sociology of the imagery the concept of the «traject» is invoked (the middle position between the subject and the object). The changes in the undestanding of time, space, man, society, power, gender and so on are studied in that connection with the transition from one type of the society to another. In the last chapters the innovative methode of studing of the Post-modern society is elaborated and explained, which consists in the observation of the chain of transition «the mythos–the logos–the logics–the logistics–the logem». Each chapter is supplied with the questions on self control.
Научное издание
Дугин Александр Гельевич
СОЦИОЛОГИЯ ВООБРАЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРНУЮ СОЦИОЛОГИЮ
Компьютерная верстка
Т.В. Исакова
Корректор
Т.Ю. Коновалова
ООО «Академический Проект»
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.
Санитарноэпидемиологическое заключение
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
№ 77.99.60.953.Д.005771.05.09 от 26.05.09.
ООО «Трикста»
111399, Москва, ул. Мартеновская, д. 3
По вопросам приобретения книги просим обращаться
в ООО «Трикста»:
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3
Тел.: (495) 305 3702; 305 6092; факс: 305 6088
Email: info@aprogect.ru
Интернет-магазин: www.aprogect.ru
Подписано в печать 12.05.10.
Формат 70100/16. Гарнитура BalticaC.
Бумага писчая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 45,4.
Тираж 1000 экз. Заказ № .
Отпечатано с электронного файла издательства
в ОАО «Областная типография “Печатный двор”»
432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 27.
КНИГА — ПОЧТОЙ
Издательскокниготорговая фирма
«ТРИКСТА»
предлагает заказать и получить по почте книги
следующей тематики:
психология
философия
история
социология
культурология
учебная и справочная литература
по гуманитарным дисциплинам
для вузов, лицеев и колледжей
Прислав маркированный конверт с обратным адресом,
Вы получите каталог, информационные материалы
и условия рассылки.
Наш адрес:
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3,
ООО «Трикста»
Заказать книги можно также по
тел.: (495) 3053702, факсу: 305-60-88
по электронной почте:
e-mail: info@aprogect.ru
или в интернет-магазине
Просим Вас быть внимательными и указывать полный
почтовый адрес и телефон/факс для связи.
С каждым выполненным заказом Вы будете получать
информацию о новых поступлениях книг.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!
Издательство
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»
представляет:
Дугин А.Г.
МАРТИН ХАЙДЕГГЕР: ФИЛОСОФИЯ ДРУГОГО НАЧАЛА
В книге известного российского философа, политолога и социолога А. Дугина представлено изложение концепции истории философии Мартина Хайдеггера на основе его малоизученных произведений среднего периода (1936–1945). По Хайдеггеру, западноевропейская философия подошла к своему логическому концу. Отныне открывается перспектива «другого Начала» философии, либо «конец истории».
Издательство
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»
представляет:
Дугин А.Г.
ЛОГОС И МИФОС. СОЦИОЛОГИЯ ГЛУБИН
Издание представляет собой введение в социологию глубин, разработанную автором на основании теории французского социолога Жильбера Дюрана. Исследования проведены с использованием методологии социологии воображения, основанной на наложении друг на друга пластов социального логоса и социальных мифов, что позволяет углубленно анализировать социальные процессы и закономерности современной России.
